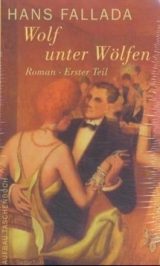
Текст книги "Волк среди волков"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
– Ты сегодня не забыла про дедушкиных гусей? – слышит Губерт голос фрау фон Праквиц.
Фрау Эва фон Праквиц – очень эффектная женщина, может быть, чуть-чуть полна, но это замечаешь, только когда видишь ее рядом с долговязым, тощим ротмистром. В ней – вся чувственная прелесть женщины, которая довольна тем, что она женщина, которая счастлива быть женщиной, к тому же любит сельскую жизнь, и эта жизнь словно дарит ее неисчерпаемой свежестью за ее любовь.
Вайо строит укоризненную гримасу.
– Да ведь была гроза, мама!
Губерт понимает: барышня Виолета сегодня строит из себя маленькую девочку. Это она любит, особенно после того, как выкинет какой-нибудь номер совсем для взрослых. Так у ее родителей не появится ошибочных, то есть, собственно, правильных мыслей.
– Я тебя в самом деле прошу, Виолета, – отвечает фрау фон Праквиц, хорошенько присматривай за дедушкиными гусями. Ты же знаешь, как папа сердится, когда гуси заходят в нашу вику. А гроза началась только в шесть!
– Будь я гусем, мне бы тоже не хотелось торчать в дедушкином старом сыром парке с прелой травой, – заявила Вайо; она все еще дуется. По-моему, в парке воняет.
Лакея Губерта, которому известно, как часто и охотно барышня тайком гуляет в парке своего деда, приводит в восхищение предусмотрительная наивность этого ответа.
– Вайо! «Воняет», да еще за столом! – Взгляд хозяйки, спокойный и улыбающийся, скользит по лакею Редеру – на лице его безупречное выражение, хотя лицо это уже старовато и в морщинах.
– Что поделаешь, мама, я туда не хожу, по-моему, там во… пахнет падалью.
– Нет, Вайо! – Фрау Праквиц энергично стучит вилкой по столу. Довольно! Я нахожу, что тебе действительно пора быть повзрослее.
– Ты находишь, мама? А ты была уже повзрослее, когда была в моем возрасте?
И хотя Вайо задает свой вопрос с безмятежно ясным и вполне невинным лицом, лакей Редер все же спрашивает себя, не услышала ли эта маленькая шельма каких-нибудь разговоров насчет былых шалостей госпожи мамаши. Ведь болтают же насчет какого-то крестьянского парня, которого тайный советник будто бы вышвырнул из окна дочкиной спальни. Может быть, это даже и правда, во всяком случае Губерт находит, что следующий барынин вопрос имеет прямое отношение к этим слухам.
– Скажи, пожалуйста, о чем ты сегодня так долго разговаривала с Мейером? – спрашивает она.
– Ох! – пренебрежительно восклицает Вайо и опять делает гримасу. Противный Мейер-губан! – Она вдруг смеется. – Представь, мама, говорят, все девушки и женщины в деревне за ним бегают, – а ведь он такой безобразный, как… ах, не знаю, ну, как старый Абрам (Абрам – козел, которого, по старинному поверью кавалеристов, держат на конюшне против всех болезней).
– Принесите сыр, Губерт! – напоминает барыня очень спокойно, но с опасным блеском в глазах.
Редер шествует прочь из столовой, хотя и не без сожаления. Барышня засыпалась, теперь ей, как бог свят, зададут головомойку. Через край хватила, уж слишком в себе уверена, барыня тоже ведь не круглая дура.
Губерт охотно послушал бы, что сейчас говорит барыня и что отвечает барышня. Но Губерт не имеет обыкновения подслушивать у дверей, он шествует прямо в кухню. Если ты парень не промах, – найдется много способов разузнать то, что тебя интересует. Подслушивание только роняет образцового лакея в глазах господ.
В кухне у кухонного стола сидит старик лесничий Книбуш, он ждет.
– Добрый вечер, господин Редер, – здоровается он очень вежливо. Ибо замкнутого, молчаливого лакея Редера почитают в имении как начальство. Отужинали?
– Сыр, Армгард! – бросает Редер и начинает устанавливать посуду на поднос. – Добрый вечер, господин Книбуш. С кем же вы хотите говорить? Господин ротмистр вернется только завтра.
– Я хотел бы повидать барыню, – осторожно поясняет лесничий Книбуш. По зрелом размышлении он решил, что выгоднее довериться старшему поколению, барышня еще слишком молода, какой от нее прок старику.
– Я доложу о вас, господин Книбуш, – ответствует Редер.
– Господин Редер! – осторожно попросил Книбуш. – Как бы устроить так, чтобы барышни Вайо при этом не было?..
Морщинистое лицо Редера стало еще морщинистей. Желая выиграть время, он накидывается на кухарку:
– Поскорее, Армгард. Сотни раз я вам говорил, чтобы вы поднос с сыром готовили до моего прихода!
– При этакой жаре? – насмехается кухарка, она ненавидит лакея. – Да все шарики масла слипнутся!
– Масло доставайте в последнюю минуту со льда. Но вы только сейчас начинаете резать сыр!.. – И, обратившись к лесничему, спрашивает вполголоса: – А почему же барышне не следует быть при этом?
Лесничий явно смущен.
– Да… знаете ли… мне казалось… ведь не все, что говоришь, полагается слышать молодым девушкам…
С неподвижным, как у идола, лицом Редер взирает на смущенного старика.
– Чего же, по-вашему, не полагается слышать молодым девушкам, господин Книбуш? – спрашивает он, не обнаруживая, однако, и тени любопытства.
Книбуш багровеет, он старается придумать какой-нибудь ответ.
– Ну, господин Редер, вы же понимаете, раз девушка так молода, и притом… ну… течка…
Редер наслаждается его растерянностью.
– Но теперь совсем не время для течки!.. – замечает он презрительно. Я уже понял. Спасибо. Мундир, мун-дир, вот в чем дело!
Он смотрит на подавленного, смущенного лесничего своими, лишенными выражения, рыбьими глазами. Затем обращается к кухарке:
– Ну скоро, Армгард? Если барыня будет сердиться, я скажу, кто тут виноват.
– Прошу ко мне не обращаться. Я с вами не разговариваю!
Взяв поднос с сыром, Редер выходит из кухни, строгий, старообразный, немного загадочный.
– Мы еще поговорим, господин Книбуш. – Он кивает и уходит, оставляя лесничего в полной неизвестности относительно его просьбы об аудиенции.
– И чего эта обезьяна так задается! – бросает ему вслед кухарка Армгард. – Не связывайтесь вы с ним, господин Книбуш! Он только выспросит вас, а потом все пересплетничает ротмистру.
– А что, он всегда такой? – осведомляется лесничий.
– Всегда! – восклицает она возмущенно. – Никогда слова ласкового не скажет ни мне, ни Лотте. А уж как важен – самого господина ротмистра за пояс заткнет. Вы думаете, он ест с нами? – И она негодующе посмотрела на лесничего, который в смущении бормотал что-то нечленораздельное. – Нет, он берет тарелку и уходит к себе… Думается, господин Книбуш, – таинственно шепчет она, – он вообще не такой, как все. У него на уме не женщины. Он…
– Ну?.. – спрашивает с любопытством лесничий.
– Нет, с этакой мразью я и дела иметь не хочу, – решительно заявляет Армгард. – Думаете, он хоть сигареты таскает у ротмистра?
– А что? Небось таскает? – допытывается старик с надеждой. – Все лакеи таскают. Элиас тоже курит сигары старого барина. Я знаю по запаху, ведь меня тайный советник нет-нет да и угостит сигарой.
– Что? Элиас таскает сигары? Ну, подожди, я ткну этим в нос старому хрычу. Сигары ворует, а меня позорит, зачем плохо вытерла ноги перед дверью замка!
– Ради бога, Армгард! Ничего не говорите ему! Нет, нет. Я ведь, может, и ошибся! – Старик даже заикается от страха. – Это, наверно, была совсем другая сигара, и потом вы сказали, что Губерт тоже курит сигареты ротмистра…
– Не говорила я этого! Я сказала как раз наоборот! Что не курит он, не пьет, у дверей не подслушивает, он себя выше всего этого считает, болван паршивый…
– Покорнейше благодарю! – раздается скрипучий голос, и оба перепуганные собеседника видят перед собой лицо лакея Редера. («Противная жабья морда!» – мысленно восклицает Армгард в ярости.)
– Значит, я, по-вашему, болван паршивый? Хорошо, когда знаешь, как к тебе относятся люди. А теперь ступайте к барыне, Армгард, она хочет с вами поговорить. Не беспокойтесь, я не наябедничал относительно вашего подноса с сыром, я вас для этого слишком презираю! Но можете сообщить ей, что вы считаете меня паршивым болваном… Идемте, господин Книбуш.
Послушно, но угнетенный всеми сложностями повседневной жизни, плетется за ним лесничий, смущенно косясь на кухарку Армгард, которая, вся побагровев, едва сдерживает слезы.
Каморка лакея Редера в подвальном этаже виллы – это узенький закуток между прачечной и чуланом для угля. Еще одна причина, почему лакей Редер возмущается лакеем Элиасом, ибо Элиас живет в верхнем этаже замка, у него настоящая большая комната с двумя окнами, уютно обставленная старой мебелью. В каморке же лакея Редера стоит только узкая железная койка, железный рукомойник, старый железный садовый стул и старый расшатанный шкаф из сосновых досок. Ничто не говорит о том, что здесь живет человек; ни одежды, ни каких-нибудь предметов домашнего обихода; полотенца с мылом – и того не видно возле умывальника: Губерт Редер моется в ванной.
– Так, – говорит лакей Редер, не закрывая, а лишь притворяя дверь. Так… можете посидеть на этом стуле, пока она придет. Тогда вы встанете и уступите ей место.
– Кто придет? – спрашивает Книбуш оторопев.
– Вы бы поменьше судачили, господин Книбуш, – замечает лакей строго и неодобрительно. – Мужчине не следует судачить, особенно с бабами.
– Я же ничего особенного не говорил, – оправдывается лесничий.
– Ей, конечно, нужно сперва умыться, ведь она ревела, – заявляет этот морщинистый идол. – А потом побывает у барыни и придет…
– Да кто придет-то? Кто побывает у барыни? – недоумевает лесничий уже в полном смятении.
– Мундир есть мундир, – поучает его лакей. – Моя ливрея, разумеется, не в счет и ваша зеленая тоже, оттого что вы всего-навсего лесничий частного лица. Будь вы государственным лесничим, опять-таки другое дело.
Книбуш растерянно соглашается.
– Да, да. Конечно… – Он все еще надеется что-нибудь понять из загадочных сентенций Редера.
– Штатский не должен вмешиваться в дела мундиров, – строго поучает лакей. Он долго раздумывает, собрав на лбу глубокие морщины.
Затем слегка приоткрывает дверь.
Он прислушивается. Кивает, подходит к лесничему и говорит вполголоса, с глубокой укоризной:
– Вы штатский, господин лесничий, а хотели вмешаться в дела мундиров.
– Да нет же! – в ужасе восклицает лесничий.
– Вы не подумали о том, господин Книбуш, – продолжает лакей, возвращаясь к своему месту у притворенной двери, – что господин тайный советник любит больше всего?
– Нет. Как так? – недоумевает лесничий. – Я вообще не понимаю, куда вы клоните, господин Редер.
– Уж будто не понимаете?
– Нет. Свой лес, вероятно?
Лакей кивает.
– Да, при жизни он лес отдавать не хочет. А кому он завещает его после смерти?
Редер с ожиданием смотрит на лесничего.
– Есть старая барыня, есть сын в Бирнбауме, – задумчиво перечисляет лесничий. – А здесь имеется господин ротмистр…
Он задумался.
– Ну, так кому же он все-таки завещает лес? – снисходительно вопрошает лакей: так задают отстающему школьнику уж совсем легкий вопрос. – Или его лес можно поделить на две части? На три?
– Поделить его лес? – Лицо Книбуша выражает глубокое презрение. – Нет, уж это вы оставьте, господин Редер! Да он из гроба встанет и межевые столбы повалит, если после его смерти лес поделят. Только, наверное, он уже все написал, как быть с лесом.
– Так кому же он его, по-вашему, оставит, господин Книбуш? – упорно выпытывает лакей. – Может быть, старой барыне?
– Ну уж нет! Она же всегда уверяет, что боится гулять в лесу из-за змей. Нет, господин Редер, об ней и говорить не приходится.
– Или тому, в Бирнбауме?
– Тоже не думаю… Он вечно ругает сына, что тот больно шикует и требует денег, а теперь еще купил себе гоночный автомобиль… От долгов удрать хочет… Это старик намедни так бранился…
– Значит, насчет гоночного автомобиля старому барину тоже известно, размышляет вслух лакей. – А ведь наверняка это вы ему рассказали, господин Книбуш!
Лесничий вспыхнул, он намерен протестовать, однако Губерт решительно игнорирует его.
– Значит, лес унаследует барыня, там наверху, – заявляет он и указывает большим пальцем в потолок.
– При том, что старик терпеть не может господина ротмистра? насупившись, возражает лесничий. – И с гусями дело тоже плохо кончится.
– Так кто же тогда получит лес? – настаивает лакей.
– Ну, я не знаю… – растерянно бормочет лесничий. – Есть у него еще племянники от сестры в Померании…
– А разве нет у него внучки? – продолжает лакей.
– Кого? – Лесничий разинул рот. – Вы так думаете? Но ведь барышне Виолете всего пятнадцать… – Неподвижный взгляд лакея не меняется, и лесничий соображает вслух: – Правда, она единственная, кого он берет с собой на охоту, это-то верно… И когда дрова вымеряет, он тоже ее с собой берет… и мерную рейку дает ей и шестик. О господи, этого еще никто не знает, господин Редер. Барышня, может, и сама не знает…
– А вы еще хотели вмешаться в дела мундиров, господин Книбуш! – с презрением констатирует лакей Редер.
Однако не успел лесничий возразить, как в коридоре раздалось постукивание каблучков и вошла Вайо.
– Слава богу, избавилась! Ну никак, никак не могла вырваться! Армгард ревела и нажаловалась маме, что вы ей всегда ужасно грубите, Губерт! Вы действительно такой грубиян?
– Нет, – строго отвечает Губерт. – Я только требую с нее, я вообще не говорю грубостей женщинам.
– Господи, Губерт, какой вы опять серьезный! Точно карп из пруда. Уксус вы, что ли, пьете? Я ведь тоже женщина.
– Нет, – заявляет Губерт. – Во-первых, вы дама, затем вы господская дочка, поэтому ни о какой грубости в отношении вас речи не может быть, барышня.
– Благодарю вас, Губерт. Вы действительно несравненны. По-моему, вы когда-нибудь лопнете от самомнения и гордости. – Очень довольная, она посматривает на него своими искрящимися, слегка навыкате, глазами.
Вдруг лицо ее становится серьезным, и она спрашивает таинственным шепотом:
– Это правда, Губерт… то, что Армгард сказала маме, будто вы выродок?
Слуга Губерт безжизненными рыбьими глазами смотрит на любопытную девочку. Ни тени краски не появляется на его серых морщинистых щеках.
– Армгард это не при вас говорила, – с непоколебимым спокойствием констатирует он. – Вы опять подслушивали.
Но и Виолета ничуть не смущена. С удивлением отмечает лесничий ту интимность, которая царит между этой странной парой. «А Редер-то куда хитрее, чем я думал. Нужно мне его еще больше остерегаться», – решает лесничий.
Однако Вайо только смеется:
– Глупости, Губерт! Если я не буду чуточку подслушивать, так совсем ничего знать не буду. Мама ни за что не расскажет, а когда мы на днях видели аиста на лугу и я спросила папу, правда это – насчет аиста, он ужасно покраснел. Как он смутился! А вы, значит, выродок?
– Здесь лесничий Книбуш, – невозмутимо замечает Губерт, чтобы отвлечь ее внимание.
– Да, правда. Добрый вечер, Книбуш. Что случилось? Губерт напустил такую таинственность, но он всегда напускает таинственность. Насчет чего это вы?
– Да господи, барышня, – жалобно начинает лесничий, так как видит со страхом, что приближается минута, когда ему придется выложить свои новости. Все у него в голове спуталось. Он сам не знает, что видел на самом деле и что было только его догадкой. Он уже не чувствует в себе мужества так прямо ей все это сказать в лицо, ведь, может быть, Мейер не хвастал и она его на самом деле любит, и тогда он, Книбуш, влопался!
– Да не знаю… я хотел только спросить… Выследил я опять ту косулю, которую господину ротмистру так хотелось поймать, и если бы господин ротмистр вернулся сегодня вечером… Косуля забралась в клевер, а теперь она у Гаазе в сераделле…
Вайо внимательно смотрит на него.
Редер же разглядывает его холодно и презрительно. Он ждет спокойно, пока лесничий окончательно запутается, и потом безжалостно заявляет:
– Это насчет мун-ди-ра, барышня! Если бы не я, он рассказал бы барыне, а не вам…
– Фу, Книбуш! – рассердилась Виолета. – Как вам не стыдно! Вечно вы наушничаете и за спиной у людей невесть что плетете…
И уж тут лесничий, чтобы хоть немного разрядиться, выбалтывает все как он проходил через деревню и как его позвали из трактира. А потом, запинаясь, вполголоса, безмерно смущенный, мямлит насчет пьяной болтовни Мейера-губана. Ему хотелось бы обойтись одними намеками, но ничего из этого не выходит. Вайо и Редер – неумолимые следователи:
– Нет, тут кроется еще что-то, Книбуш, выкладывайте все. Уверяю вас, я не покраснею.
Все же пятнадцатилетняя Вайо покраснела. Она стоит у стены, сощурив глаза, губы дрожат, грудь бурно поднимается.
Но она не сдается, она продолжает неутомимо расспрашивать:
– Смелее, Книбуш, а что он тогда сказал?
И вот дошло до истории с письмом.
– Все прочел вслух? Что он прочел вслух? Повторите каждое слово, которое он прочел… И вы, идиот этакий, поверили, что это я ему написала, такому прохвосту?
И тут Книбуша осенило: он понял кое-что, имеющее отношение к чердаку старосты.
– Как? Вы видели господина… и ничего ему не сказали?! Даже не намекнули? Нет, такого разини, как вы, Книбуш, я еще не видела.
Лесничий стоит перед ней, потерянный, виноватый; теперь он и сам понимает: все сделано не так.
– Староста был при этом, – напоминает Редер.
– Верно! Но письмо-то он мог сунуть!
– Да ведь письма у лесничего не было! (Опять Редер.)
– Ах да, у меня все перепуталось! Но оно еще у Мейера, может быть, он сидит с ним в пивной, показывает другим… Сейчас же бегите туда, Губерт!
– Мейер давным-давно у себя в комнате, – невозмутимо заявляет Редер. Я же вам рассказывал, он совсем пьяный вернулся в седьмом часу из пивной. Но я предлагаю вот что: мун-дир…
– Верно! Скорей, Губерт, бегите, расскажите ему в чем дело. Вы отыщете его, он наверняка еще у Гаазе. Впрочем, нет, ничего не рассказывайте, скажите просто, что мне нужно немедленно его повидать. Только где? Скажите, на старом месте… но как я вырвусь отсюда? Мама меня теперь не выпустит!
– Нет! Барыня! – невозмутимо предупреждает Губерт Редер.
– Ну, что у вас тут? Заговор? – удивилась фрау фон Праквиц, останавливаясь в дверях каморки. – Я тебя везде ищу, Виолета, а ты, оказывается, здесь! – Она переводит взгляд с одного на другого. – Почему у вас у всех такой смущенный вид? – И еще более резко: – Я хочу знать, что тут происходит? Ну, Вайо, ты меня слышишь?
– Простите, барыня, что я позволяю себе вмешаться, – раздается голос лакея Редера. – Смысла нет, барышня, дольше скрывать. Мы должны сказать барыне.
Бездыханная тишина, отчаянное биение сердец.
– Простите, барыня, говоря по правде, все это из-за косули.
Тишина. Молчание.
– Какой косули? Что за вздор? Вайо, прошу тебя…
– Да из-за косули в клевере, о которой говорил и господин ротмистр, поясняет Редер. – Прошу прощения, барыня, что я слышал весь разговор. Это было позавчера за ужином. Я как раз подавал линей.
Бесстрастный, как всегда слегка назидательный голос Редера словно обволакивает все серым туманом.
– Косуля сразу исчезла, как раз когда господин ротмистр сидел в засаде. А господин ротмистр так радовался, барыня сами слышали…
– Я все еще не знаю, что здесь за собрание!
– Лесничий сегодня, наконец, выследил ту косулю, барыня, в сераделле у Гаазе, и сегодня вечером ее пристрелят, оттого что она бегает туда и сюда, жрет посевы. Вот мы и хотели, так как господин ротмистр в отъезде, чтобы барышня сделала ему сюрприз. Мы нехорошо поступили, барыня, что скрыли от вас… Это я предложил подождать, пока барыня ляжет, так как сейчас полнолуние, и для винтовки света довольно, говорит Книбуш.
– Перестаньте же, наконец, так несносно гудеть, Губерт, – замечает барыня с явным облегчением. – Вы ужасный человек. Целыми днями ждешь, хоть бы он рот раскрыл! А когда вы его, наконец, открываете, ждешь только одного, чтобы вы его поскорее закрыли. И со служанками вы могли бы быть полюбезнее, Губерт, вас от этого не убудет!
– Слушаюсь, – невозмутимо отвечает лакей Редер.
– А ты, Вайо, – продолжает фрау Праквиц свою нотацию, – просто дурочка. Мне бы ты могла все преспокойно рассказать, мы сюрприз папе этим ничуть не испортили бы. Следовало бы тебя, в наказание, не пустить, но раз уж косуля именно сегодня в сераделле… Только вы ни на шаг от нее, Книбуш. Господи, да что такое с вами, Книбуш, отчего вы плачете?
– Ах, просто с испуга, барыня, с испуга. Когда вы там стояли в дверях… – заскулил старик. – Я не мог удержаться. Но это радостный испуг, барыня, это слезы радости…
– Мне кажется, Губерт, – сухо продолжала барыня, – что и вам следует немного привести себя в порядок и пойти с ними. А то если они встретят в лесу порубщика, наш добрый Книбуш, пожалуй, опять расплачется от радости, и Вайо придется одной выпутываться.
– Ах, мама, – сказала Вайо, – не боюсь я ни порубщиков, ни браконьеров.
– Лучше, если бы ты кое-чего и боялась, моя милая Виолета, многозначительно сказала фрау фон Праквиц. – А больше всего бойся всяких секретов. Значит, как я сказала, Губерт пойдет с вами.
– Хорошо, мама, – послушно отозвалась Виолета. – Подождите минутку, я сейчас переоденусь.
И она побежала наверх, а мать осталась с обоими мужчинами и задала им головомойку «за все эти секреты с Вайо, с ребенком». Она пробрала их весьма основательно, но осталась все же не совсем довольна. Присущее ей, как и всякой истинной женщине, чутье безошибочно подсказывало, что тут что-то не так. Но, поскольку Вайо еще совсем ребенок, ничего особенно страшного быть не могло, и она успокоилась на мысли, что проступки дочери обычно оказывались довольно безобидными. Ее худшее преступление состояло до сих пор в том, что она загубила свои чудесные косы и остриглась под «бубикопф». А такое преступление можно, слава богу, совершить только однажды.
4. ПЕТРА УХАЖИВАЕТ ЗА СТЕРВЯТНИЦЕЙ
Женская камера в полицейской тюрьме на Александерплац переполнена до отказа. Когда тюрьма строилась и камера была готова, на зеленой, окованной железом двери пометили и кубатуру воздуха в камере: столько-то, мол, кубических метров для одной женщины – за глаза. Вторую койку туда поставили уже давным-давно, и что там две койки, казалось даже старейшим служащим вполне нормальным.
Но тут началась инфляция. Наплыв арестованных все рос. Над двумя койками появились еще две; так, одним махом удвоили вместимость камеры. Но и этого уже давно не хватало. И теперь, когда, день за днем, зеленые фургоны «для утиля» привозили арестованных женщин, их без разбору запихивали в эту камеру. А вечером бросали на пол несколько матрасов и одеял; устраивайтесь как знаете!
Редко чувствовала себя Петра Ледиг более одинокой, чем в этой набитой женщинами тюремной камере. А ночь все не наступала.
Правда, она не принадлежит к тем девушкам из обеспеченных классов, для которых самый факт, что они попали в тюрьму – уже позор и катастрофа. Петра жила в реальном, будничном мире и понимала, как трудно все предусмотреть тому, кто одинок и лишен друзей; ни за что не угадаешь, когда и откуда на тебя свалится беда.
После второго, довольно беглого допроса здесь, в управлении, она уже примерно знала, в чем ее обвиняют. И знала, что эти обвинения отчасти устарели, отчасти неверны. Но она не знала, какие это будет для нее иметь последствия. Может быть, исправительный дом, может быть, дадут желтый билет или посадят в тюрьму на несколько недель или месяцев… Все это зависело от людей, которые были ей совершенно чужды, точно существа из другого мира, с ними и поговорить-то нельзя было.
Ее тут же повели к врачу. Но у двери пришлось стать в бесконечную очередь, а потом им заявили: «Приема больше не будет. Медицинский советник ушел домой».
Итак, Петру опять отвели в камеру, причем оказалось, что тем временем там выдали ужин и остальные съели ее порцию. Но она особенно не огорчилась, решив, что перед тем, в дежурке, поела достаточно. И только краешком уха слышала она, как ссорятся остальные и осыпают друг друга обвинениями. Может быть, и правда, как уверяет женщина с нижней койки (старейшая обитательница камеры, она здесь уже два дня), что ужин украла Стервятница.
Но не все ли равно! Лучше бы они промолчали. А то Стервятница опять взбесилась и с криком и бранью накинулась на Петру. Не очень-то приятно попасть в одну камеру с этой стервой, да, видно, уж приходится терпеть. Все равно эта сумасшедшая долго не в силах будет так вопить и ругаться. Когда Стервятницу ввели в камеру, она казалась еще бессильной и вялой. Но сейчас она снова забеспокоилась, все время приставала к Петре, ей, видно, очень хотелось подраться. Только не было у нее уже прежних сил, алкоголь и кокаин сделали свое дело, – Петра одной рукой отшвырнула бы ее. Однако девушка предпочла молчать, хотя Стервятница орала все неистовее.
Все же это ужасно надоело Петре. Когда к тебе все время пристают и лаются, нельзя спокойно подумать, а ей очень хотелось подумать. Во-первых, о Вольфганге: явится ли он сегодня, и явится ли вообще. Теперь она узнала, за кого ее тут принимают. И, конечно, они ему все расскажут: поверит он или нет? Будь она на его месте, то тем скорее бы примчалась к нему: а как он поступит, сказать трудно.
Петра окинула взглядом камеру. Ей очень хотелось спросить седую женщину на нижней койке, в котором часу свидания, но Стервятница орала все отчаяннее. Остальных это, видимо, ничуть не беспокоило, даже не интересовало. Две сидевшие в углу на матрасе чернявые цыганки с птичьими глазами, бегающими и дерзкими, о чем-то шептались, оживленно жестикулируя; они ни на кого не смотрели. Долговязая бледная девушка, занимавшая другую нижнюю койку, заползла под одеяло: видны были только ее вздрагивающие плечи. Должно быть, она плакала. Маленькая толстуха на табуретке мрачно ковыряла в носу.
Седая женщина, сидевшая, спустив ноги, на краю нижней койки, наконец, подняла голову и сердито сказала:
– Да заткнись ты, наконец, дурища. Дай ей хорошенько в рожу, Острожница, дай ей в зубы!
Под «Острожницей» разумелась Петра. Старуха, должно быть, назвала ее так потому, что она одна из всех обитательниц камеры была одета в синий арестантский халат. При доставке в тюрьму ее тут же в него и облачили.
Но Петре не хотелось бить Стервятницу. Какой смысл, ведь она же тоскует по кокаину или спиртному, вот и сходит с ума. Ночные надзиратели уже несколько раз стучали в дверь и требовали прекратить шум. И каждый раз Стервятница кидалась к двери и молила:
– Пожалуйста, прошу вас, дайте мне стаканчик водки! Один-единственный! Малюсенький. Ведь вы же можете достать, ребята! Вы тоже иной раз не отказываетесь! Ах, умоляю вас, ребята, дайте один стаканчик!
Ответа так и не последовало, и шаги часовых затихли: донесся еще чей-то смех. Тогда Стервятницей овладел приступ ярости, она забарабанила кулаками в окованную железом дверь и стала выкрикивать ругательства по адресу надзирателей.
Время шло, и Стервятница буйствовала все сильнее. Померкло и потемнело небо в окошечке камеры, вспыхнул свет над дверью, а она, видимо, уже перестала понимать, где она и что с ней. Вероятно, ей чудилось, что она в преисподней. Словно зверь, металась она из угла в угол, не замечая своих товарок, и все время что-то бормотала себе под нос. Потом вдруг остановилась и испустила пронзительный визгливый вопль, точно от неистовой боли.
Снова постучали в дверь часовые, требуя тишины, и снова последовали мучительные, душераздирающие мольбы, а потом и яростная брань. На этот раз Стервятница бросилась на пол у самой двери. Привалившись головой к железной обшивке, лежала она, скорчившись, растерзанная, всклокоченная, словно прислушиваясь к чему-то. Потом забормотала:
– Бегают… ползают у меня в животе. О, сколько ног! И все хотят вылезти наружу, у меня все нутро полно… а теперь они хотят вылезти!
Дрожащими пальцами дергала она одежду, стараясь сорвать ее с себя.
– Муравьи! Красные, прозрачные муравьи! Они бегают у меня внутри! Оставьте меня в покое, – молила она. – У меня же ничего нет! Не могу я дать никакого снежку!
Потом вскочила.
– Дайте кокаинчику! – завопила она. – Сейчас же дай! У тебя есть снежок!
Глухо вскрикнув, седая женщина напротив повалилась навзничь; не делая даже попыток защититься, тихо всхлипывая, лежала она под разъяренной Стервятницей.
Цыганки, сидевшие на своем матрасе, замолкли и, осклабившись, наблюдали за этой сценой. Плечи долговязой девушки на постели перестали вздрагивать. Медленно повернула она испуганные глаза и длинный бледный нос к противоположной койке, готовая каждую минуту нырнуть с головой под одеяло. Сердитая толстуха, сидевшая на табуретке, раздраженно крикнула:
– Дадите вы наконец покой! Думать даже нельзя, безобразница!
Петра мгновенно бросилась к Стервятнице. Она без труда стащила изможденную, ослабевшую женщину с лежавшей под ней старухи, но отодрать руку, вцепившуюся в седые волосы, было невозможно.
– Замолчите вы наконец, бабы проклятые! – ругались через дверь надзиратели. – За волосы таскают друг друга, сволочи! Ну подождите, сейчас получите!
Петра повернулась к двери и сердито крикнула:
– Да идите же сюда! У нее припадок! Помогите нам!
На мгновение за дверью стало тихо. Потом чей-то голос вежливо сказал:
– Мы не имеем права, фройляйн. Как запрут, мы не имеем права входить в женские камеры. А то скажут – мы с вами путаемся.
– А может, вы это нарочно комедию ломаете, – подхватил другой голос. Нет уж, мы на ваши штучки не попадемся.
– Но ведь нельзя так! Она же наполовину спятила! – крикнула в ответ Петра. – Должна же быть у вас надзирательница или врач. Пожалуйста, пришлите к нам врача!
– Все уже ушли! – отозвался вежливый голос. – Что же она молчала, когда ее взяли? Ее положили бы в лазарет. Уж вы вшестером как-нибудь с одной-то справитесь!
Однако на это было непохоже. Цыганки молчали, толстуха на табурете все еще ворчала, долговязая накрылась с головой одеялом, а старуха продолжала скулить от боли, так как Стервятница все еще не выпускала ее волосы.
Всхлипывая, пролежала она несколько минут на койке рядом со старухой, потом снова начала вопить. При этом бессознательно, но яростно драла ее за жидкие седые космы. Взвыла и старуха.
– Да помогите же, наконец! – возмущенно крикнула Петра и принялась барабанить ногами в окованную железом дверь. Гулко отдались в коридоре ее удары. – Не то я такой скандал устрою, что вся тюрьма подымет крик!
И дело шло к тому. Из многих камер доносились яростные голоса, требовавшие тишины. Высокий женский голос запел «Интернационал».
Дверь распахнулась; на пороге, в полной форме и при оружии, но в мягких туфлях, чтобы не мешать чуткому сну заключенных, стояли два надзирателя.
– Но к вам мы все-таки не войдем! – заявил высокий голубоглазый малый с рыжеватыми усами. – Вот что вам надо сделать: вы-то, фройляйн, видно, вполне разумная девушка… Скорее возьмите в шкафчике щепотку соли.
Петра бросилась к шкафчику, а надзиратель заявил:
– Ну-ка, ты, старое чучело, там, на матрасе, бери байковое одеяло! Поможешь ей! И ты тоже!








