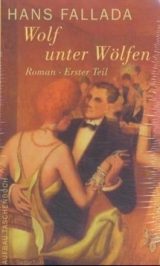
Текст книги "Волк среди волков"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
«Вы с ним уже зашли довольно далеко! Могу себе представить. А когда я прочту письмо – ох, и дура ж ты все-таки, глупая, надменная гусыня! Думаешь, я передам письмо и не посмотрю сперва, что в нем написано? Я сперва все толком разузнаю, а там видно будет, что я стану делать. Может быть, все расскажу ротмистру – что против этого какой-то там лесной пожар?! Думаете, из-за него я у вас в руках? Нет, ничего я, пожалуй, ротмистру не расскажу. Потому что ты еще совсем глупа и не понимаешь, что такой человек, как лейтенант, тебя непременно бросит. На него довольно посмотреть, и сразу видно. А я тут как тут… да, цыпочка моя, для меня это ничего не значит. Для меня такое не помеха. Объезжать молодых лошадок не так уж весело и очень хлопотно; куда лучше, когда они уже обучены всем фокусам! Но тогда ты мне за все заплатишь, за каждое наглое, высокомерное слово, за каждое „к вашим услугам, барышня“… а главное, за это письмо! Как их вскрывают, такие письма? Я слышал, держат над паром… но где я при такой спешке раздобуду пар в своей норе? Да чего там, попробую попросту ножом, а порвется конверт, заменю его своим. Желтый или голубой – там не посмотрят…»
Он подошел к конторе. Не снявши даже шляпы, сел в кресло у письменного стола. Он кладет письмо перед собой на обтрепанное, забрызганное чернилами зеленое сукно. Смотрит на письмо. Его прошиб пот, руки и ноги, – как чужие, во рту пересохло. Он в полном изнеможении. Квохчут куры на дворе, в коровнике бабы стучат ведрами и подойниками. («Еще чего недоставало нашли время доить!»)
Письмо лежит перед ним. Монотонно жужжат и гудят мухи, невыносимая духота. Он хочет взглянуть на барометр на стене («Может, все-таки будет гроза?»), но не поднимает глаз. «А, все одно!»
Письмо, блекло-голубой чистый прямоугольник на забрызганном сукне! Ее письмо!
Небрежно, полуиграя, он хватается за разрезальный нож, придвигает поближе письмо и опять откладывает то и другое. Предварительно вытирает потные руки о тужурку.
Потом берет разрезальный нож и медленно, с наслаждением вводит его тупое острие в неприметное отверстие под верхним отворотом конверта. Глаза его неподвижны, на толстых губах играет довольная усмешка. Да, он вскрывает письмо. Осторожно подвигая, приподнимая, толкая, нажимая, он отделяет небрежно заклеенный отворот. Теперь он уже видит уголок письма, там есть волоконца, которые не желают ложиться ровно, точно ворсинки… и в то же время он видит ее, видит Вайо, какой она только что сидела перед ним в шезлонге… Она потягивается, белое полное тело слегка дрожит… Она закидывает руки за голову, под мышками мерцает что-то светлое, что-то курчавится…
– Ох! – стонет Мейер-губан. – Ох!
Он не сводит глаз с письма, он его вскрыл, но все это время он был не здесь, он был за полкилометра отсюда, на плоской, разомлевшей под солнцем толевой крыше – телом к телу, кожей к коже, волосками к волосам… – Ты! Ты!
Волна спадает. Заиграв еще раз красками красивого живого тела, словно озаренная закатом, она ушла в песок. Мейер-губан со стоном вздыхает. «Вот тебе и на! – удивляется он. – Эта каналья, верно, свела меня с ума! Впрочем, и жара тут делает свое дело!»
Письмо вскрылось безупречно. Не придется даже подмазывать клеем, так небрежно фройляйн Виолета фон Праквиц залепила конверт. Итак, читаем… Но сперва он еще раз вытирает руки о тужурку, они опять стали потными.
Потом он в самом деле вынимает из конверта лист, разворачивает его. Письмо не очень длинное, зато сказано в нем немало. Он читает:
«Мой любимый! Мой самый любимый! Единственный!!! Ты только что ушел, а меня уже опять бешено тянет к тебе! Все тело мое трепещет, и что-то внутри гудит так, что я все время закрываю глаза! Тогда я вижу тебя! Я так, я так, я та-а-ак тебя люблю!! Папа сегодня не приедет наверняка, жду тебя между одиннадцатью и двенадцатью у пруда, возле Лебединого павильона. Смотри, чтобы глупое собрание к тому времени непременно закончилось. Я страшно стосковалась по тебе!
100.000.000 поцелуев и еще гораздо больше! Прижимаю тебя к своему сердцу, которое стучит, как сумасшедшее, у твоей Виолеты».
– Боже! – говорит Мейер-губан и смотрит пристально на письмо. – Она его в самом деле любит: «Так» через три «а», и «твоя» подчеркнуто. Желторотая девчонка!.. Он ее обольстит и бросит. Что ж, тем лучше!
Он снимает с письма копию на пишущей машинке, тщательно сосчитывая при этом нули у числа поцелуев («Форменная инфляция, она сказалась и здесь!»). Опять заклеивает. Копию письма кладет в том «Областных ведомостей» за 1900 год, письмо же сует опять в карман тужурки. Он вполне доволен. И вполне готов к исполнению обязанностей. Смотрит на барометр: опять немного упал.
«Неужели будет все-таки гроза? Может, все-таки распорядиться, чтоб начали свозить? Эх, чепуха, девчонка зря болтает!»
Он отправляется к своей жнейке.
7. ФРАУ ПАГЕЛЬ НАВЕЩАЕТ ФРАУ АНКЛАМ
– Могла ли я надеяться, что ты сегодня же зайдешь ко мне, моя милая, моя бедная Матильда!
Фрау фон Анклам, вдова генерал-майора фон Анклама, расплывшаяся старуха семидесяти с лишним лет, в белоснежных буклях, тяжело поднялась с глубокого кресла, в котором спала после обеда. Она обеими руками пожала руку посетительнице и уставилась в нее участливо и озабоченно большими карими, еще красивыми глазами. Пока что она говорит только выспренним тоном, как будто по случаю чьей-то смерти. Но ей знаком и другой тон, тон командирши полка, которая держит в повиновении, строгости и границах приличия всех полковых дам.
– Мы стареем, но бремя наше не становится легче. Наши дети, пока они маленькие, топчут ножками наши колени. А потом топчут наше сердце.
(У фрау фон Анклам никогда не было детей. Детей она не терпела.)
– Садись сюда на диван, Матильда. Я позвоню, фройляйн подаст нам кофе и торт. Мне сейчас принесли торт от Гильбриха, у него все-таки лучше, чем где-либо. Но смысла нет для себя одной – сорок тысяч марок один проезд, представляешь, сорок тысяч! Просто разбой!.. Да, фройляйн, торт и кофе, покрепче, кузина получила печальное известие… Да, милая Матильда, я все сидела тут в своем кресле и думала об этом. Фройляйн полагает, что я сплю, но разве мне дадут заснуть? Я слышу каждый шорох на кухне, и когда там при мытье посуды разбивают тарелку, я тут как тут! Твоя Минна тоже столько бьет?.. У меня еще старый нимфенбургский фарфор, который дедушка Куно получил от покойного государя к бриллиантовой свадьбе… Господи, на мой старушечий век как-нибудь хватит, но надо же подумать и о наследниках! Я его обещала Ирене, но последнее время опять колеблюсь, у Ирены такие странные взгляды на воспитание детей… прямо, я бы сказала, революционные!
– Известие вполне достоверно, Бетти? – спрашивает фрау Пагель. Она сидит прямая, твердая – ни одна даже самая участливая родственница не разглядела бы, что она сегодня обливалась слезами.
– Известие? Какое известие? Ах да, то известие! Но, милая Матильда, уж если я, можно сказать, специально об этом тебе написала! – Это произносится почти по-командирски, но командирша тотчас же переходит на прежний участливый тон: – Ну, конечно, достоверно, этот милый юноша, Эйтель-Фриц, заходил туда по делу. Он читал своими глазами… как это называется?.. извещение! Я даже не узнала, по какому делу он туда заходил. Так разволновалась, что забыла спросить. Но ты же знаешь нашего Эйтель-Фрица, это такой оригинал, он ходит по самым неожиданным местам… Attention! La servante! [1]1
Осторожней! Прислуга! ( фр.).
[Закрыть]
«Фройляйн» появляется с подносом, с кофейным прибором – нимфенбургский фарфор от дедушкиной бриллиантовой свадьбы. Дамы смолкают, и фройляйн, пожилая женщина, серая как мышка, бесшумно накрывает на стол.
Они всегда только «фройляйн» – эти часто сменяющиеся приспешницы ее превосходительства фрау фон Анклам имени не имеют. Фройляйн накрывает на стол, фройляйн штопает, фройляйн читает вслух, и фройляйн что-то рассказывает, а главное: фройляйн слушает! Фройляйн слушает с утра до вечера, слушает рассказы о полковых дамах, давно умерших и позабытых («Я ей говорю: милое дитя, чего здесь требует такт, определяю я!»); рассказы о детях, которые давно сами завели себе детей («И тогда этот прелестный ангелок говорит мне…»); рассказы о родственниках, с которыми она давно поссорилась; рассказы о синих конвертах и о производствах в чин; рассказы об орденах; рассказы о ранениях; рассказы о браках и разводах… перетряхиванье хлама жизни, потраченной на дрязги и на сплетни, копанье в интимном, самом интимном!
Фройляйн, бесцветная, серая как мышка, слушает, говорит «да… ах нет!.. да что вы!.. изумительно!» – но когда у ее превосходительства гости, она ничего не слышит, ее превосходительство, мобилизовав скудные крохи своего швейцарско-французского языка, усвоенного в пансионе, шепчет: «Attention! La servante!» – и дамы замолкают. Когда в доме гости, фройляйн превращается в пустое место, так полагается. (Но как только гости уйдут, ей все расскажут.)
Однако, умолкнув на секунду, фрау фон Анклам недолго хранит молчание, это уже не полагается. Она заговаривает о погоде: сегодня так душно, может быть, будет гроза, может быть да, а может быть и нет. У нее когда-то была фройляйн, у которой перед грозой появлялась ноющая боль в большом пальце на ноге, очень странно, не правда ли?..
Примета никогда не обманывала, и как-то, когда фройляйн была в отпуску, у нас тогда еще было наше поместье, разразилась гроза со страшным градом и побила весь хлеб, а не будь фройляйн в отпуску, мы бы все-таки знали заранее – и это было бы та-ак хорошо, не правда ли, милая Матильда? Но фройляйн, как нарочно, именно тогда понадобилось уйти в отпуск!..
– Да, фройляйн, все в порядке, благодарю. Вы можете сейчас разгладить кружевные рюши на моем платье из черной тафты. Уже отглажены, я знаю, фройляйн. Этого вы мне могли бы и не сообщать. Но они отглажены не так, как у меня полагается, они должны быть как дуновение, фройляйн! Как дуновение! Так что, пожалуйста, фройляйн!
И не успела фройляйн затворить за собою дверь, фрау фон Анклам снова с безграничным участием поворачивается к фрау Пагель.
– Я много об этом думала, милая Матильда, прикидывала и так и сяк, но ничего не поделаешь: она то, что называется, особа!
Фрау Пагель вся передернулась и смотрит боязливо на дверь.
– Фройляйн?..
– Но, Матильда, как можно быть такой рассеянной! О чем мы говорим? О женитьбе твоего сына! Что, если бы я себе позволила быть такой рассеянной!.. Я всегда говорила моим дамам…
Фрау Пагель еще не потеряла надежду узнать что-нибудь утешительное, ведь ей в сущности ничего не известно.
– Девушка, может быть, не такая уж плохая, – с трудом выдавила она из себя.
– Матильда! Я уже сказала: особа! Особа, и больше ничего!
– Она любит Вольфганга – по-своему…
– О таких вещах я и слышать не хочу! О непристойностях – нет, только не в моем доме…
– Но Вольфганг играет, он готов спустить все…
Фрау фон Анклам рассмеялась.
– Если бы кто-нибудь видел сейчас твое лицо, милейшая Матильда! Мальчик поигрывает – ты не должна говорить: «играет», «играть» звучит так вульгарно – все молодые люди немножко поигрывают. Помню, когда наш полк стоял в Штольпе, молодые люди тоже изрядно поигрывали. Его превосходительство генерал фон Барденвик сказал тогда: «Что же мы предпримем, уважаемая фрау фон Анклам? Мы должны что-то предпринять». А я ему: «Ваше превосходительство, мы ничего предпринимать не будем. Пока молодые люди поигрывают, они не делают никаких других глупостей». И он сразу со мной согласился… Войдите!
В дверь тихо и осторожно постучали. Фройляйн просунула голову:
– Эрнст вернулся, ваше превосходительство.
– Эрнст? При чем он тут? И что это за новая мода, фройляйн? Вы же знаете, у меня гости! Эрнст… просто неслыханно!
Несмотря на эту грозу, фройляйн отважились кое-что добавить, она пискнула, как мышка в мышеловке:
– Он был в бюро регистрации браков, ваше превосходительство.
У фрау фон Анклам сразу прояснилось лицо.
– Ах, ну, разумеется… Пусть вымоет руки и сейчас же идет сюда. Что вы по каждому поводу разводите длинные истории, фройляйн!.. Фройляйн, одну минутку, куда вы сразу бежите сломя голову, можно подождать моих распоряжений. Спрысните его сперва немного одеколоном. Ну, конечно, тройным одеколоном! Неизвестно, среди кого он там толкался.
И оставшись снова наедине с кузиной:
– Мне хотелось знать, как пройдет регистрация. Я долго раздумывала, кого бы мне туда послать. И вот послала нашего Эрнста. Мы теперь послушаем…
Глаза у фрау фон Анклам горят, она заерзала в кресле тяжелыми телесами, она вся ожидание. Сейчас она услышит нечто новенькое, нечто, что пойдет в кладовую сплетен – боже, как чудесно!..
Входит лакей Эрнст, старичок лет шестидесяти, много, много лет, целую жизнь проживший у фрау фон Анклам.
– Остановись в дверях! – кричит она. – Ни шагу дальше, Эрнст, стой в дверях.
– Знаю, как же, ваше превосходительство!
– А потом сразу примешь ванну и переоденешься, кто знает, какие на тебе сидят бациллы, Эрнст!.. Ну, так говори же наконец: как прошла регистрация?
– Ее и не было, ваше превосходительство!
– Вот видишь, Матильда, что я тебе всегда говорю? Ты волнуешься попусту! Что я тебе сказала три минуты тому назад: особа, просто особа! Она его бросила!
Фрау Пагель слабым голосом:
– Можно мне расспросить немного Эрнста, милая Бетти?..
– Конечно, милая Матильда. Эрнст, я тебя не понимаю, что ты стоишь как дубина, ты же слышишь, фрау Пагель хочет все знать! Говори, рассказывай… Она его, конечно, подвела! Ну, а дальше… Что он на это сказал?
– Погодите, ваше превосходительство. Я думаю, молодой барин сам ее… молодой барин не пришел…
– Вот видишь, Матильда, в точности как я говорила! С мальчиком все в порядке: он поигрывает, но это ему нисколько не во вред, напротив, он показал себя вполне благоразумным, на таких особах все-таки не женятся.
Фрау Пагель удалось, наконец, вставить слово:
– Эрнст, это наверное так? Регистрации не было? Ты точно знаешь? Может быть, они немного опоздали?
– Нет, сударыня, точно что не было. Я пришел вовремя и прождал до закрытия и даже справлялся у регистратора: они не приходили – ни он, ни она.
– Вот видишь, Матильда…
– Но почему же вы думаете, Эрнст, что это мой сын ее… Ну, вы понимаете…
– Я хотел удостовериться, сударыня, ведь могло быть и так, что у них что-нибудь стряслось. Я там же в бюро узнал их адрес. Пошел, значит, к ним на квартиру, сударыня…
– Эрнст, сейчас же в ванну! Непременно! И переоденься во все чистое!
– Слушаюсь, ваше превосходительство!.. Молодой барин сегодня с самого утра как ушел, так и не показывался. А девушку прогнали, потому что у них не плочено за квартиру. Она еще стояла внизу в подъезде. Я ее…
Фрау Пагель вскочила. Она снова сама решительность, черноглазая, энергичная, непреклонная.
– Благодарю вас, Эрнст. Вы меня очень успокоили. Извини, милая Бетти, что я так бесцеремонно ухожу, но я… мне нужно сейчас же домой. У меня определенное чувство, что Вольфганг сидит там и ждет меня в полном отчаянии. Несомненно что-то случилось. О боже, и Минны тоже нет дома! Ничего, у него есть ключ от квартиры. Извини, я сама не своя, милая Бетти…
– Выдержка! Выдержка и самообладание, милая Матильда! Самообладание во всех случаях жизни! В такой день тебе, разумеется, следовало сидеть дома, он, разумеется, ждет тебя. Я в такой день, разумеется, никуда не ушла бы из дому. А главное… пожалуйста, Матильда, еще минутку, нельзя же так просто взять и убежать… будь с ним тверда! Без ложной мягкости! Главное: не давай ему денег! Ни пфеннига! Квартира, стол, одежда – пожалуйста! Но никаких денег, он их проиграет и только! Матильда!.. Матильда! Ушла! Никакой выдержки!.. Послушай, Эрнст…
И Туманша того десятка тысяч, что составляют берлинский свет, говорит, говорит…
8. ПЕТРА В ВОРОТАХ
Собака все еще спала, и кошка спала, все еще спала Георгенкирхштрассе.
Девушка Петра Ледиг стояла в воротах, в тени. Белым беспощадным жаром перед нею сверкала улица; от яркого света было больно глазам; то, что Петра видела, утрачивало очертания, казалось расплывчатым. Она смежила веки, и голову ее охватило что-то черное-черное с быстро вспыхивающими, режущими проблесками пурпурно-красного.
Потом в черноту ворвался бой часов; это хорошо, значит, время идет. Сперва она думала, что нужно куда-то спешить, что-то делать. Но когда почувствовала, что в минуты полузатмения проходит время, она поняла: нужно только стоять на месте и ждать. Он должен прийти, он с минуту на минуту должен прийти, прийти с деньгами. Тогда они пойдут вдвоем, за углом булочная, там же рядом мясная. Петра чувствует, как впивается зубами в теплую булочку: упругая, румяная корочка лопается, крошится, по краю остаются плоские неровные зазубринки. А мякоть внутри белая и рыхлая.
Наплывает что-то еще, красноватое, Петра пробует распознать с закрытыми глазами, что это такое, и ей без труда удается, потому что это не вне ее, а в ней, в ее мозгу: круглые, красноватые пятнышки. Что бы это могло быть?.. И вдруг поняла: это земляника! Ну ясно, они же прошли дальше, она уже не в булочной, она в зеленной. В плетеной корзине лежит земляника. Такой чудный свежий запах. Петра вдыхает его… о, как она его вдыхает! Земляника лежит на зеленых листьях, и листья тоже свежие… Все очень нежное и очень сочное, а вот побежала и вода, чистая, холодная…
С трудом отрывается Петра от своего сновидения, но вода бежит так настойчиво, бежит и плещет, словно хочет ей о чем-то рассказать. Петра медленно открывает глаза. Медленно узнает опять ворота, в которых все еще стоит, пламенеющую улицу, и видит перед собой человека, который что-то говорит ей, пожилого человека с желтым, худым лицом, с желто-серыми бакенбардами, на голове черный котелок.
– Что?.. – спрашивает она с напряжением и должна спросить вторично, потому что с первого раза жесткий, пересохший рот не осилил слова, получился лишь невнятный шорох.
За то время, что она тут стояла, мимо нее прошел не один человек. Если кто и замечал в воротах фигуру, укрытую тенью распахнутых створок, он только прибавлял шагу – и мимо. Нищая это улица, нищее-разнищее горестное время! Повсюду, во всякий час дня стоят горестные фигуры женщин, девушек, вдов, на лицах голод и горе, тело прикрыто немыслимыми отрепьями, и для каждой одно лишь спасение – может быть, найдется еще на нее покупатель. Военные вдовы на обесцененной пенсии; жены рабочих, у которых с каждым новым повышением доллара хитро выкрадывают в конце недели заработную плату мужа, даже самого трезвого, самого работящего; молоденькие девушки, которым стало невмоготу смотреть на страдания младших братьев и сестер каждый день, каждый час, каждую минуту та или другая захлопнет дверь своей конуры, где голод был ей товарищем и любовником – забота, решится, наконец, хлопнет дверью и скажет: «Теперь я на это пойду! Для чего себя беречь? Для еще большей нужды? Для первого же гриппа? Для бесплатного врача и бесплатного гроба? Все бежит, рвется вперед, спешит, меняется – а я себя берегу?»
И вот они стоят, в каждом закоулке, во всякий час, наглые или запуганные, болтливые или бессловесные, просящие, выпрашивающие: «Ах, только чашку кофе с булочкой…»
Нищая это улица, Георгенкирхштрассе. Инкассатор Газового общества, приказчик магазина мод, почтальон, когда завидят девушку, только прибавят шагу. Они не подожмут губы, не скажут наглого слова, не отпустят шутки, не состроят гримасы. Только дальше скорей – и мимо, чтобы слово, мольба, доходящая все же до сердца мольба чужого сердца не совратила на подачку, которой нельзя себе разрешить. Каждого ждет дома та же забота, у каждого сидит на шее злой гном: кто знает, когда моей жене, моей дочке, моей девушке придется так же стоять – первый день в тени под воротами, а вскоре и на светлой улице! Ничего не увидеть и мимо, ничей не доходит шепот до наших ушей. Ты одинока, и я одинок, мы умираем каждый в одиночку спасайся кто может!
Но вот кто-то все-таки остановился перед Петрой, пожилой господин в котелке, с желтым совиным лицом, с желтыми совиными глазами.
– Что?.. – спросила она наконец вполне отчетливо.
– Скажите, фройляйн! – Он неодобрительно качает головой. – Здесь живут Пагели?
Пагели? Он, значит, ничего такого не хочет, он спрашивает о Пагелях. О Пагелях, о нескольких Пагелях, не меньше как о двоих. Нужно сообразить, кто он такой, чего он хочет, может быть, это важно для Вольфганга…
– Да?.. – Она старается взять себя в руки, господин чего-то хочет от них. Нельзя, он не должен узнать, что она имеет касательство к Вольфгангу, она, девушка, стоящая в воротах.
– Пагели?.. – спрашивает она еще раз, чтобы выиграть время.
– Да, Пагели! Ну вы, я вижу, не знаете! Немножко выпили, а? – Он подмигивает одним глазком, он, как видно, вполне добродушный человек. – Не делайте вы этого, фройляйн, днем не пейте. Вечером пожалуйста. А днем это нездорово.
– Да, Пагели здесь живут, – говорит она. – Но их нет дома. Оба ушли. (Потому что нельзя, чтобы он поднялся к Туманше, чего он только не наслушается там, это может повредить Вольфгангу!)
– Вот как! Оба ушли? Верно, расписываться, да? Но если так, то они опоздали. Бюро уже закрыто.
Он и это знает! Кто же он такой? Вольфганг всегда говорил, что у него не осталось никого знакомых.
– Когда же они ушли? – спрашивает опять господин.
– С полчаса… Нет, уже с час! – говорит она торопливо. – И они мне сказали, что сегодня больше не придут домой.
(Нельзя, чтобы он поднялся к фрау Туман! Никак нельзя!)
– Так. Они вам это сказали, фройляйн? – спрашивает господин и смотрит недоверчиво. – Вы, значит, дружите с Пагелями?
– Нет! Нет! – возражает она торопливо. – Они знают меня только в лицо. Я всегда тут стою, потому они мне и сказали.
– Так… – повторяет задумчиво господин. – Ну что ж… благодарю вас.
Он медленно проходит воротами в первый двор.
– Ах, пожалуйста! – зовет она слабым голосом, даже делает вслед за ним несколько шагов.
– Чего вам еще? – спрашивает он, оборачивается, но не идет назад. (Он явно хочет зайти на квартиру!)
– Пожалуйста! – молит она. – Там наверху такие гадкие люди! Не верьте ничему, что они вам наговорят на господина Пагеля. Господин Пагель очень хороший, очень порядочный человек – я не имею к нему никакого касательства, я в самом деле знаю его только в лицо…
Человек остановился посреди двора в ярком солнечном свете. Он остро всматривается в Петру, но не может ясно разглядеть ее легкую слабую фигурку, застывшую в полумраке ворот; она стоит, наклонив голову, приоткрыв губы, напряженно проверяя действие своих слов, с мольбой сложив руки на груди.
Он задумчиво теребит желто-сивый ус большим и указательным пальцами и, подумав, говорит:
– Не бойтесь, фройляйн. Не всему-то я верю, что мне люди рассказывают.
Это прозвучало не язвительно, он, может быть, вовсе не метил в нее, это прозвучало даже ласково.
– Я очень хорошо знаю господина Пагеля. Я его знал еще вот такого махонького…
И он показал какого – на вершок от земли. Но тут же и оборвал, только кивнул еще раз Петре и окончательно скрылся в тени ворот, ведущих во второй двор.
Петра тихо отступила в свой защищенный уголок за створкой ворот. Она поняла, что сделала все не так, она не должна была ничего сообщать этому старому господину, знавшему Вольфганга еще ребенком, нет, она должна была ответить: «Живут ли здесь Пагели?.. Не знаю!»
Но она слишком устала, слишком разбита, слишком больна, чтобы думать об этом дальше. Она только будет стоять здесь и ждать, пока он не пройдет обратно. По его лицу она узнает, что ему там наговорили. Она скажет ему, какой удивительный человек Вольфганг, как он ни о ком не подумает дурного, никому не причинит зла… И все время, пока она стоит, прислонив голову к холодной стене, сомкнув глаза и чувствуя на этот раз с неудовольствием, как подступает чернота, означающая удаление от своего «я» и от своих забот, все это время она через силу мысленно провожает старого господина в его пути по второму двору. Потом поднимается вместе с ним по лестнице до квартиры фрау Туман. Ей кажется, она слышит, как он позвонил, и теперь она хочет представить себе его разговор с квартирной хозяйкой… Та станет жаловаться, хозяйка, ох, она станет жаловаться, выбалтывать все, обливать их обоих помоями, оплакивать свои пропащие деньги…
Но вдруг перед нею всплыла их комната, ее и Вольфа, эта мерзкая конура, позолоченная сиянием их любви… Голос мадам Горшок постепенно заглох вдали, здесь они смеялись вдвоем, спали, читали, разговаривали… Он стоит, бывало, и чистит зубы над умывальником, она что-то говорит…
– Ничего не понимаю! – кричит он. – Говори громче!
Она повторяет.
Он чистит.
– Громче!.. Не понимаю ни слова, еще громче!
Она повторяет еще раз, он чистит зубы, шипит:
– Громче, говорю я!
Она повторяет, они смеются…
Здесь они жили вместе, вдвоем, ей приходилось его ждать, но она никогда не ждала напрасно…
И вдруг в быстрой режущей вспышке света она увидела улицу, знакомую улицу, она идет по ней вперед и вперед… Фонтан с персонажами из сказок… Германспарк… вперед, все вперед, все еще городом… Теперь пошла деревня, бесконечная ширь с полями и лесами, мосты, заросли кустов… И снова города с домами и воротами, и опять земля и вода, огромные моря… и новые страны с городами и деревнями, необозримые… Уйти, оставить все за собой, встретить тысячу жизненных возможностей за каждым поворотом, в каждом селе… «Но все это, – проносится в ее мозгу, я охотно отдам и возблагодарю тебя в молитвах, если ты вернешь мне нашу комнату и в ней мое ожидание…»
Медленно надвинулась чернота. Все погасло, мир сделался неявственным. Проносятся черные хлопья, покрывают ее… Одно мгновенье ей еще казалось, что она видит гардины в их комнате, они висят желто-серые, блеклые и неподвижные в нестерпимой духоте, потом и это погасло в ночи.
Но и ночь не принесла для нее покоя, что-то красное вспыхивало в ней горящей, злой краснотой… ах, собака на том тротуаре встала. Становясь все больше и больше, она бежит через улицу прямо на нее. Ее разинутая пасть с заостренными сильными клыками уже над ее головой. Злобно-красные глаза, злобно-красные грозящие клыки, и вот она уже положила неимоверно тяжелые лапы на ее плечо. Петра кричит от страха, но звук не доходит до ее ушей. Она сейчас упадет…
Лакей Эрнст опустил руку ей на плечо.
– Фройляйн, ради бога! Фройляйн! – всполошился он.
Петра еще издали увидела, что он подходит, и сразу же спросила – как если бы вопрос настойчиво ждал в ней с той самой минуты, как человек в котелке ушел:
– Что они сказали?..
Лакей нерешительно пожал плечами.
– Где же молодой господин? – спросил он.
Он видит, что она колеблется, и говорит успокоительно:
– Вам нечего передо мной стесняться, я только лакей его тетки. Чего не надо, того я никогда не расскажу.
И так как худшего он узнать не может, чем то, что уже слышал наверху, она ответила:
– Ушел. Достать денег.
– И не вернулся?
– Нет. Пока что нет. Я жду.
Они стояли с минуту молча, она – терпеливо ожидая, что приготовила ей судьба и, может быть, этот человек, он – в нерешительности, может ли он просто уйти и доложить госпоже. Нетрудно было угадать, что подумает ее превосходительство фрау фон Анклам об этой девушке, что она скажет на просьбу помочь несчастной. Но все же…
Лакей Эрнст медленно вышел из ворот на улицу, посмотрел в одну сторону, в другую – того, кого ждали, не было… Одно мгновение он склонялся к мысли просто уйти. Ему казалось, нет, ой знал наверное, что девушка ни словом не остановит его. Это был самый простой выход, всякий другой только доставит ему неприятности с ее превосходительством. Или будет стоить ему денег, – а чем больше обесценивался накопленный лакеем Эрнстом под старость капиталец, тем цепче он держался за эти бумажки с немыслимыми цифрами. Дома, в своей тесной каморке, он набивал ими одну за другой жестяные коробки из-под чая…
И все же…
Он еще раз поглядел в одну сторону, в другую: никого. Нехотя, словно сам с собою не в ладу, он снова вошел в ворота и спросил так же нехотя:
– А если молодой господин не принесет денег?
Она только посмотрела на него, чуть мотнув головой, – уже только смутный намек в этих словах, что Вольфганг все-таки может вернуться, хотя бы и без денег, оживил ее.
– А если он вовсе не вернется, что вы будете делать тогда?
Ее голова поникла, веки сомкнулись – было ясно без слов, как все станет тогда для нее безразлично.
– Фройляйн, – начал он нерешительно, – лакей зарабатывает немного. К тому же я потерял все свои сбережения, но если бы вы согласились принять вот это…
Он пробует втиснуть ей в руку банкнот, извлеченный из захватанного тощего бумажника.
– Тут пятьдесят тысяч. – И так как Петра отдернула руку, добавил настойчивей: – Нет, нет, вы можете спокойно взять. Здесь только на проезд, чтобы вы могли хоть до дому добраться. – Он замялся, раздумывает. – Вы же не можете стоять тут и стоять! У вас, наверно, есть родные. Кто-нибудь, к кому вы могли бы заехать поначалу.
Он опять осекся. Ему пришло на ум, что в таком виде, с голыми коленями, в стоптанных комнатных туфлях на босу ногу, в потертом мужском пальтеце, не прикрывавшем как следует грудь, ей даже нельзя войти в трамвай.
Он стоит, растерянный, уже почти досадуя. Он хотел бы что-то сделать для нее, но, боже мой, что тут сделаешь? Не может же он взять ее с собой, одеть… и, наконец: а что же дальше?
– О боже, фройляйн! – говорит он вдруг печально. – Как же все-таки мог молодой господин дойти до этого?
Но Петра поняла одно:
– Значит, вы тоже думаете, что он не вернется?
Лакей поводит плечами.
– Кто знает! Вы что, поссорились? Ведь вы же хотели сегодня пожениться?
Пожениться… верно! Это слово еще доходит до нее, а она-то и думать об этом забыла.
– Да, мы сегодня поженимся… – сказала она и чуть улыбнулась. Она вспомнила, что сегодня должна была расстаться с фамилией «Ледиг», которая всегда говорила как бы о каком-то изъяне. Вспомнила, как проснулась и не осмеливалась посмотреть на его карман и все-таки была еще уверена: сегодня это осуществится! Потом первые сомнения, его нерешительность, когда она допытывалась, требовала, просила… И как она почувствовала сразу, как только за ним закрылась дверь: сегодня это все же не сбудется!
А потом вдруг (непостижимо, но так оно было: голод заставил ее пылающий мозг забыть даже это) – вдруг перед зеркалом она поняла, она узнала, что он хоть и ушел, но остался с нею, навсегда и неразлучно, что он в ней. Все, что было после: как она сидела просительницей на кухне у Туманши, поглядывая на Идины крендельки, и как ее выгнали, и как она праздно ждала здесь в воротах – это все сделал только голод, коварный враг в теле и мозгу, заставивший ее забыть то, чего забывать нельзя: то, что в ней.








