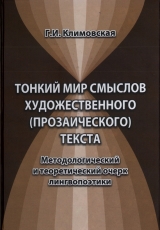
Текст книги "Тонкий мир смыслов художественного (прозаического) текста. Методологический и теоретический очерк лингвопоэтики"
Автор книги: Галина Климовская
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Совершенно особое место в сложном, сбивчивом, прерывистом, но все же едином процессе эволюции речевой художественной формы литературного произведения в XX веке занимают художественные системы русских писателей того периода, который выше обозначен как семидесятые годы: В. Шукшина, В. Распутина, В. Астафьева, Ю. Трифонова, Ю. Казакова и других. Если отвлечься от глубинного своеобразия их художественных систем на других уровнях и сосредоточить внимание на речевой художественной форме произведений, то может быть обнаружена их общая черта: наличие в них умеренно сгущенной речевой художественной организации.
Степень этой сгущенности может быть – весьма приблизительно и обобщенно – измерена в коэффициентных числах, отражающих процентное отношение количества в том или ином тексте знаменательных слов, так или иначе втянутых в состав разного рода артем, к общему числу слов в тексте. Эти коэффициентные числа в произведениях перечисленных выше писателей семидесятых годов колеблются в довольно широком диапазоне – от 4 до 25 %, но обретают целокупность и информативность в сопоставлении с соответствующим диапазоном, относящимся к текстам писателей-модернистов (романам А. Грина, ранним повестям К. Паустовского и Б. Пастернака): от 40 до 60 %.
Существенное уменьшение меры насыщенности текста художественно активизированным речевым материалом в произведениях писателей 60-70-х годов XX века почти на уровне очевидности объясняется творческим, соразмерным с художественными задачами, решаемыми названными выше писателями, совмещением в их художественных системах соответствующих традиций позднего реализма и позднего модернизма не без некоторого (позитивного!) влияния «дистиллированной» прозы социалистического реализма. Напрашивается мысль, что его «дистиллированные» (в плане речевой художественной формы) тексты послужили своеобразным лабораторным («пустым») столом, на котором вырабатывались принципы и нормы построения и меры сгущения речевой и художественной формы произведений писателями семидесятых годов. Более того, в роли этого лабораторного стола они были использованы и в практической технологии лингвопоэтического анализа творчества писателей семидесятых годов XX века.
Эти меры художественной плотности речевой формы произведений писателей семидесятых годов можно определить как золотую середину – и не только потому, что они занимают серединное положение между крайностями модернизма и социалистического реализма. Дело в том, что во фразе художественного текста этого типа отчетливо проступают и противостоят друг другу основные строевые части речевой художественной формы: стилистически нейтральный фон и выдвинутая на первый план (авансцену) Артема (пучок артем). Именно эти тексты – любой из них! – могут служить наглядной иллюстрацией обсуждаемых в данной работе в теоретическом и методологическом ключе схем строения фразы художественного текста, отмеченного отчетливой, развитой речевой художественной формой.
Что касается речевой художественной формы в произведениях постмодернизма (связываемого с именами Т. Толстой, Вен. Ерофеева, А. Битова, Саши Соколова и других), то процентное соотношение числа слов, так или иначе участвующих в создании артем, к общему числу знаменательных слов в этих текстах «зашкаливает» за 100 %, так как, с одной стороны, нередко одно и то же слово (как единица языковой формы этих текстов) инкрустировано в художественный смысловой состав двух, трех и более артем, образуя неразрывные многомерные смысловые конструкции («корневища»); а с другой стороны, произведения постмодернизма так или иначе вписаны их авторами в более или менее объемный интертекстуальный дискурс, за счет чего в единицах их речевой художественной формы возникают дополнительные семантические «выверты» (по выражению С.С. Аверинцева) и формируются дополнительные художественные смыслы.
Со стороны общей для всех произведений постмодернизма особенности содержания и художественной (в том числе речевой художественной) формы – повышенной технической сложности письма к повышенной смысловой плотности фразы – литературоведы и критики определяют постмодернистскую прозу как «утрированную» (А. Синявский), «артистическую» (М. Липовецкий), «нарядную» (М. Чудакова), «абстрактную» (А. Левкин).
Таков в общих чертах отнюдь не прямой и непрерывно поступательный путь возникновения, становления и многих превращений речевой художественной формы как отдельного (от содержания и литературной формы), новационного уровня в произведениях русской прозы XX века.
Глава III
Из истории изучения речевой художественной формы литературно-художественного произведения в отечественной филологии
§ 1. Первые реакции на феномен речевой художественной формы (конец XIX – начало XX века)
Филологическая наука и критика на протяжении всего XX века в многочисленных специальных статьях и отдельных попутных откликах реагировала на зарождающийся в художественных глубинах литературного произведения феномен речевой художественной формы. В трех рассмотренных в этой главе концепциях – A.A. Потебни, Д.Н. Овсянико-Куликовского и М.М. Бахтина, – отделенных друг от друга двумя-тремя десятками лет, отразились разные этапы процесса становления речевой художественной формы в русской прозе конца XIX – начала XX века: ее изначальное отсутствие, зарождение и пышный расцвет.
Вообще A.A. Потебня как представитель психологического направления в лингвистике своего времени полагал, что «слово само по себе есть эстетический феномен». Но в то же время (в споре с представителями т. н. логического направления) в статье с концептуальным названием «Психология поэтического и прозаического мышления» он провел разграничительную черту между словом в поэзии и словом в прозе, не случайно и очень симптоматично объединяя понятием «проза» и художественную и нехудожественную – научную, философскую – прозу: «Можно сказать, что поэзия есть аллегория, а проза есть тавтология или стремится быть тавтологией (слово точно выражающее то, что называется математическим равенством)… Что же есть прозаическое мышление? Это мышление в слове…, при котором значение (частный факт или общий закон) выражается непосредственно, без помощи образа»[40]40
Потебня A.A. Психология поэтического и прозаического мышления // Семиотика и авангард: антология. – М., 2006. – С. 197.
[Закрыть]. И даже по поводу романа A.C. Пушкина «Евгений Онегин» A.A. Потебня замечает: «Ведь здесь поэт прямо рисует нам действительность, как она есть».
А в следующем рассуждении A.A. Потебни содержится смутный намек на способ разграничения «твердого», «предметного» основания художественного («поэтического») текста и слоя его смысловых приращений: «Чтобы наглядно представить себе, чем отличается прозаическая форма от поэтической, следует переделать поэтическое произведение в прозу»[41]41
Там же.
[Закрыть].
Спустя уже несколько десятилетий Д.Н. Овсянико-Куликовский видит в языковых ресурсах литературного творчества некую «потенциальную энергию», которая «выливается в художественные формы». В духе разделяемой им потебнианской психологической концепции языка и художественного творчества Д.Н. Овсянико-Куликовский писал: «Психологическая деятельность, известная под именем языка, не только не исчерпала творчества мысли, а напротив укрепила и развила его. Этот прогресс мысли выразился в стремлении подняться над областью языка в какие-то высшие сферы, создать новый мир образов кроме того, который был дан в самом языке. Та энергия мысли, которая тратилась на саму речь, теперь направится куда-то выше речи и последняя будет низведена на ступень материала или орудия этой новой деятельности… (курсив наш. – Г.К.). Энергия, тратившаяся некогда на мышление грамматической формы, имела – между прочим – художественный пошиб (курсив Д.Н. Овсяннико-Куликовского). И вот, раз она освободилась, то ее дальнейшая деятельность может принять форму не только научной или философской, но и художественной – смотря по человеку, по характеру и свойствам его ума… Духовная художественность… как бы скрывается… в формах языка… в виде связанной, потенциальной энергии… и теперь освобождается… и выливается в художественные формы» (курсив наш. – Г.К.)[42]42
Овсянико-Куликовский Д.Н. Язык и искусство // Семиотика и авангард. Антология. – М., 2006. – С. 212–213.
[Закрыть].
В приведенной выше заочной перекличке двух отечественных филологов зафиксирован момент зарождения и усиления степени художественной активности («художественного пошиба») речевой ткани в структуре произведения.
Воззрениям М.М. Бахтина по вопросам художественной структуры произведения[43]43
Бахтин М.М. Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 40.
[Закрыть] в силу их концептуальной значимости в плане данной работы отведен отдельный параграф (§ 3 этой главы). Обзор же дискуссий по этим вопросам 30 – 70-х годов XX века в данной главе опережает (§ 2) прочтение соответствующей (упоминаемой ранее) статьи М.М. Бахтина 1924 года по той причине, что участники этих дискуссий по существу оставались, по мнению автора, в теоретических границах воззрений A.A. Потебни и Д.Н. Овсянико-Куликовского.
§ 2. Дискуссии 30-х и 70-х годов XX века
В дальнейшем в течение всего XX века время от времени оживлялась дискуссия о роли языковой субстанции в художественной структуре литературного произведения. Помимо основного повода – самого факта яркой, изощренной речевой формы в произведениях модерна – перманентное обострение этой дискуссии было обусловлено теорией и практикой составления словарей писателя, в связи с чем постоянно вставал вопрос о том, сплошь ли все или только т. н. образные слова из текстов, например A.C. Пушкина, включать в словарь.
Конкретная теоретическая суть этой дискуссии, не завершенной и к данному времени, варьировалась на разных ее этапах, сохраняя при этом свое концептуальное (методологическое) ядро: вопрос о том, активна или пассивна языковая форма произведения по отношению к его содержанию и если активна, то каковы при этом авторские цели и установки и художественные механизмы этой активизации и ее результаты.
В ходе дискуссии 30-х годов, в частности, конкретная теоретическая сущность этого времени формулировалась так: обладает ли «словесная форма» произведения сплошной или только частичной образностью? При этом один из активных участников этой дискуссии, А.М. Пешковский, настаивал на «неизбежной образности каждого слова, поскольку оно преподносится в художественных целях и дается, как это принято теперь говорить, в плане общей образности»[44]44
Пешковский Л.М. Вопросы методики родною языка, лингвистики и стилистики. – М., 1930. – С. 122.
[Закрыть].
Один из основных оппонентов теории «сплошной образности», В.Ф. Переверзев, писал: «Став элементами образа, создавая общий свой массовый образ, все слова становятся художественными, но это вовсе не значит, что они становятся образными. Пешковский не уловил глубокой разницы между тем, что называется образным словом и словом поэтическим… Между тем, даже преподнесенное в художественных целях, оно остается необразным словом художественного языка, в котором одинаково находят себе место и образные и необразные слова и природа которого отнюдь не определяется языковой образностью. Пора уже окончательно и твердо установить, что художественное слово и слово образное совсем не одно и то же, они относятся к явлениям разного порядка, из которых первое – явление искусства, второе – явление языка… В составе языка есть слова образные и необразные, которые являются объектом лингвистического изучения. Но и образные, и необразные слова не имеют качеств художественности. В языке нет художественных слов. Художественным слово становится лишь в составе художественного образа, который складывается как из образных, так и необразных слов, когда, выражаясь словами Пешковского, «слово преподносится в художественных целях»[45]45
Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. – М., 1982. – С. 470.
[Закрыть].
В понятийном языке данной работы представленная дискуссия была по сути спором о терминах. Если бы А.М. Пешковский с самого начала оговорил, что используемые им термины «художественный» и «образный» употребляются как нестрогие идеографические синонимы, что следует из смысла его рассуждения, он не получил бы оппонента в лице В.Ф. Переверзева. Оба оппонента сходятся во мнении и правы в том, что слово в структуре литературного произведения и идентичное с ним по буквенной форме слово вне произведения – это принципиально разные сущности: первое – элемент художественной системы того или иного писателя (точнее, речевой художественной формы произведения), независимо от того, входит оно – слово – в состав артемы или является элементом нейтрального речевого фона, второе – элемент системы общего (коммуникативного) языка. Но оба оппонента подменили вопрос о возможности различной степени художественной активности элементов речевой ткани произведения (в оппозиции артема – фон) вопросом о различии стилистически нейтральных и стилистически экспрессивных («образных») слов – в структуре ли произведения или за его рамками, «в общем языке».
Забегая вперед, следует заметить, что в понятийном языке этой дискуссии отсутствовала очень важная в данном случае оппозиция «форма – материал», введенная в понятийный дискурс этой дискуссии М.М. Бахтиным.
Как бы подводя итог дискуссии 30-х годов, Г.О. Винокур уже в 40-е годы выделил главное ее теоретическое достижение: «все элементы словесной формы произведения так или иначе «опрокинуты» в тему и идею художественного замысла»[46]46
Винокур Г.О. Об изучении языка литературных произведений // Избранные работы по русскому языку. – М., 1959. – С. 247.
[Закрыть].
В ходе дискуссии 70-х годов центр ее теоретической тяжести сместился. Преодолев неактуальное (в рамках теоретической парадигмы этого времени, отразившей, в свою очередь, состояние дел в литературе) различие образных и безобразных слов, которые в равной мере могут быть использованы писателем в качестве элементов языковой формы произведения, оппоненты 70-х годов на первый план выдвинули как раз вопрос о том, в равной ли степени активны слова в словесной ткани произведения.
М.Б. Борисова, стоя на позиции, сходной с позицией А.М. Пешковского, как бы уточняет его рассуждения: в художественном произведении «все без исключения элементы текста – и слова, и значения, и формы, и структура предложения и прочее – своеобразны уже своим местом в структуре целого, своей ролью в воплощении замысла писателя»[47]47
Борисова М.Б. Еще раз об общей образности и «упаковочном материале» и их отражении в словаре писателя // Вопросы стилистики. – Вып. 6. – Саратов, 1973. – С. 99.
[Закрыть].
Стоя на противоположной точке зрения, В.П. Григорьев писал: в строке художественного текста «наряду с центрами, узлами… художественной экспрессии имеют место т. н. «упаковочные» слова[48]48
Григорьев В.П. Поэтика слова. – М., 1979. – C. 124.
[Закрыть]».
Представляется возможным и необходимым непротиворечиво объединить фрагменты соображений обоих оппонентов: в речевой ткани произведения «все без исключения элементы текста… своеобразны уже своим местом в структуре целого, своей ролью в воплощении замысла писателя» (М.Б. Борисова), но при этом «наряду с центрами, узлами художественной экспрессии» (В.П. Григорьев) в строке художественного текста есть слова, художественно менее экспрессивные (фоновые, по Б.А. Ларину). Однако отнюдь нет понятийного равенства между терминами «фоновые элементы художественного текста» и «упаковочные слова», это элементы совершенно различных оппозиций: фоновые слова противостоят «центрам, узлам художественной экспрессии» (то есть артемам) в рамках речевой художественной формы произведения, а «упаковочная функция присуща всем без исключения элементам языковой формы произведения – в том принципиальном различии этих феноменов, которое в первом приближении было принято выше (глава I, § 4). Таким образом, в очередной раз имеет место ошибка неразличения функционально разных сущностей, базирующихся на одной и той же материальной основе: с одной стороны, языковой формы произведения («упаковки») и, с другой – речевой художественной формы как драгоценного, эстетического по природе содержимого этой упаковки.
Собственно, именно путем преодоления методологических и логических неточностей, имевших место в обеих охарактеризованных дискуссиях, в опоре на идеи упоминавшихся ранее других исследователей, в том числе и прежде всего М.М. Бахтина, А.М. Пешковского, Я. Мукаржовского и других, была выработана концепция речевой художественной формы произведения, предлагаемая в данной работе.
§ 3. М.М. Бахтин о содержании, форме и материале в структуре литературного произведения
Любая дискуссия о месте и функции языковой субстанции в эстетической структуре литературного произведения потекла бы по другому, методологически более строгому и потому более продуктивному руслу, если бы в ее теоретический актив с самого начала было включено учение М.М. Бахтина о содержании, форме и материале произведения как трех функционально различных сущностях, хотя и субстанционально слитых в данности литературного произведения, созданного писателем и подлежащего читательской рецепции.
Основные положения статьи М.М. Бахтина, содержащей это учение, таковы.
Прежде всего М.М. Бахтин, обобщая широкую литературно-художественную практику первой трети XX века, полагает (декларирует) отдельность трех субстанциально и функционально разных феноменов (строевых частей) в структуре произведения: его материального воплощения (материала), его содержания и оформляющей его (содержание) формы. Принципиальная значимость этой декларации заключена именно в расщеплении того, что со времен античности значилось как изнутри неделимая, цельная форма, на собственно (художественную) форму, прямо противостоящую содержанию, и материал, воплощающий (буквально: облекающий в языковую плоть) художественно оформленное содержание.
В целях доступной (для автора данной работы) продуктивности комментария к рассматриваемой статье М.М. Бахтина следует соотнести его понятийный язык и терминологические обозначения, принятые в данной работе. Под материалом М.М. Бахтин понимает именно языковой материал (языковую форму, «упаковку») произведения, поскольку, во-первых, о другом материале, соотнесенном с литературной формой («апперцепцированных массах» художнического опыта писателя), в этой статье речь не идет. Во-вторых, вопрос о роли именно языковой субстанции в структуре художественного произведения стоял в то время на повестке дня отчетливее и острее других.
Итак, М.М. Бахтин усматривает и полагает отдельность языковой формы произведения от как-то по-другому, а именно художественно, оформленного содержания. Материал, полагает далее М.М. Бахтин, в свою очередь тоже не «абсолютно аморфен», он тоже определенным образом, по законам его субстанции, членен и упорядочен (речь в статье идет и о других видах искусства – о искусстве вообще), однако в собственно эстетический (художественный) уровень произведения не входит.
Само же произведение искусства как эстетический объект членится именно эстетически значащим способом – на художественное содержание и специфическую в каждом отдельном случае форму выражения этого содержания, не совпадающую с материалом ни по функции, ни по способу членения на единицы.
Таким образом, по М.М. Бахтину, в трихотомии «материал – содержание – форма выражения» художественно значимой форме произведения отведено промежуточное положение и соединительная функция. Она, с одной стороны, «прикреплена к материалу и… неразрывно с ним связана», а с другой стороны, «ценностно направлена помимо материала на содержание»[49]49
Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы… – С. 43.
[Закрыть].
Частой ошибкой формалистического толка, по мнению М.М. Бахтина, является невыделенность формы выражения из материала, вследствие чего она смешивается с материалом, начинает члениться исследователем по законам этого материала и утрачивает в его глазах объективно обязательно ей присущую ценностную направленность на художественное содержание.
По мнению автора данной работы, структурная (уровневая) модель художественного произведения, вырисовывающаяся в концепции М.М. Бахтина, точно отражает положение дел в живописи и пластических искусствах, а также в тех литературно-художественных произведениях, в которых языковая субстанция (ткань) выполняет только вербализующую (упаковочную) функцию по отношению к содержанию – как, например, в условной модели реалистического произведения. Если же языковая субстанция в составе произведения приобретает дополнительно тропогенетическую (образогенную) функцию, она расслаивается на собственно языковой материал и речевую художественную форму – как это происходит в произведениях литературного модернизма.
Конечно, языковой материал – это, в отличие от гипса в руках скульптора или красок и холста в руках живописца, совершенно особый, а именно семиотический материал. Различие этих двух типов материала может быть увидено в следующем. Во-первых, языковой материал – это семантизированный, то есть изначально, еще в своей «сырьевой» фазе, наделенный значением материал – и не только стилистически нейтральным («чисто» номинативным) значением, но нередко и образным, что и послужило камнем преткновения в дискуссии 30-х годов.
Таким образом, если все-таки искать аналогию между языковым материалом художественного текста и материалом какого-либо несловесного искусства, то самым близким аналогом окажутся лесные коряги и сучья – материал особого вида скульптуры, который получил название корнепластики. Действительно, в естественном лесном материале изначально в потенциальном виде заложены такие «готовые» выразительные – пространственные и цветовые – черты, которые, с одной стороны, «помогают» скульптору, но с другой – ограничивают его действия, заставляя «прислушиваться» к материалу.
Впрочем, писатель модернистского толка не только «прислушивается» к языковому материалу. Обобщая широкую практику превращения в творческих лабораториях писателей языкового материала в речевую «образную конструкцию», М.М. Бахтин писал: «… поэзия технически использует лингвистический язык совершенно особым образом: язык нужен поэзии весь, всесторонне и во всех своих моментах, ни к одному нюансу лингвистического слова не остается равнодушной поэзия… Только в поэзии язык раскрывает все свои возможности, ибо требования к нему здесь максимальные: все стороны его напряжены до крайности, доходят до своих пределов: поэзия как бы выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь себя самого»[50]50
Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы… – С. 46.
[Закрыть].
Сходные соображения по обсуждаемым вопросам содержатся в эстетических трудах отечественного мыслителя XX века Г.Г. Шпета. Речевая форма художественного текста (в терминологии данной работы – речевая художественная форма), полагал Г.Г. Шпет, есть «отрешенный» (то есть отделенный от своих источников) и «преодоленный» (то есть ориентированный на художественный замысел) языковой материал. Он вырван из привычных связей, в которых находился в системе общего языка или в типовых композициях (синтагмах) нехудожественных (коммуникативных) текстов, и втянут в иную, художественную по природе систему (каковой является художественный текст), с иным принципом организации и существенно иными функциями[51]51
Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты // Сочинения. – М., 1989. – С. 351.
[Закрыть].
Учение М.М. Бахтина о функциональной отдельности материала и формы произведения послужило теоретическим и методологическим ядром развиваемой в данной работе концепции художественного произведения. Существенное дополнение к этому ядру заключается в том, что форма произведения, в свою очередь, расслаивается на две формы – литературную и речевую художественную – на том очевидном основании, что, во-первых, каждая из этих форм «ценностно направлена» на свой собственный материал (соответственно на авторскую модель «жизни как она есть» и на язык); во-вторых, каждая из этих форм «делается» разными способами и приемами; в-третьих, каждая форма членится по-разному и на разные единицы; и в-четвертых, читательская рецепция и изучение той и другой формы произведения осуществляется разными методами.
Неразличение языкового материала произведения и «сделанной» из него речевой художественной формы приводит к подмене речевой художественной формы как художественного феномена именно языковым материалом и к провоцированному этим «разбору» речевой художественной формы в собственно лингвистических категориях и понятиях: слово той или иной части речи (существительное, глагол и т. п.), предложение, синтаксическая конструкция и т. п.[52]52
Ср. темы реально осуществленных исследований такого рода: «Роль приставки раз-в поэзии М. Цветаевой», «Причастные обороты в прозе М. Булгакова» и т. п.
[Закрыть]. Лингвопоэтика же как таковая начинается там, где «просто» слова и предложения как единицы языка, будучи втянуты в художественное пространство произведения и став единицами его речевой художественной формы, «закипают» и «выходят из своих семантических берегов» (С.С. Аверинцев) и приобретают дополнительные – и именно художественные – смыслы. Только ансамбли этих смыслов и составляют строгий предмет лингвопоэтики.








