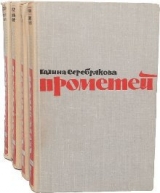
Текст книги "Похищение огня. Книга 1"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
Едва прибыв в Кёльн, Маркс и Энгельс сразу же принялись за работу. Еще до февральской революции они не раз обсуждали возможность создания в Германии самостоятельной партии пролетариата. Но время для этого еще не приспело.
Положение в Пруссии и во всех немецких королевствах и княжествах становилось все более сложным. После пронесшихся по всей Германии кровопролитных восстаний рабочих в марте 1848 года, поддержанных крестьянами в деревнях, владельцами маленьких мастерских и лавок, прусский король и многочисленные князья вынуждены были пойти на некоторые уступки. Удар по феодально-самодержавному строю был нанесен. Однако плоды нелегко добытой победы стали собирать богачи, промышленники, банкиры, хозяева больших магазинов и фабрик. В Берлине растерявшийся прусский король призвал на помощь в новое правительство богатейших магнатов – Кампгаузена и Ганземана. Эти ловкие дельцы больше всего боялись пролетариев и предпочли сговор с помещиками и князьями. В результате предательства буржуазии в полиции, армии и государственных учреждениях остались люди, верно служившие монархии, абсолютизму.
Во всем этом еще во Франции отлично разобрались Маркс и Энгельс. Не случайно именно Кёльн, город передовой рейнской провинции, где пролетариат уже пробудился к политической жизни и осознал свои возможности, избрали они местом жительства и работы. Кроме того, в Кёльне были более благоприятные условия для издания большой революционной газеты. Там все еще действовал Кодекс Наполеона, дававший несколько большие гражданские свободы, нежели прусское право, прочно утвердившееся в Берлине.
Карл не мог оставаться долго без Женни. Хотя он был очень занят, сознание, что семья далеко, угнетало его. Как ни сложно и неясно было будущее, он все же решил вызвать Женни с детьми. Вскоре вместе с Ленхен они приехали в Кёльн.
Создать новую газету было нелегко. Не хватало денег. Маркс занялся вербовкой акционеров в Кёльне. Энгельс поспешил в родной Бармен, надеясь уговорить отца, хотя бы ради его коммерческой выгоды, помочь в этом трудном деле. Вупперталь доставил ему много хлопот и разочарований, о которых он написал Марксу. Многие из тех, кого некогда Фридрих считал коммунистами, стали настоящими буржуа с тех пор, как обзавелись собственными предприятиями. Эти люди боялись как чумы обсуждения общественных вопросов; они называли это подстрекательством...
«Через два-три дня ты получишь определенное сообщение о том, как все это кончилось,– писал Карлу Энгельс.– Суть дела в том, что даже эти радикальные буржуа в Бармене видят в нас своих главных врагов в будущем и не хотят давать нам в руки оружие, которое мы могли бы очень скоро повернуть против них самих.
От моего старика совершенно ничего нельзя добиться. Для него даже «Kölnische Zeitung» является средоточием всякой крамолы, и вместо тысячи талеров он охотнее послал бы в нас тысячу картечных пуль».
Только необычайная энергия Фридриха, его ум и убедительные доводы преодолели препятствия. Он объездил много городов вокруг Бармена и весьма дипломатично уговаривал сочувствующих коммунистам состоятельных граждан вступить акционерами-пайщиками в дело издания газеты. В конце концов в придачу к тем, которых удалось уговорить в Кёльне Марксу, он нашел еще четырнадцать акционеров.
И вот уже первого июня вышел в свет долгожданный номер ежедневной «Новой Рейнской газеты». Главным редактором ее был Маркс. В состав редакции вошли Энгельс, Г. Веерт, Г. Бюргере, Э. Дронке, Вильгельм и Фердинанд Вольфы. В подзаголовке значилось: «Орган демократии».
Маркс и Энгельс вынуждены были считаться с положением, которое было в каждом из больших или малых немецких княжеств, а также в королевской Пруссии. Немецкий трудовой парод состоял в большинстве своем из ремесленников. Промышленность значительно отстала от французской и особенно английской.
В политически раздробленной Германии не было еще возможности для создания массовой пролетарской партии. Зная это, несколько сот членов Союза коммунистов, прибывших, как Маркс и Энгельс, на родину, работали не покладая рук. Однако и они не могли сразу привести в движение полную предрассудков, подчас доверявшую хозяевам массу тружеников.
Акционеры «Новой Рейнской газеты», давая деньги на ее издание, настаивали на том, чтобы основой политики газеты было пленившее и успокаивавшее их слово «демократия». Учитывая все это, Маркс, Энгельс и их сторонники вошли в «Кёльнское демократическое общество».
За несколько месяцев, прошедших после мартовских революционных схваток в Берлине и Вене, бурлящая река снова вошла в берега. У кормила власти всюду оказались люди, отличавшиеся от своих феодальных предшественников только умением произносить напыщенные речи о необходимости свободы, справедливости и улучшения жизни рабочих. Чем больше было слов, тем меньше дела. Национальное собрание во Франкфурте должно было внести значительные изменения в законодательство и объединить Германию. Но в море фраз и добрых пожеланий пошли ко дну все предполагаемые свершения, и все оставалось по-старому.
Восемнадцатого мая 1848 года во Франкфурте-на-Майне открылось общегерманское собрание, на которое все демократы возлагали немалые надежды.
Депутатам предстояло выработать параграфы конституции будущего единого германского государства. Но очень скоро стало ясно, что Франкфуртское собрание лишено какой бы то ни было решающей политической власти и не стремится приобрести ее.
Не только либералы, которых было большинство, но и депутаты, представлявшие мелкую буржуазию, отличались чрезвычайной говорливостью. Словами они прикрывали трусость, безволие и явное нежелание возглавить народное движение против быстрорастущей контрреволюции.
Первый же номер «Новой Рейнской газеты» прозвучал как взрыв бомбы. Статьи против Франкфуртского парламента – бессовестной говорильни, объяснявшие, как обманут пролетариат, одержавший в Берлине победу во время мартовской революции 1848 года, испугали прежде всего господ акционеров. Они осаждали в эти дни скромный кабинет Маркса в редакции и выражали свое возмущение газетой.
– Позвольте,– горячился один из купивших акции газеты буржуа,– вы подкладываете под мой матрац адскую машину. И это за мои же деньги. Какая тут, к дьяволу, линия добропорядочной демократической политики? Это же чистейший коммунизм! Я не хочу сидеть вместе с вами на скамье подсудимых.
Маркс сдержанно успокаивал акционеров, не давая им, впрочем, никаких обещаний изменить курс газеты.
И «Новая Рейнская газета» стала единственным, подлинно революционным рупором пролетариата Германии.
Редакция газеты, заменив, по сути, прежний Центральный комитет Союза коммунистов, направляла также деятельность членов союза, которые в эту пору возглавляли многие германские рабочие союзы. Маркс и Энгельс создали революционный боевой штаб коммунистов, где работали лучшие, даровитейшие журналисты, писатели, поэты. С сумерек и до глубокой ночи не закрывались для них двери кабинета Маркса. Веерт то и дело врывался, чтобы поделиться с главным редактором блеснувшей у него мыслью или прочесть своим глуховатым голосом новые, пылающие, как его глаза, стихи.
Именно здесь, в накуренной шумной комнате с узким диванчиком, на котором часто проводил короткие часы ночного сна Маркс, Веерт чувствовал себя наиболее счастливым. И не он один. Отсюда, с этой командной высоты, открывалась не только вся Германия, но и весь мир. Из этой простой комнатки с несколькими столами и стульями, с множеством окурков вокруг чернильниц, на папках и на полу, гремел набат.
Каждый, пробывший хоть немного времени среди этих вдохновенных, необыкновенных, излучающих искры воли, ума, добра, знаний, целеустремленных, веселых людей, точно восходил на самую высокую вершину и, ошеломленный, взирал на открывшуюся ему панораму.
Ежедневная газета была начинена порохом. Слова стали гранатами. Но в них была не только разрушительная, но и созидательная сила. Энгельс оказался превосходным воином в газете. Его перо стоило многих батарей и неизменно обеспечивало победу. Болезненный, но неутомимый Веерт, сдержанный Фрейлиграт, весельчак и балагур Фердинанд Вольф, прозванный «Красным»; торопливый, горячий «Малыш» – Дронке; трудолюбивый, самоотверженный Вильгельм Вольф – никто по мог состязаться с многогранным Энгельсом, хотя каждый из них тоже хорошо работал, писал очерки, статьи, фельетоны.
– Я читал у Плутарха, что Ганнибал побеждал оттого, что мог не спать по нескольку суток, терпеливо переносил невзгоды, голод, холод и был упорен в любом деле. Несомненно, наш Фред из той же породы великих полководцев,– говорил Веерт.
Н действительно, никто не мог превзойти Энгельса в блеске и неповторимости, ясности и глубине его публицистических выступлений. Не было темы, которую, подчас в последнюю минуту, перед самой отправкой газеты в набор, он не превратил бы в полную глубочайшего ума и знаний или уничтожающей иронии статью. Для газеты он был сущий клад и не раз помогал Марксу, который нес всю тяжесть общего политического руководства и множества организационных дел. Большинство передовиц создавал Энгельс почти что на ходу, и, как Юлий Цезарь, он мог одновременно писать, говорить и просматривать подоспевший редакционный материал.
– Ты подлинно ходячая энциклопедия! – восторгался Карл другом.– Все знаешь, до самого корня, сообразителен как черт, способен работать в любое время дня и ночи, после еды и натощак.
Во всем Маркс и Энгельс превосходно дополняли друг друга.
«Новая Рейнская газета» жестоко бичевала измену буржуазии, предавшей рабочих и крестьян. В своих статьях ее авторы-коммунисты разрушали ложное представление, утвердившееся в народе, что мартовские бои 1848 года завершили революцию и несут с собой будущие блага.
«Ты думаешь, что покончил с полицейским государством? – писал Энгельс в одной из своих статей.– Заблуждение! Ты думаешь, что теперь тебе уже обеспечены право свободного объединения, свобода печати, вооружение народа и прочие красивые слова, которые доносились к тебе через мартовские баррикады? Заблуждение, чистейшее заблуждение!
Когда прошел приятный хмель,
Очнулся ты в недоуменье...»
Сражаясь против реакционных сил, Маркс и Энгельс в своей газете стремились утвердить самосознание рабочих, так же как и забитых немецких крестьян, расковать их энергию, призвать на завершение буржуазной демократической революции. Тогда, по их мнению, откроется широкая дорога к последующей борьбе – за революцию социалистическую. Это давалось нелегко. Приходилось преодолевать сопротивление не только одной государственной власти. Стефан Борн, член Союза коммунистов, давнишний знакомый Карла и Фридриха, создал в Берлине организацию, назвав ее «Братством рабочих». Он попытался, приспособляясь к самым отсталым ремесленникам, убедить их в том, что важны не общеполитические задачи всего германского народа, а чисто экономическое устройство самих рабочих. Борн сводил революционную борьбу к вопросам продолжительности рабочего дня и заработку. «А об этом,– говорил он,– можно сговориться с предпринимателями».
Руководитель кёльнского «Рабочего союза» врач Андреас Готшальк и вернувшийся в Германию из Америки Вейтлинг, не понимая чисто буржуазного характера революции, наоборот, требовали немедленного развязывания гражданской войны и провозглашения рабочей республики. Вейтлинг на собраниях нападал на «Новую Рейнскую газету», обвиняя ее в стремлении объединить все демократические силы в ущерб рабочим.
Невежественные в политике, крайне самонадеянные, сектанты соединяли в себе демагогическую фразеологию с трусостью, когда доходило до дела. Их выступления вносили путаницу в умы, что волновало Маркса и Энгельса, так как нельзя было допустить раскола в опаснейший момент наступления германской и мировой контрреволюции. Как никогда, нужно было сохранять единство и волю к победе, чтобы спасти то немногое, что оставалось у рабочих и крестьян от мартовских побед.
Вспыльчивый, горячий, Маркс умел быть хладнокровным в минуты наибольшего напряжения и опасности. Таким он был в редакторском кресле «Новой Рейнской газеты», на трибуне собрания коммунистов, «Демократического общества» и «Рабочего союза». Самообладание его не знало тогда предела и он твердостью, смелостью, уверенностью и ясностью мысли побеждал противников.
Ничто важное для судеб человечества, происходившее в мире, не ускользало от внимания «Новой Рейнской газеты». События в Польше находили отражение на ее страницах в такой же степени, как и вопросы необходимости революционного объединения Германии. Энгельс в статье «Новый раздел Польши» горячо поддерживал национально-освободительное движение польского народа. Он неопровержимо доказывал, что создание демократической Польши является непременным условием создания демократической Германии. Все страны мира – звенья одной цепи.
Маленькая таверна «У Марианны», недалеко от площади Бастилии, на вывеске которой тотчас же после революции хозяин собственноручно нарисовал пику, напоминавшую кочергу, и фригийский колпак, похожий на треугольную сахарную голову, состояла всего из одной низенькой комнаты с очагом посередине. Запах превосходно поджаренного мяса и яблочного сидра, который приготовляла хозяйка, уроженка бургундской деревни, постоянно наполнял таверну и вызывал бурный аппетит у посетителей.
На стенах ее со времен объявления Второй республики висели портреты Робеспьера и Марата и яркие литографии, изображавшие взятие Бастилии, заседания Конвента л шествия 1793 года. Хозяин состоял членом возродившегося Клуба якобинцев и объявлял себя сторонником самых крайних революционных взглядов. Он читал газету «Друг народа» Распайля и похвалялся, что в таверне часто ужинает Огюст Бланки.
Иоганн Сток и Кабьен после работы бывали «У Марианны». где обычно собиралось так много посетителей, что приходилось примащиваться по двое на табуретах.
Как-то в сумерки, подойдя к таверне, портной и прядильщик остановились у настежь открытой двери.
–. Ба, да здесь сам Беранже,– сказал радостно Кабьен и указал Стоку на старика с лысой головой. Только на затылке поэта венчиком вились длинные седые волосы.
Иоганн жадно вглядывался в дряблое лицо великого песенника. Несколько выпуклые, покрасневшие глаза Беранже плохо видели. Он щурил их. Запоминался его добродушный нос с утолщенными ноздрями.
Беранже казался растерянным. Его засыпали вопросами собравшиеся в таверне рабочие и ремесленники.
– Ты упорно отказываешься от участия в Учредительном собрании. Почему? Ведь все лучшие люди, весь рабочий люд Франции отдают тебе свои голоса.
– Мы пели твои песни на баррикадах. Ты всегда жалел бедных и знаешь наши нужды.
Сток услыхал, как Пьер-Жан Беранже ответил на эти вопросы, не повышая слабого голоса:
– Вы забыли, что мне уже около семидесяти. Я теряюсь среди множества людей. Мой бедный ум смущен даже сейчас. Вас слишком много. Я отказывался не только от парламентской скамьи, но и от кресла в академии. А это ли не честь для писателя! Поймите же и пощадите старого и немощного своего друга. Разве на протяжении тридцати с лишним лет не был я эхом ваших печалей и надежд? Но эхо родится в тиши лесов, полей и вод. Не извлекайте же меня из моего уединения. Там я во много раз полезнее вам, друзья мои.
– Что же, ты бежишь! – крикнул молодой рабочий с металлургического завода.
Сток прорвался к нему и схватил за руку.
– Молчи, юнец. Взгляни на седины, на дрожащие старческие руки Беранже. Пусть служит он пролетариату своим пером там, где ему спокойнее.
Рядом со Стоком стал стройный мужчина с длинными волосами в широкой темной блузе.
– Я рабочий, как вы. И, подобно многим поэтам, обязан Беранже тем, что пишу песни. Мое имя Дюпон.
Восторженные возгласы прервали любимейшего песенника революционных окраин.
– Говори, Пьер. Мы умеем ценить песни и стихи больше, нежели толсторылые буржуа.
Но Дюпон, как бы не слыша, подошел прямо к Беранже и, откинув руку жестом средневекового менестреля или трубадура, поклонился.
– О Беранже! Наш предводитель старый, мы каждою строкой тебе должны!
Затем он принялся рассказывать, как со всей Франции стекаются к Беранже вдохновенные, но часто беспомощные поэмы и стихи начинающих поэтов из рабочего класса. С терпением и любовью читает и правит эти первые творения пролетариев старый Беранже.
– Кто из нас, пролетарских поэтов, – продолжал Дюпон,– не получал совета от него? – И снова он изящно поклонился патриарху поэзии.– Беранже, ты не раз учил нас не бросать иглы, наковальни, рубанка и молота, прежде чем не появится уверенность в успехе. Ты предупреждал, что нищета и горе в наши дни настигают писателей и ввергают их в пропасть бедствий. Тяжелое ремесло быть поэтом и воспевать правду среди хищников буржуа. Ты, Беранже, не только друг и певец рабочих, но и учитель тех, кто рвется к поэзии. Кто еще, как ты, стал бы настраивать с такой заботливостью лиру тружеников? Слава тебе в веках!
Старый поэт растроганно обнял Дюпона и затем обратился к многочисленным блузникам, которые словами, взглядами, жестами наперебой высказывали ему свое почтение и преданность.
– Спасибо, братья! Скажу вам словами своей песни:
О, сделай так, чтоб говорили
Они при имени моем:
«Хвала ему, ведь он впервые
Привел поэзию к нам в дом!»
Когда Беранже ушел, Сток и Кабьен еще долго молчали, поглощенные своими думами. Вспомнив что-то, портной сказал:
– А ведь и Маркс, лучший и умнейший из всех людей, которых я знавал, назвал Беранже бессмертным. Вот какая сила в песне, если от колыбели до гроба сопровождает она парод.
– Пора бы тебе показать мне этого Маркса. Не так-то часто хвалишь ты кого-либо.
– Да, брат, такие, как он, родятся только раз в тысячу лет. Но познакомить тебя с ним пока не могу. Он в Германии.
Сток долго еще говорил о Марксе и Союзе коммунистов. Он был необычайно возбужден и весел в этот вечер.
А дома ждало его несчастье. Пока портной был на работе, а потом в таверне «У Марианны», занемогла Женевьева. Обычно она умела скрывать от мужа и детей свои недуги. Но в этот раз болезнь оказалась такой тяжелой, что ей это не удалось. Приступы тошноты, рези, внезапно начавшись, все усиливались. Еле-еле дотащилась она до ветхой постели, впервые за всю жизнь легла днем и, не выдержав боли, громко застонала. Владелица дома прибежала узнать, что стряслось у постояльцев. Женевьева, судорожно вздрагивая, попросила ее увести прочь детей.
– Присмотри за маленькой Катриной, Иоганн,– сказала она жалобно сыну.– Не знаю, встану ли я. Очень мне трудно.
Девочку едва оторвали от матери, а перепуганный мальчик не смог сдержать слез. Он впервые видел мать такой слабой. Добрая вдова каретного мастера увела к себе детей, и Женевьева до прихода мужа осталась одна. Поздно вечером Сток нашел жену в судорогах. Вся в поту, она металась по постели. Портной окликнул ее, по не получил ответа. Тогда он поднял ее голову. На него глянули чужие, измученные предельным физическим страданием, полные ужаса глаза. Они смотрели сквозь него куда-то далеко.
– Милая, голубка, женушка, хозяюшка,– причитал Сток.
Откуда только брались у него эти ласковые слова? Как мало дарил он их Женевьеве за восемнадцать лет пх совместной жизни! Как мечтала она о такой ласке! А теперь глаза ее смотрели, выражая только глубокое страдание и недоумение.
Иоганн поднял Женевьеву на руки и ужаснулся тому, как легко было ее тело. Она казалась ему такой же, как в Лионе, когда он нес ее с берега Роны. Он прижал ее к себе, точно мог этим отогнать духов зла, пробравшихся к ним. Судороги опять свели тело больной. Она застонала. Охваченный отчаянием бессилия, Иоганн достал небольшие сбережения и, завязав деньги в платок, выбежал из дому. Как помочь жене? Он смутно помнил, что на улицах, где жили богатые люди, видел металлические вывески врачей. Ему пришлось долго идти до центра Парижа. Там, неподалеку от красивого, величественного темно-серого храма Сен-Сюльпис, среди нарядных домов, он наконец отыскал один, в котором жил доктор. Сток постучал молотком по двери. Служанка удивленно взглянула на рабочего в шерстяной фуфайке поверх грубой блузы. Она не решилась впустить его в приемную и задержала в темной передней.
– Господин доктор выйдет к вам сам,– сказала она, не скрывая презрения.
Стоку все было безразлично. Единственно, чего он не мог вынести, это промедления, а время, как назло, тянулось томительно медленно, пока врач доедал свой ужин. Портной едва удерживал проклятия, но не решался войти в комнату, чтобы не рассердить того, кто единственный мог, как ему казалось, еще спасти Женевьеву. Наконец, недовольный вызовом в неурочный час, доктор с белоснежной салфеткой, заткнутой за ворот сюртука, вышел в переднюю.
– Вы больны? – спросил он брезгливо.– А, это ваша жена больна! Это ложь! Ну хорошо. Где ваш экипаж? Я не хожу пешком к пациентам. К тому же прошу учесть, что я такой же труженик, как вы, и должен иметь заработок. Лечить бесплатно я не могу. Если у вас нет денег, обратитесь, пожалуйста, к моему соседу...
Сток протянул врачу большую часть всех своих денег. Затем, сильно прихрамывая, побежал за наемным фиакром.
Доктор брюзжал всю дорогу по поводу того, что бедняки обычно преувеличивают опасность недуга и на самом деле здоровы.
Сток молчал. Про себя он надеялся, что Женевьеве, пока его не было, стало лучше. Но едва он вошел в комнату, надежды его рухнули. Очевидно, больная встала, желая как-то облегчить страдания, но приступ болей свалил ее снова. Ползком добираясь до кровати, она опрокинула табурет и разлила воду. Подушка в пестрой наволочке валялась в ногах, и голова больной беспомощно свисала с тюфяка. Гримаса боли перекосила ее исхудавшее, ставшее неузнаваемым лицо. Врач брезгливо осмотрелся, затем раскрыл кожаный чемоданчик, который привез с собой, и достал огромный градусник.
– Я уверен, что мог бы не тащиться в это логово,– сказал он раздраженно.
Вдруг у Женевьевы начались конвульсии. Врач побледнел и, сутулясь, приблизился к кровати.
Женевьева извивалась, прижимая руки к впавшему животу. Глаза ее широко раскрылись. Она была в полном сознании, но не имела сил говорить. Из пересохшего горла вырывались неясные звуки. Врач встретился с ней взглядом, и страх, который был на лице больной, передался ему с удвоенной силой. Сток увидел все это и внезапно понял, что нет надежды.
– Спасите ее, умоляю вас. Пожалейте нас. Помогите! – закричал он истошным голосом, какой никогда в жизни до этой минуты не вырывался из его горла.– Помогите, сжальтесь, господин доктор! У нас дети!
– Куриный бульон, котлетки телячьи, миндальное молоко,– говорил врач, пятясь от постели больной.– Еще хорош в таких случаях ромашковый настой. Мои коллеги добивались с его помощью отличных результатов. Теплая ванна облегчает боли.
Дрожащими руками он выписал за столом несколько рецептов и протянул их портному.
Когда врач, прикрыв руку фуляровым платком, взялся за ручку двери, Сток загородил ему дорогу:
– Вы не можете так уйти. Она ведь умирает. Я достану вам еще денег. Эта женщина для меня дороже жизни. Я однажды уже считал ее мертвой, но она вернулась ко мне, нашлась. С тех пор она была со мной всегда. Она никогда не жаловалась. Это святая женщина. Спасите же ее! Вы ведь учились.
– Увы, друг,– сказал врач мягко,– я не бог. Медицина тут бессильна. Берегитесь заразы сами. Вы, кажется, тоже нездоровы.
– Но что с Женевьевой? Что это за болезнь?
– Холера.
Каждый день в Париже и других городах Франции и всей Европы в это время умирали тысячи людей от чудовищной болезни. Холера была страшна, как чума в средние века. Сток слыхал и читал об этом, но болезнь казалась ему такой же далекой, как желтая лихорадка в Кайенне. И вот она заползла в его дом и убивала Женевьеву.
Две ночи и день боролся портной, как умел, за жизнь жены. Согревал холодеющее тело своим дыханием, укутывал тряпьем, собранным среди жалкого домашнего скарба, носил на руках, отмечая с все нарастающим отчаянием, как легче и легче становится его ноша. Он звал ее, молил по уходить, не оставлять одного.
Болезнь была подобна зверским пыткам. Чувствуя свою полнейшую беспомощность и не зная, как облегчить страдания любимой женщины, Иоганн то впадал в ярость и грозил судьбе, то готов был униженно вымаливать у бога, в которого не верил, пощаду. Он представлял себе всю несложную и горемычную жизнь жены и чувствовал, что не был ни достаточно добр, ни внимателен к ней. Запоздалые сожаления, непоправимость свершившегося терзали его. Когда жена погладила его исхудавшей рукой, он заплакал, как в детстве.
– Болей хоть многие годы, но только не исчезай совсем. Живи ради меня. Не умирай! – молил он.
Когда-то в течение нескольких лет он считал себя вдовцом и привык к этой мысли. Но затем внезапно обрел жену снова. Десять лет они несли вместе огромную тяжесть, называемую жизнью пролетариев. Заботы друг о друге и детях, горести и немногие радости, ночи и дни соединили их, спаяли. Сток чувствовал, что умирает но одна Женевьева, но и большая часть его самого. Он не смыкал глаз, боясь проспать мгновение смерти, и, однако, оно застало его неожиданно. Женевьева отстрадала. Смерть ее была не менее тяжелой, нежели жизнь. И так же безропотно, как несла она тяготы и лишения, так же покорно и тихо она скончалась. В гробу Женевьева лежала настолько изменившаяся, точно за три дня болезни стремительно прошла через те не прожитые еще годы, которые привели бы ее к глубокой старости. В действительности ей не было еще и сорока лет.
Долгое время Сток не мог поверить, что Женевьевы больше не существует. Он старался оживить холодное тело слезами, словами, прикосновениями и не давал хоронить ее, как бы надеясь на чудо воскрешения. В эти скорбные дни мир, люди, даже дети не интересовали его.
«Это сон, надо же наконец проснуться!»– думал он упрямо. Но физическая боль только подтверждала реальность окружающего.
Друг Кабьен говорил ему:
– Выпей-ка лучше вина, Сток. Зачем растравлять себе раны? Мертвых не воротишь.
Иоганн впадал в ярость:
– Я не хочу забывать ее. Почему должен я успокаиваться? Она никогда не жалела себя и не бежала прочь от меня. Мы с ней одно.
– Но ведь ее нет,– увещевал Иоганна добродушный прядильщик.– Пора взяться за ум, старина. Не береди себе душу.
– Как так ее нет? А я, а прожитые наши годы?
Окружающие сокрушенно качали головами. Из фонда помощи мастерской Клиши ему выдали пособие, но оно приходило к концу. Голод угрожал всей семье. Иоганн-младший пошел работать на фабрику. Он был здоровый, рослый подросток.
Сток никак не мог преодолеть тоски. Каждый день, ища Женевьеву, он отправлялся на кладбище, сидел возле обложенного дерном бугорка и мысленно звал жену. Он отныне был единственным свидетелем исчезнувшего своего и ее прошлого, известного и понятного только ему одному. Смерть больше не страшила портного. Постепенно глубокий покой охватывал его душу.
Однажды, когда он возвращался с кладбища, прижимая к сердцу пучок травы, сорванной там, где, казалось ему, лежит сердце Женевьевы, какой-то прохожий сунул ему листовку.
«Именем суверенного народа!
Граждане! На февральских баррикадах люди, которым мы дали титул членов Временного правительства, обещали нам демократическую и социальную республику; они нам дали торжественные обещания, и мы, веря их словам, покинули наши баррикады. Что же они сделали за три месяца? Они не выполнили того, что обещали.
Мы, граждане поста мэрии 8-го округа, требуем:
Демократическую и социальную республику!
Свободное объединение труда с помощью государства!
Требуем удаления войск из Парижа.
Граждане, вспомните, что вы властители. Помните наш лозунг: Свобода, Равенство, Братство!»
В середине апреля Иоганн Сток шел рядом с Бланки в грандиозной демонстрации рабочих, направлявшейся к Марсову полю и в ратушу, чтобы вручить правительству патриотический дар и петицию. Прошло почти два месяца, а народ, терпеливо дожидавшийся реформ и голодавший, чтобы дать время молодой республике окрепнуть, все еще ничего не добился от нового правительства. У Бланки и его сторонников возникло подозрение о предательстве Ледрю-Роллена и других министров.
Когда демонстранты подошли к Гревской площади, самые худшие их опасения оправдались. Они очутились между двух шпалер войск, направивших на них штыки и дула ружей. Солдаты хранили угрожающее молчание. По сотни расфранченных господ и дам бесновались за стеной солдат на тротуарах. Размахивая тростями и зонтиками, буржуа вопили:
– Долой коммунистов! Долой Бланки!
Ратуша, к которой подошли пораженные неожиданностью рабочие, выглядела как крепость. Министр внутренних дел Ледрю-Роллен, вняв советам Ламартина, объявил Париж в опасности и созвал легионы Национальной гвардии, состоявшие преимущественно из крупных и мелких буржуа. Эти гвардейцы горели желанием свести счеты с бойцами февраля.
Вооруженные до зубов, они заняли двор и все залы ратуши.
Несколько делегатов прошли внутрь здания, чтобы вручить требования народа правительству. Под ликующие крики, раздавшиеся из окон ратуши, навстречу демонстрации вышел Двенадцатый легион Национальной гвардии. Во главе его, с обнаженной шпагой, шагал могучего сложения высокий человек. Сток узнал в нем Барбеса. Из группы рабочих ему навстречу вышел щупленький, низкорослый Огюст Бланки. Гробовое молчание сопровождало эту встречу двух борцов, двух знаменитых революционеров, двух членов Центрального комитета «Общества времен года».
Рука Барбеса дрогнула под уничтожающим взглядом бывшего соратника, и он опустил шпагу.
– Ты против народа, против пролетариев! – вне себя от стыда за Барбеса воскликнул Бланки и повернулся спиной к тому, кто не заслуживал в эту минуту даже его укора.
Вскоре к народу из ратуши вернулись делегаты и сообщили, что Ламартин отказался говорить с ними. Из рядов Национальной гвардии и толпы собравшихся контрреволюционеров все громче раздавались крики:
– Долой коммунистов! Долой Бланки!
Бланки и его единомышленники вынуждены были покинуть ратушу. Преследуемый по пятам врагами, Бланки скрывался у верных друзей.
Иоганн Сток вместе с Кабьеном составлял листовки и распространял их. В одной из прокламаций говорилось:
«К оружию!
Мы хотим демократическую и социальную республику.
Мы хотим верховной власти народа.
Все граждане республики не должны и не могут желать иного.
Для защиты республики нужно участие всех. Многочисленные демократы, которые уже поняли это, борются за права трудового народа.
Тревога, граждане! Пусть каждый из вас откликнется на этот призыв!»
По четвергам, после работы, Сток встречался со своими соотечественниками на квартире суетливого, самоуверенного празднослова врача Германа Эвербека. Этот низенький, проворный, будто краб, человек вызывал у Иоганна чувство раздражения. Они часто ссорились.








