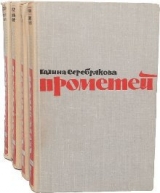
Текст книги "Похищение огня. Книга 1"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
Болезненно впечатлительный Гейне следил за каждым его движением. Худые, серые руки поэта с длинными узловатыми пальцами конвульсивно перебирали края пледа. Карл заметил эти страшные, неспокойные руки и мгновенно овладел собой.
Лицо Гейне как-то посинело от прилившей к щекам крови. Он схватил руку Карла и благодарно пожал ее.
– Гизо отказывался выслать меня из Парижа. Да, он платил мне пособие регулярно. Но никогда, запомни,– мне ведь недолго жить, а перед смертью ложь бесцельна,– никогда он не потребовал от меня за это ни малейшей услуги, ничего, что делает человека подлецом. Он ценил мой поэтический дар, и роль мецената ему льстила. Вскоре после того, как он принял портфель министра иностранных дел, я нанес ему визит, чтобы поблагодарить за спасение от нищеты. В разговоре я выразил удивление, что он помогает мне, человеку, чьи радикальные взгляды совершенно противоположны его воззрениям. Гизо ответил мне с меланхолической благосклонностью: «Я не тот человек, который способен отказать в куске хлеба поэту, живущему в изгнании». Затем мы говорили о поэзии, и он, оказалось, знал многие мои стихи наизусть. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда я виделся и говорил с ним.
Гейне откинулся на подушку и закрыл глаза. Он был очень утомлен и слаб. Пот покрыл лицо поэта. Руки неподвижно вытянулись на одеяле. Маркс молчал. Внезапно гримаса, как судорога, искривила лицо Гейне. Он мучительно застонал.
– Я ненавижу королей и всю жизнь воевал с ними. И что же? Теперь я между двух огней. Друзья и враги могут поверить тому, что я продал свое перо французскому королевскому правительству.
– Я убежден, что нет ни одного написанного тобой слова, позорящего тебя и подтверждающего это,– пытался успокоить Маркс отчаявшегося поэта. Но тот, казалось, ничего не слыхал.
– Гиены будут визжать, считая меня политическим трупом. Я никогда, слышишь, Маркс, никогда не был угодливым писателем, который берет плату не только за навязанные ему кем-либо мысли, но и за молчание. Этому порука – вся моя жизнь. Не низменные расчеты, а высшие интересы побуждают меня сражаться за свою честь. Я никого и ничего не боюсь. И повторяю: моим судом да будет история. Все отрекутся от меня, когда будут опубликованы архивы Гизо. Но ты, Маркс, зная истину, не отвернешься от меня.
Маркс ничего не ответил.
Разговор о положении во Франции и Германии, о действиях Гервега, Борнштедта и Бакунина, разговор, который был очень важен для Маркса, не мог уже в этот раз состояться. Гейне был сражен не только своей болезнью, но и тем, что многие уже знали о получении им пенсии от Гизо. Карл вышел от Гейне крайне подавленный. В передней он услышал игривый, возбужденный смех Матильды. Ей вторил какой-то мужчина. Карл нахмурился.
А она все танцевала,
Пила вино и хохотала, —
вспомнил он стихи Гейне, думая с отвращением о его жене.
Нетерпеливо ждал Маркс приезда Энгельса в Париж. Была уже половина марта, а дела все еще задерживали Фридриха в Брюсселе. Карл и Женни, вынужденные вместе с верной Ленхен и тремя маленькими детьми спешно покинуть Бельгию, не смогли захватить с собой даже самого необходимого. Фридрих Энгельс привел в порядок все их дела, собрал, чтобы отвезти в Париж, скромное имущество, расплатился с долгами.
Друзья обменивались частыми подробными письмами. Маркс писал Фридриху: «Здесь буржуазия становится опять отвратительно наглою и реакционной, но ей еще влетит».
Одновременно он сообщал о том, что Борнштедт будет исключен из союза. Двумя днями позже Энгельс, следивший по газетам за всем происходящим во Франции, ответил:
«Очень хорошо, что вы выбрасываете Борнштедта. Этот субъект оказался таким ненадежным, что его, действительно, необходимо исключить из Союза...
Ламартин становится с каждым днем все более и более отвратительным... Во всех своих речах этот человек обращается только к буржуа и старается их успокоить. Прокламация временного правительства по поводу выборов тоже целиком обращена к буржуа, для их успокоения. Неудивительно, что эти подлецы наглеют».
В эти же дни Яков Николаевич Толстой не знал ни одного часа отдыха. Он с раннего утра до полуночи был занят: принимал доверенных людей, посещал министерства и салоны, зорко приглядываясь ко всему происходящему и не пропуская ни одного слова, если оно касалось внутренней или внешней политики новой французской республики. Поздней ночью, запершись в кабинете и подкрепляясь вином, он писал обо всем виденном и слышанном пространные донесения в Петербург. Их читал сам Николай I, так как Яков Николаевич заслужил славу человека, весьма знающего Францию и всякие бунтарские идеи. Ему особо покровительствовал приближенный государя, граф Орлов.
Ежедневно по утрам к Толстому являлся его агент и помощник Анри Мюрже, которого он некогда обучил правописанию и сделал своим переписчиком. Это был невысокий, чрезвычайно благообразный, подвижной и жадный, как воробей, молодой человек с живыми птичьими глазами, удивительно быстро менявшими выражение. Анри Мюрже выглядел то угодливым и смущенным, то дерзким или рассеянным. Мелкие расплывчатые черты ого лица совершенно не запоминались, что и было наиболее примечательным в наружности молодого француза. Мюрже был сыном привратника того дома, где много лет проживал Толстой.
Знаток людей, Яков Николаевич приметил ничем не замечательного юношу, бесшумно двигавшегося по лестнице. Шустрые глаза Анри обнаруживали его наблюдательность и хитрость. Он умел замечать каждую мелочь и молчать. Толстой приласкал сына портье, занялся его образованием и выучил не только каллиграфически переписывать его рукописи, но и собирать нужные ему сведения с легкостью и быстротой воробья, на которого тот был так похож. Пронырливый Мюрже старательно выполнял поручения Толстого и получал по сто франков в месяц. Он сумел завязать нужные русскому резиденту знакомства, втерся в доверие к Виктору Гюго и другим литературным знаменитостям и с их помощью сразу же после февральской революции устроился работать в двух редакциях газет. Это было очень нужно Толстому.
Ровно в девять часов крепостной лакей Иван, прозванный в доме «луной всмятку», поднимал Якова Николаевича настойчивым: «Пора, барин!»
Покуда Иван одевал и обувал своего господина, Толстой то жаловался ему на нездоровье и старость, то принимался читать различные вирши, как он называл стихотворения. С годами Иван выучил наизусть оды Державина и особенно стансы, посвященные Якову Николаевичу Толстому Пушкиным.
– Тебе, наверно, невдомек, что я был некогда стоиком, аскетом,– говорил Толстой, глядя на старого лакея злыми маленькими глазами.– Что уставился на меня? Я не икона. Ты поди и не слыхивал, что это за слова такие замысловатые. Вот с кем приходится старость коротать. Вон отсюда, старое полено! – внезапно свирепея, кричал Яков Николаевич.
С годами характер графа становился все более гнетущим, деспотическим. Оставаясь один за завтраком в ожидании прихода Анри Мюрже, Толстой любил перечитывать записные тетради в сафьяновом переплете с золотыми инициалами или рассматривать свои изображения. В комнате было много дагерротипов и портрет, писанный маслом. В углу на цоколе стоял бюст Якова Николаевича в псевдоримском стиле.
«Да-с, настоящий патриций,– думал Толстой, тонким батистовым платком стирая пыль с мраморной кудрявой головы, полного лица и атлетически крепкой шеи.– Пушкин звал меня философом. Я был, пожалуй, самым воздержанным из эпикурейцев, собиравшихся под зеленой лампой».
Но вот Иван докладывал о приходе Анри Мюрже. Молодой француз входил бочком, выставив вперед правое плечо, хотя огромная дверь была открыта настежь.
«Эко ходит,– думал Толстой,– в любую щель протиснется. Ловок. Очень полезный и, надо думать, преданный мне молодец».
Мюрже между тем несколько раз кланялся – до тех пор, пока Яков Николаевич не предлагал ему позавтракать вместе.
– Как Николетта? – спрашивал он, обычно игриво рассмеявшись.
Анри притворялся пристыженным.
– Не смущайся, мой мальчик. Поэт, которого ты не знаешь, Пушкин, один из моих друзей, посвятил мне такие строки...
– Месье Пушкин сейчас в Париже? – спросил Мюрже.
Толстой не ответил на этот вопрос и начал читать стансы, произвольно переставляя четверостишия!
До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен!
Будь молод в юности твоей.
Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье.
– Вы, месье Толстой, верно, были донжуаном и бонвиваном.
– Увы, нет. Выслушай начало стансов Пушкина, и ты поймешь, как много потерял я сладких мгновений в своей юности. Не повторяй моих ошибок! «Философ ранний, ты бежишь... пиров и наслаждений жизни...» Вот каков я был.
– Что же он еще сочинил? – угодливо спросил Анри Мюря?е, доедая пулярку, покуда Толстой вспоминал молодость п обращенные к нему стихи Пушкина:
Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.
– Пришла эта пора! – угрюмо сказал граф и вдруг, подобрав углы губ, добавил: – Не будем терять времени в бесполезных размышлениях. Нет, я – в трудах. Я нужен и ни о чем не сожалею. Что нового, мой мальчик?
– Я видел сына редактора газеты «Друг народа» господина Распайля-младшего. Болтунишка, чтобы похвалиться своей осведомленностью, готов выдать все секреты, какие только удается ему подслушать. Он сообщил мне множество фактов о том, что члены Временного правительства уже ссорятся между собой и полны ненависти друг к другу.
– Отлично, раздоры в правительстве всегда опасны для страны и выгодны ее врагам. Я ждал раскола, но, признаюсь, не так скоро. Не прошел еще и медовый месяц. Что за причина разлада?
– Спор о том, как устранить безработицу, и вопросы организации труда. Французский демос требует работы и открытия мастерских немедленно.
– Ого, ты знаешь греческий. Почему же ты так напыщенно зовешь демосом чернь?
– Слово плебс известно тем, к кому оно относится, я и отыскал в греческом словаре подобное же.
– Ладно, ладно. Что дальше?
– Скандалом сопровождалось принятие декрета, предложенного крайними республиканцами, об уничтожении дворянского звания. Многие республиканцы находят, что это несправедливо и ожесточит аристократов.
– Бог дал нам дворянство и титулы, и он же один, а не люди, властен отобрать их, – сказал Толстой возмущенно.
Мюрже достал из папки секретный циркуляр министра иностранных дел к дипломатическим агентам французской республики. Яков Николаевич жадно схватил важный документ, надел очки и начал внимательно просматривать текст, перечитывая некоторые места:
«...Французская республика не намеревается затевать с кем-либо войну... Она не будет вести никакой революционной пропаганды в соседних странах. Она знает, что устойчивой бывает только та свобода, которая имеет свои собственные корни в жизни данной страны; но она заставит себя уважать и заслужит симпатии светом своих идей, картиной порядка и мира, которую она надеется дать человечеству...»
Толстой улыбнулся. Лицо его от этого стало еще более старым и хищным.
– Никто из просвещенных монархов в это не поверит, потому что во Временном правительстве собрались лебедь, рак да щука. Невозможно понять, кто же из этих господ действительно управляет Францией. Временное правительство – это сущая окрошка из крайних террористов и самых умеренных буржуа. Ламартин, сидя на нескольких стульях, вещает, как птица феникс. Одно несомненно: он хочет быть президентом республики, хотя еще вчера сочинял оды Луи-Филиппу. Кем же, однако, они хотят казаться перед Европою?
Анри взял циркуляр и стал читать его вслух:
– «Республика произнесла три слова, раскрывшие ее душу и призвавшие к ее колыбели благословение бога и народов: Свобода, Равенство, Братство... Если Франция обладает сознанием выпавшей на ее долю в наш век освободительной и цивилизаторской миссии, тогда для нее не существует слова, которое обозначает войну. Если Европа благоразумна и справедлива, у нее нет слова, которое не означало бы мира».
Толстой разгневался.
– Довольно, все ясно! Это замаскированный язык якобинцев. Того и гляди, появится во Франции какой-нибудь новоявленный Марат. Впрочем, Огюст Бланки – тот же неистовый трибун черни. А Ламартин и Ледрю-Роллен – эти трусливые краснобаи – нам не страшны. Однако их демагогия приводит к тому, что чернь может снова попытаться, как в тысяча семьсот девяносто третьем году, захватить власть. Что ж, инженер Гильотен придумал когда-то «бритву», чтобы отсекать головы баранам. Есть еще бог и русский царь! Наша метла не раз уже чистила французские конюшни.
Мюрже льстиво улыбался.
– Ну, что еще нового? – грубо буркнул раздраженный Толстой.
– Есть и другие происшествия. На днях и ратуше направились торговцы и капиталисты. Тысячи три, не меньше, пошли прямо с Биржи и требовали от правительства отсрочки платежей. Грозились, если им откажут, закрыть предприятия, выбросить рабочих на мостовую и лишить их куска хлеба.
– Я уже слыхал об этом бунте черных сюртуков,– ответил Яков Николаевич.
– Это, конечно, мелочь,– оживился Мюрже. А вот шествие благородных граждан, к которому присоединились кой-какие отряды Национальной гвардии, было куда более импозантно. «Долой коммунистов!» – кричали демонстранты и требовали вернуть им знаки отличия и дворянское звание.
– Слыхал и об этом. Там было много женщин. Не люблю я бабьего визга, даже если он направлен против коммунистов.
– Да, это была манифестация дамских муфт и меховых гвардейских шапок. Они ворвались в женский республиканский клуб и затеяли пресмешную потасовку.
– В этом есть кое-что отрадное: среди национальных гвардейцев нашлись смелые сторонники порядка. Надеюсь, мой друг Мюрже, что здравомыслящие члены правительства учтут это и сумеют использовать их в борьбе с чернью. А канальи с окраин требуют повышения заработной платы и короткого рабочего дня,– добавил Яков Николаевич и быстро записал что-то в свою тетрадь. Затем он поднялся, давая этим знать, что аудиенция окончена.
Молодой француз стоял, ожидая дальнейших распоряжений.
– Изучайте настроения литераторов и влиятельных лиц. Впрочем, во время революции силой являются не они, а политические деятели. Постарайтесь познакомиться с Луи Бланом и особенно с этим помешавшимся на фанатическом коммунизме и терроре Огюстом Бланки. По-видимому, сей политический каторжник не успокоится, пока его снова не закуют в кандалы.
– И не обезглавят,– добавил Мюрже.
– Доживем и до этого. Прощайте, мой верный юный ДРУГ.
До вечера, когда Яков Николаевич должен был собираться на прием к министру Ламартину, он работал в своем кабинете. Слугам было запрещено тревожить барина. Посетителям отвечали, что его нет дома.
На листы веленевой бумаги Толстой списывал с черновиков составленный им в течение предыдущих дней обзор французской армии. Он был убежден в том, что революция может быть подавлена только извне и только русским самодержавием, а собранные о французской армии и ее дислокации сведения подтверждали неоднократно высказанную им мысль, что момент для вторжения благоприятен. И действительно, все его агенты и информаторы доносили, что войска Франции сосредоточены главным образом в центре страны, а северная и восточная границы республики никак не защищены.
Крупными четкими буквами он писал, что состоящий на жаловании состав армии исчисляется в 548 тысяч человек.
Толстому удалось собрать не только официальные данные о составе французской армии, но и представить в Петербург разбор боеспособности частей и отчет об умонастроениях офицеров и солдат.
С большим знанием того, о чем писал, Толстой отмечал сильные и слабые стороны французской армии, указывал месторасположение и оснащение частей.
Донесение было столь секретным, сведения такой высокой государственной важности, что даже Иван не смел входить в кабинет графа. Через каждые три часа лакей стучал в его дверь со словами «Пожалуйте, барин, кофий», и Толстой с порога забирал у него чашку и снова запирался.
Он писал!
«Один из представителей, член военной комиссии собрания, аккуратно посещающий ее заседания, и другой представитель, г. Ларабит, человек с некоторыми странностями, но добросовестно и успешно занимающийся вопросами, относящимися к армии, дали мне указания относительно действительного наличного состава военных сил Франции; указания эти отличаются достоверностью.
Прикомандированный к военному министерству офицер генерального штаба, сын бывшего генерала времен Империи и Реставрации, подтвердил мне и до некоторой степени разъяснил с большей точностью эти указания. Из них явствует, что, если принять во внимание отсутствующих по болезни, исключить департаментскую жандармерию, роты ветеранов и роты дисциплинарные, а также обучаемых рекрутов, которые в случае войны не могли бы быть использованы в походе,– хорошая, боеспособная часть армии может исчисляться в 380—385 тысяч человек.
Парижский гарнизон состоит из двадцати армейских пехотных полков, девяти полков легкой пехоты, двух полков кавалерии, одного полка артиллерии.
Поражает прежде всего количество войск всех родов оружия, собранных в Париже или сконцентрированных и окрестностях столицы. Войска эти, включая и Национальную гвардию, представляют наличный состав в 85 тысяч человек, которых можно собрать в течение пяти или шести часов.
На границах войск так мало, что при настоящем положении они не могли бы оказать серьезного сопротивления нападению.
В случае войны в Италии правительство, двинув Альпийскую армию, было бы вынуждено заменить стоящую в Лионе дивизию корпусом в 18 или 20 тысяч человек. Рабочее население Лиона – одно из самых опасных в Европе. Об этом свидетельствует выдержанная им в течение семнадцати лет вооруженная борьба. Для того чтобы сдерживать это зараженное коммунистическими доктринами, буйное и воинственное население, королевское правительство было вынуждено окружить Лион отдельными фортами прежде, чем применить ту же самую меру к Парижу. Эта рабочая масса только что проявила одушевляющее ее настроение, дружно голосовав за Распайля, точно так же как и парижские коммунисты. За Распайля было подано более 30 тысяч голосов – людьми, из которых каждый имеет ружье.
Разрушающая общество анархия проникла в армию, в последней имеются сторонники самых противоречивых принципов...
Создание мобильной Национальной гвардии было одним из первых действий Временного правительства. В этот день, вернувшись к себе очень поздно вечером, г. Ламартин сообщил находившимся в его гостиной лицам об истинных мотивах, вызывающих решение правительства принять соответствующий декрет. Привожу дословно его слова: «Мы решили, что будет сформировано 24 батальона мобильной Национальной гвардии, по 700 человек каждый, и что желающие поступить в ее ряды будут получать по 30 су в день. Через два часа уже было значительное число записавшихся. На них мы можем положиться, и если террористы опять сделают на нас нападение, наши «мобильные» встретят их выстрелами».
Эти слова вполне объясняют мысль, которой руководилось правительство ратуши. Едва оно заняло свое место, как сейчас же увидело, что власть у него оспаривается теми, кто взял красный флаг как эмблему своих доктрин. Ламартин ораторствовал перед чернью, которая вопила на площади Грев, но так как его речи не всегда могли иметь успех, а к тому же можно было легко предвидеть, что требования самодержавного народа из предместий будут все возрастать, Временному правительству нужно было организовать около себя в целях своей защиты преданное ему войско.
...Мобильная гвардия набиралась среди праздного люда, которым изобилует Париж; туда приняли также и бродяг, и очень молодых людей, желавших ускользнуть от надзора семьи, и тех погибших детей улицы, которых народ называет тити и гамены. Все кварталы доставили свой контингент, главную же массу батальонов дали предместья. Молодые люди из хороших семей, хорошо воспитанные, иногда знатного рода, вступили тоже в ряды мобильной гвардии, потому ли, что, вступая в ее ряды, они хотели избежать возможных преследований, или, скорее, они хотели смешаться с вооруженным народом с целью руководить движением и настроением умов, когда настанет момент что-либо предпринять...»
Толстой откинулся в кресле. Он устал. Однако не в его привычках было что-либо откладывать. Он достал большой голубой плотный конверт, тщательно проверил его целость, вложил донесение и запечатал его пятью большими сургучными печатями. Затем в ожидании курьера положил пакет в потайной ящик. Он встал, довольный тем, что завершил важное дело, и посмотрел на календарь. Вспомнив что-то, позвал Ивана и велел дать выходной костюм.
Была суббота – приемный день у госпожи Ламартин, Толстой с помощью Ивана облачился в скромный черный длиннополый сюртук. Парикмахер долго приглаживал его жидкие волосы, стараясь придать прическе модную небрежность.
– В Париже,– говорил брадобрей, проведя мокрой щеткой по бороде Якова Николаевича,– господа требуют, чтобы я причесывал их так, как столяров и ткачей. Для этого не нужно ничего, кроме пятерни.– Он выразительно растрепал свои волосы.– Никто с двадцать четвертого февраля больше не завивает шевелюру. Дамы спрятали в шкатулки до лучших времен свои накладные локоны. Парикмахерам грозит безработица.
– Что ж, Луи Блан и его коллеги откроют для вас мастерские,– тая улыбку в уголках опущенных губ, ответил Толстой.
Окончив туалет, он приказал вызвать наемный фаэтон и с неизменной палкой в руке вышел. До Университетской улицы, где жил Ламартин, было далеко. Хмурое небо усугубило дурное настроение графа. Он думал о том, что Франция склонилась над бездной и для спасения ее необходим решительный военный в большом чине. Если бы такой человек нашелся и стал во главе войск, затем двинулся на Париж, предавая все огню и мечу, может быть, ему удалось бы уничтожить ужасное ярмо, каким казалось Толстому господство тех, кого он называл проклятыми якобинцами. А тут еще известие о том, что Вена охвачена революционным мятежом. В Пруссии тоже было неспокойно... Только Россия избегла пока брожения. А что, если...
Толстой гнал от себя тревожные мысли, но страх исподволь мучил его. Иван Гаврилович Головин, русский политический эмигрант и писатель, недавно перешедший в английское подданство, снова опубликовал в газете статью о том, что Яков Николаевич – давнишний провокатор, агент Третьего отделения. Однако ему не поверили. Даже Бакунин выступил в защиту Толстого. Но как знать, что будет дальше? Революция – великая разоблачительница.
Погруженный в невеселые думы, Яков Николаевич не заметил, как экипаж въехал в узкую темную улицу, где находился клуб Парижской коммуны. Из открытых окон доносились шум и аплодисменты. Толстой сошел с фаэтона и направился в переполненное людьми здание. Вход в клуб был свободный. Остановившись у двери, граф сложил ковшиком руку и, приложив ее к уху, принялся вслушиваться в то, что говорил дюжий парень в блузе навыпуск, в холщовых брюках и грубых башмаках. Речь его вызывала бурное одобрение присутствующих.
– Нас обмануло Временное правительство,– услышал Яков Николаевич.– Флокон, Луи Блан и Ледрю-Роллен бессильны помочь рабочим. Огюст Бланки и Барбес не у власти. Мы по-прежнему трудимся по десять – одиннадцать часов в сутки, живем в лачугах, получаем гроши. Я заявляю от имени пролетариев: война капиталу, война дворцам и особнякам, война аристократам, война буржуа!
– Правильно! Говори, говори! – закричали в зале.
– Нужно провести чистку в правительстве, иначе нас, как в тысяча восемьсот тридцатом году, совсем околпачат. Нам снова навяжут короля.
– Но сначала нас всех перебьют,– раздались голоса.
Возбуждение нарастало. Присутствующие подняли кулаки.
– Надо заменить членов правительства,– продолжал, все более повышая голос, оратор.– Выбрать испытанных патриотов, не знающих колебаний. Если с нами не сговорятся подобру, откажемся немедленно от работы – будем бастовать, выйдем на улицу, вооружимся. Нас много, мы сила.
Толстой не стал дальше слушать, вышел, поднял воротник шинели. Его охватило бешенство. Невольно он оглянулся вокруг, выискивая глазами полицейских. Их не было.
– Еще бы,– процедил он сквозь зубы,—чего ждать?! Коссидьер – глава полиции – тоже из подонков общества, как и вся шайка в клубе Коммуны. Он наверняка рьяный сообщник всех вожаков черни.
Толстой свернул на бульвары. Между воротами Сен-Мартен и Сен-Дени он остановился, пораженный движущейся ему навстречу процессией. Нарядно одетые люди с лорнетами и моноклями, в огромных белоснежных галстуках шли по мостовой. Юноша в блестящем мундире с тросточкой в руке нес белоснежное знамя с огромной, золотом вышитой лилией Бурбонов.
– Да здравствует монархия! – кричали демонстранты.– Долой республику!
Толстой с необычной легкостью бросился в проезжавший мимо фиакр и велел кучеру мчаться галопом. Тот безжалостно стегнул лошадей. Обернувшись назад, Яков Николаевич увидел, как из окружающих переулков бежали навстречу легитимистам республиканцы.
– Долой белое знамя! Да сгинут враги народа и тираны! Да здравствует республика!
Начался жестокий рукопашный бой. Когда фиакр сворачивал за угол, Толстой услышал пение «Карманьолы» и, привстав, увидел белые знамена валявшимися на грязной мостовой.
Бледный, как монархический флаг, Яков Николаевич, стараясь унять бушующее сердце, прижал пухлые руки к груди.
– Черт побрал бы всех этих карманьолыциков! – шептал он.– Впору уезжать из этого пекла.– Кровь, отхлынувшая было от головы, вдруг прилила к затылку с пугающей силой. Почувствовав звон в ушах и головокружение, Толстой грузно привалился к спинке сиденья .
«Пора просить у царя и Орлова отставку. Меттерних отошел от дела, настала и моя очередь»,– пронеслось в воспаленном мозгу русского сановника.
Но в этот день ему пришлось пережить еще одно потрясение. С Елисейских полей в сторону Тюильри навстречу фиакру двигались толпы народа, казавшиеся графу несметными. Они шли тесно сомкнутыми рядами к ратуше. Грозные плакаты в их руках призывали Временное правительство одуматься и принять срочные меры к улучшению жизни простого народа. Надев очки, Толстой прочел, что демонстранты требовали покончить с изменниками и умеренными и выполнить обещания, данные труженикам в первые дни революции.
«Свобода печати в продажных руках есть орудие лжи».
«Уничтожьте безработицу, дайте рабочим заработок, достаточный для жизни».
«Укоротите рабочий день. Рабочие изнемогли от непосильного труда».
Народ заполнял тротуары и мостовые. Ехать в экипаже стало невозможно, и Толстой покорно побрел на Университетскую улицу пешком. Никогда, даже во времена Конвента, казалось ему, окрестности. Тюильри не видали такого скопления людей. «Их не менее двухсот тысяч,– прикинул Толстой.– Эти оборванцы расплодились в чудовищном количестве. Они несметны».
Навстречу Толстому непрерывно двигались грозные, как лавина, толпы. Над ними в сером небе колыхались знамена, тысячи флагов, украшенных девизами, патриотическими надписями и эмблемами. Он увидел зеленое полотнище с изображением арфы и надписью: «Ирландия», черно-красно-золотое – немцев и, наконец, ярко-малиновое с рвущимся вверх орлом.
«Поляки!» – встрепенулся Толстой и пробормотал:
– Вот подлые твари! Необходимо убедить царя в том, что они на все способны. Враги, неуемные, стоглавые, как гидра. Душишь одну – вырастает сотня.
Сделав большой крюк, отдаленными переулками добрался наконец Яков Николаевич до дома министра иностранных дел. Ламартин внушал Толстому одно только презрение. Но, поднимаясь по широкой лестнице, он старался придать своему лицу мягкое и даже льстивое выражение.
«Что этот болтунишка, изменивший королю и богу, говорил на днях? Надо бы вспомнить для разговора. Ах, да, что-то вроде: «Я посвятил себя общему делу,– умирают лишь однажды». Не бог весть как радостно смотрит господин министр на свое будущее, но сказано пышно».
Молоденькая служанка взяла у Толстого шинель и указала на одну из дверей, ведущих из прихожей в жилые покои.
«А где же лакей, чтоб доложить?» – чуть не спросил Яков Николаевич, но, сообразив, что этикет ныне не в моде и можно входить без доклада, с неудовольствием открыл дверь в салон госпожи Ламартин. Это была большая комната, заставленная столиками, креслами, турецкими диванами, жардиньерками с цветами и этажерками с книгами и газетами. Стены были сплошь увешаны свежими литографиями, изображавшими народные шествия и статую Свободы, карандашными и акварельными портретами самого Ламартина с гордо запрокинутой головой. Люстры не были зажжены, и только свечи в канделябрах скупо освещали комнату.
Госпожа Ламартин, женщина неопределенного возраста и внешности, в пышном платье цвета бордоского вина, кивнув приветливо Толстому, снова обратилась к нескольким дамам, сидевшим вокруг нее. Все они курили, громко смеялись, перебивали друг друга и вели себя, по мнению Толстого, крайне бесцеремонно и даже неприлично. Он терпеть не мог женщин, которые чувствовали себя равными с мужчинами.
Было в салоне также несколько журналистов, споривших о том, кто будет президентом. Какой-то юноша о взлохмаченной прической сообщил Якову Николаевичу, что пишет стихи, и тут же начал читать их приглушенным голосом. Стихи начинались и кончались словами) «Свобода, равенство и братство».
Толстой, найдя их про себя бездарными, все же принялся расхваливать поэта.
Госпожа Ламартин сказала, что министр опаздывает, и, меланхолически закатив глаза, добавила:
– Мой муж жертвует собой ради блага родины. Он укротил, как мог, ураган опасных народных страстей. Но вчера он сказал мне, что заготовил завещание. Увы, завтрашний день в тумане. Каждая минута его жизни – подвиг и может оказаться последней...
– Какой героизм! – произнес глухо поэт.
– Достойное служение долгу,– добавил кто-то из журналистов.
– К несчастью, поэзия первых дней свободы сменилась жестокой прозой,– добавила госпожа Ламартин, опустив глаза.
В салоне воцарилось приличествующее сказанному молчание. В это время в комнату вошли двое мужчин. В высоком сухощавом человеке с презрительным взглядом и узким ртом Толстой узнал Ламартина. Коренастого военного он видел в первый раз.
– Разреши представить тебе,– обратился Ламартин к жене, а затем к гостям,– и всем вам надежду правительства – генерала Эжена Кавеньяка.
Услыхав это, журналисты всполошились.
– Скажите, гражданин Кавеньяк, возьмете ли вы портфель военного министра? – наперебой стали спрашивать они алжирского генерал-губернатора.
– Положение поенного министра – одно из самых ложных в современной Франции,– уклончиво ответил Кавеньяк.– На словах он располагает всей армией, в действительности у него нет под рукой ни одного батальона. Что сможет он сделать в случае беспорядков и волнений, которые грозят со всех сторон нашей родине? Бонапартисты, карлисты, республиканцы, наконец, бешеные коммунисты готовы схватиться не на живот, а на смерть друг с другом. Если Временное правительство вернет войска в Париж и гарнизон столицы будет достаточно силен, можно будет решать вопрос, который вас интересует. Я человек военный. Не рассуждать, а действовать, во имя порядка и процветания нации – мое правило. Мои зуавы, может быть, еще понадобятся. А пока пусть безобразничают горе-командиры Национальной гвардии и префект полиции Коссидьер.








