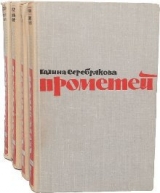
Текст книги "Похищение огня. Книга 1"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
Адальберт фон Борнштедт понял, что под факелом Меттерних подразумевал себя, и подобострастно ответил, смягчив лесть мертвенной неподвижностью лица и бесстрастностью голоса:
– Тогда на землю снизойдет тьма, но я уверен, как и все друзья порядка и покоя, что ваша светлость еще много лет будет освещать своим гением пути, по которым пойдут цивилизованные страны.
Меттерних самодовольно улыбнулся и предложил сесть фон Борнштедту, все еще стоявшему перед ним навытяжку. Канцлер высказал несколько критических замечаний о политике России и Англии и спросил о настроениях в Пруссии. Когда фон Борнштедт закончил свой отчет о родной стране, канцлер сказал:
– Вы напишете мне подробное донесение о настроениях правительства и обо всем существенном в Берлине.– Подумав, продолжал: – Когда вы будете во Франции, присмотритесь к Тьеру. Сейчас это проще. Гизо пролез в Доверие к глупцу королю, и Тьер попал в опалу. Однако Тьер, этот честолюбец и хитрец, еще будет фиглярничать не раз на мировой арене. Он обладает исключительным Даром приспособления, превосходный эквилибрист в политике. А это важное свойство. К тому же никто из деятелей современной Франции не любит власть так страстно, как он.
– Да,– подтвердил Адальберт фон Борнштедт и, ободренный покровительственной улыбкой Меттерниха, добавил: – Один французский поэт отлично сказал, что Тьер жаждет управлять один или с большинством, один или с меньшинством, управлять со всеми или против всех, лишь бы править, лишь бы быть во главе государства.
Поздно ночью Адальберт фон Борнштедт покинул дворец Меттерниха и под утро в закрытой карете выехал из Австрии.
Но, будучи старательным шпионом Меттерниха, пруссак по происхождению, он не довольствовался только этой службой и одновременно, по совместительству, был шпионом также и прусского правительства. Оно весьма дорого оплачивало его услуги, Частичка «фон» – принадлежность к дворянству – придавала особую цену Борнштедту. Как и Мейербер, он любил Париж, предпочитал всем женщинам и винам французские и скучал в казарменной атмосфере Берлина.
Так, продавая то Пруссию Австрии, то Австрию Пруссии, а иной раз и обе эти страны России, он внимательно следил в Париже за эмигрантскими кружками, говорившими на его родном языке. Звание редактора ему пришлось весьма кстати – как удобное прикрытие.
Но вместе с Генрихом Бернштейном он промахнулся, начав борьбу с «Молодой Германией», рассердив этим берлинских филистеров – зажиточных горожан, которые изображали из себя сторонников реформ и прогресса. Между двумя кружками пива, после сытных сосисок, они охотно занимались критикой своего правительства, не приносившей, впрочем, иикому вреда и очень способствовавшей их пищеварению. Курс, взятый газетой «Форвертс», их сначала разочаровал, а затем и возмутил.
Тщетно Генрих Бернштейн писал статьи, в которых обещал, что газета откажется от всяких крайних взглядов, как реакционных, так и революционных.
Еще раньше своих соотечественников отбросили газету парижские эмигранты.
– Умеренность, золотая середина – так учил нас Аристотель,– пытался вторить Бернштейну в своих статьях и Адальберт фон Борнштедт. Он был готов на все, лишь бы сохранить добрые отношения с немецкими эмигрантами и не отпугнуть их от газеты. Ведь это была та дичь, за которой его послало охотиться прусское правительство, щедро вознаграждая за каждое донесение.
Но, прочитав и эти лояльные высказывания, эмигранты не поверили редактору и издателю. Тираж газеты резко упал.
В это время Борнштедт, поссорившись с прусской полицией, выполнял указания Австрии. Заметив резкое изменение курса газеты, департамент тайной полиции в Берлине доложил правительству о возмутительной пропаганде газеты «Форвертс» и добился запрещения ввоза ее в Пруссию. Остальные немецкие правительства последовали этому примеру. Крах навис над «Форвертсом». Адальберт фон Борнштедт, ожидая головомойки, обрадовался отставке с редакторского поста и поехал в Берлин с покаянием.
Генрих Бернштейн на этот раз, надевая утром корсет и подстригая вьющиеся бакенбарды, дольше обыкновенного философствовал о сущности жизни. Хотя положение газеты казалось безнадежным, он отправился к Мейерберу, готовый к отпору и нападению. Однако патрон встретил ого любезнее, чем он ожидал. Накануне прошла с успехом премьера его оперы «Лагерь в Силезии», прославлявшей Фридриха II. Правда, наслаждаясь аплодисментами и вызовами, Мейербер знал, что незаменимый Генрих Бернштейн дорого оплатил клакеров, которых рассадил для большей конспирации не группами, а порознь во всем театре. Они шумно доказывали, что получили деньги не зря.
Знаменитый «шведский соловей» – певица /Кении Линд превосходно спела партию цыганки, Декорации и оркестр сумели передать военную мощь, великолепие двора одного из царственных Гогенцоллернов. Безукоризненны были также афиши и либретто. Королевско-прусский музик-директор ценил превыше всего успех. Денег у него было так много, что он мог их швырять на любую прихоть.
– Итак,– сказал Мейербер, подымаясь из-за рояля и томно срывая туберозу в одном из вазонов, которыми после вчерашней премьеры была заставлена его гостиная,– газета не попала в тон и, сфальшивив на верхней ноте, сорвала голос.– Он остановился, ожидая похвал. За что бы его ни хвалили – за оперу, костюм или остроту, он жаждал восхищения. Генрих Бернштейн, понимая это, гулко захохотал.
– Превосходно, герр директор, превосходно сформулировано, колко сказано! Да, гениальные люди во всем гениальны, будь то звук или слово. Об этом следует заказать статью кому-нибудь из наших всезнаек.
– У вас, кажется, не осталось больше подписчиков, кроме меня,– раздвинув в улыбке узкий насмешливый рот, сказал композитор, вдевая цветок в петличку сюртука.
– Да, дело обстоит плохо. Мы поставили, образно выражаясь, не на ту лошадь. Что ж, это случается и с очень опытными людьми. Издатель в наше время тот же игрок, и весьма азартный. Нам необходимо изменить курс. Это вывод, который подсказало нам поведение прусского правительства. Как оно глупо, будем откровенны. Оно не поняло своих же государственных интересов, отбросив такого друга, такую рекламу, как наш благонамеренный печатный орган. Тем хуже для них. Раз «Форвертс» запрещен у нас в Пруссии, надо сделать его достойным этого политического акта. Необходимо придать газете всю притягательность запрещенного издания; в наши дни это лучшая из реклам, обеспечивающих спрос. Запрещенная газета! Да все обыватели сегодня наши подписчики и готовы добыть газету хотя бы контрабандным путем. Мы им поможем. Эмигранты в Париже тоже призадумаются. Будьте уверены, мы никогда не имели лучших коммерческих перспектив. Но нельзя обманывать потребителя. Он ждет сенсаций и заранее содрогается от восторга. Среди немцев я отыскал незаменимого редактора для нашего возрождающегося из праха детища.
– Кто это? – лениво спросил Мейербер. Он скучал.
– Баварец родом, молод, фанатичен, верит в то, что делает и говорит, весь экспрессия и протест, к тому же перо его жжет, как крапива. У него много талантливых друзей: Гейне, Руге, Маркс... Все они будут нашими авторами. Колоссальные возможности! Я надеюсь, у вас нет возражений против Бернайса. Кстати, по секрету, он признался мне, что считает создателя «Гугенотов» величайшим композитором нашего века. Ваша музыка – это бурлящий водопад, то тихий, то грозный океан, в то время как все эти Доницетти, Россини и бездарные Верди производят подслащенный сироп, разбавляя его в массе воды.
– Отлично сказано,– оживился Мейербер.
Молодой, чрезвычайно болтливый, легковерный, но пылкий журналист, юрист по образованию, Бернайс стал редактором «Форвертса». И тотчас же к газете примкнули многие немецкие эмигранты, жившие в Париже и не имевшие своей газеты.
Маркс, искавший трибуну для продолжения борьбы, начатой в «Рейнской газете», решил воспользоваться приглашением сотрудничать в «Форвертсе». Не замедлил принести свои статьи Арнольд Руге. В одной из них, напечатанной за его подписью, он, соглашаясь со многими мыслями Маркса, брал под защиту его работы в «Немецко-французском ежегоднике», на которые пытался нападать Генрих Бернштейн в первый, несчастливый период существования «Форвертса».
В помещении редакции «Форвертса» всегда было накурено, шумно и многолюдно. Несколько раз в неделю там собирались сотрудники: стремительный Маркс, болтливый, изнемогающий от груза новостей, сплетен и домашних неурядиц Бернайс, больной Гейне, щеголеватый Гервег, краснобай Бакунин, трудолюбивый Вебер и тщеславный Руге.
Иногда в редакции поднимался словесный ураган, в котором трудно было что-либо разобрать, затевалась праздная беседа. Бернайс, прерывая монологи Руге и Бакунина, принимался жаловаться на коварство жены, которую подозревал в измене, или таинственно сообщал о последних событиях в высшем обществе и за кулисами театров. Эти новости поставлял ему вездесущий Генрих Бернштейн.
Маркс терпеть не мог празднословия. Истребляя одну за другой сигары, он нередко властно прекращал разглагольствования и призывал всех к делу. Ему не перечили. Маркс скоро стал душой газеты. Уверенно и вместе скромно он подсказывал нужные для следующего номера «Форвертса» темы статей, неотступно следил за тем, чтобы газета сохраняла прогрессивное направление, редактировал ев и писал иногда передовые статьи, а также лапидарно сжатые заметки без подписи.
Врач Вебер не обладал специальными познаниями в области политической экономии, но был образованным и способным популяризатором. Маркс, оценив это, со всей присущей ему щедростью стал делиться с Вебером своими мыслями, он дал ему свои экономико-философские рукописи, из которых тот почерпнул теоретические важнейшие положения и цитаты для своих статей. Вебер в доходчивой форме повторял многое из записок Маркса о власти денег в буржуазном обществе. Он привел ту же цитату из «Тимона Афинского» Шекспира о золоте, как это сделал Маркс!
...Ты
Орудие любезное раздора
Отцов с детьми; ты осквернитель светлый
Чистейших лож супружеских; ты Марс
Отважнейший, ты вечно юный, свежий
И взысканный любовию жених,
Чей яркий блеск с колен Дианы гонит
Священный снег; ты видимый нам бог,
Сближающий несродные предметы...
Руге как-то напечатал в «Форвертсе» несколько заметок и статей о прусской политике, о восстании силезских ткачей, которые снабдил всевозможными сплетнями о нелестных чертах характера пьяницы – прусского короля, привычках хромой королевы. Последнюю заметку он закончил предположением, что прусская королевская чета состоит только в «духовном» браке. Всю эту пошлость Арнольд Руге подписал не своей фамилией, а псевдонимом «Пруссак».
«Кто же это такой?» – недоумевали читатели, Руге был саксонцем. Единственным уроженцем Пруссии в редакции был Маркс. Женни, прочитав подленькие статьи, подписанные «Пруссак», заволновалась.
– Кто такой «Пруссак»? Читателя явно наводят на ложный след,– сказала она гневно, протягивая газету мужу,– Ведь иные подумают, что «Пруссак» – это ты, Карл.– И, всплеснув руками, добавила: – Вот до чего доводит людей политическая ненависть. Надо искать автора среди наших врагов, Я уверена, что это Руге. Его стиль, его перо...
– Госпожа и господин Руге,– заметила Елена Демут, пеленавшая тут же маленькую Женни,– того и гляди, лопнут от бешеной злобы. Они не гнушаются ничем, никакой руганью, когда говорят о докторе Марксе. Я это сама слышала.
– Такие аргументы свидетельствуют только об их слабости,– ответил спокойно Карл, желая умерить нараставшее возмущение обеих женщин.
– Ты думаешь оставить без ответа пущенную в тебя отравленную стрелу? – удивилась Женни.
– Нет, конечно. Я выведу Руге на чистую воду, но не его методом. Помнишь, как смеялся он над моими новыми соратниками! «Полтора пролетария – вот армия Маркса»? К тому же, и это главное, мне есть с чем полемизировать в его статьях.
Карл прошелся по комнате. Он любил схватки и предвкушал победу, как всякий человек, убежденный в своей правоте.
– Умен господин Гейне. Как хорошо сказал он про подобных господ,– снова заговорила Елена Демут.– Такие люди, как господин Руге, сказал он, что клопы: не трогаешь их – кусают, давишь – воняют.
Карл и Женни засмеялись. Ленхен вскоре вышла с ребенком на руках, Карл заговорил, как бы думая вслух. Женни особенно любила эту его привычку мыслить вслух в ее присутствии.
– Отвечать надо так, чтобы не уподобиться Руге, который стремительно скатывается на самое дно беспринципности, Он жалок и труслив, Есть своя логика у человека, когда он становится предателем: сказав «а» в алфавите отступничества, он неизбежно произносит все буквы до последней.., Руге очень скоро доползет на брюхе до прусского министерства иностранных дел, будет каяться и вымаливать прощение, сваливая на бывших товарищей свои грехи.
Глаза Женни заблестели, Арнольд Руге показался ей похожим на мокрицу.
Маркс, не откладывая, принялся за статью, которая должна была отвести от него подозрения в авторстве подлой стряпни.
Внимательно делая пометки на полях и подчеркивая отдельные фразы, Карл снова прочел все, подписанное словом «Пруссак», Не могло быть сомнений в том, что автором был Руге. Карл узнал его слог и образ мыслей.
В одной из своих статей Руге, пытаясь умалить значение происшедшего недавно восстания силезских ткачей, доказывал, что у рабочих не было политических целей, без чего нет и социальной революции. Это дало повод Марксу метко разбить вымученные, напыщенные разглагольствования Руге.
«Каждая революция,– писал Маркс,– разрушает старое общество,и постольку она социальна.Каждая революция низвергает старую власть,и постольку она имеет политическийхарактер».
Маркс отвергал утопические учения и доказывал, что социализм нельзя осуществить без революции.
Восстание силезских ткачей вызвало волну филантропической жалости у немецких буржуа. Классовая борьба в Германии еще была слабой, протекала вяло, и имущие охотно проливали крокодиловы слезы над участью бедных тружеников.
Особенно старалась «Кёльнская газета», открывшая сбор пожертвований в пользу семей убитых или арестованных ткачей. Богатые купцы и высшие чиновники вносили небольшую денежную лепту, о чем спешили повсюду разгласить. На одном из банкетов в Кёльне на блюдо, обносимое вокруг роскошно убранного цветами и яствами стола, падали, звеня, деньги, и дамы, вздыхая, говорили своим кавалерам: «Жаль этих полудиких бедняков. Нельзя в наш век натягивать струну до того, что она лопается. Это все-таки люди и немцы». Было собрано около ста талеров.
Буржуазия заигрывала с восставшими ткачами, как бы развлекалась игрой с порохом, и в то время, как непосредственные хозяева силезских ткачей добивали их голодом и лишениями, другие немецкие буржуа жертвовали на гроб погибшим в восстании и бросали куски хлеба оставшимся без кормильца рабочим семьям.
Старый друг Юнг писал Карлу, что буржуазная «Кёльнская газета» охотно жонглирует словом «коммунизм».
Но Карлу было ясно, что, как только рабочее движение в Германии окрепнет, оно тотчас же встретит кровавый отпор фабрикантов и банкиров. Начнется социальный бой, и баррикады разделят навсегда два непримиримых класса.
Сострадание немецкой буржуазии к угнетенным ею же рабочим является пока лишь подтверждением слабости борьбы и того, что богачи переоценивают свое могущество, не боясь своих рабов.
Восстание силезских ткачей было первой угрозой частной собственности, и в нем Маркс открыл особенности, каких еще не знала летопись плебейских социальных взрывов. Карл писал в статье против Руге:
«Прежде всего, вспомните песню ткачей,этот смелый кличборьбы, где нет даже упоминания об очаге, фабрике, округе, но гдо зато пролетариат сразу же с разительной определенностью, резко, без церемоний и властно заявляет во всеуслышание, что он противостоит обществу частной собственности. Силезское восстание начинаеткак раз тел1, чем французские и английские рабочие восстания кончают,– тем именно, что осознается сущность пролетариата... В то время как все другие движения были направлены прежде всего только против хозяев промышленных предприятий,против видимого врага, это движение направлено вместе с тем и против банкиров, против скрытого врага».
Обращаясь к прошлому, анализируя историю революций, чартистских и лионских восстаний, Маркс искал всему этому научное историческое объяснение. В тот день он решил продолжать статью ночью, когда в доме наступит полная тишина. Тогда ничем не отвлекаемый мозг начинает свою упоительную, таинственную работу: подхватывает, скрепляет и ткет, без конца ткет, невидимо и бесшумно, неразрушимую пряжу мыслей.
Как любил Карл эти тихие творческие часы! Спят Женки, Ленхен и малютка дочь. Штора наглухо закрыла окно. Ничто не мешает думать, ставить вопросы и находить решения.
Свет лампы под абажуром падает на белые листы, оставляя в тени все окружающее. Бумага покрывается бессмертными словами. Память щедро выбрасывает на поверхность свои сокровища.
На столе разбросаны таблицы, справочники, заметки. Иногда Карл черпает из них то, что ему необходимо. Все это вплетается в ткань статьи, перо несется неровно, точно лодка по разбушевавшемуся потоку возникающих мыслей.
Маркс был истинным поэтом в творчестве. Он отдавался вдохновению, подчинялся его зову. Работая без устали несколько недель подряд, случалось, потом он долго предавался безделью, лежал на диване и перелистывал случайные книги, чаще всего романы или стихи. И так же внезапно прекращался этот духовный отдых, и Маркс Рьяно, запойно предавался снова работе, не щадя себя, отдаваясь весь мышлению и творчеству. Если его отвлекали, он страдал. Творя, он становился к себе придирчив и без конца чеканил слог, фразу, строку, как самый кропотливый из гранильщиков, шлифующих алмазы.
Днем в квартирке на улице Ванно суетно и шумно. Маленькая Женни улыбается, протягивает ручонки, произносит нежные, неопределенные звуки, вглядывается в солнечные зайчики и лица нянчащих ее людей. Но, вступая в жизнь, она так же, как и все дети, иногда хворает. Ее улыбка вызывает радость у взрослых, ее крик пугает отца и мать и заставляет их искать причину. Ее болезни вносили в дом паническую растерянность. Только Ленхен становилась тогда еще более деловитой, настойчивой и властной.
Однажды, когда у Женнихен внезапно появился жар и Карл, оставив работу, не отходил от кроватки больного ребенка, Елена сказала ему назидательно:
– Вы что же, думаете, малютка вырастет, не переболев разными болезнями? Да тогда она не получит закалки. Дети после болезни умнеют и крепнут.
Карла несколько успокаивает ее тон.
– Идите-ка, доктор Маркс, погулять и захватите жену, а то, сидя без воздуха и вздыхая без нужды, она родит вам второго ребенка таким хилым, что некогда вам будет думать, как сделать нас, простых бедных людей, счастливыми и богатыми. Ну-ну, надевайте же шаль, милая Женни. Господин Маркс, захватите зонтик, я уверена, что скоро будет дождь.
Никто не может противостоять натиску здравого смысла – его так много у молоденькой Елены Демут. Она выпроваживает Карла и Женни и тогда уже бросается к ребенку, которого нежно любит. Ленхен – прирожденная сиделка и няня. Никто не умеет так быстро успокоить малютку Женнихен и угадать, что именно болит у нее.
– Лечить ребенка – все равно что птичку. Бедненькие, они только чирикают, но не скажут, где им больно,– шепчет она нежно и принимается поить ребенка подогретым настоем, чудодейственная сила которого ей известна от госпожи Каролины фон Вестфален. Как много узнала она полезного от этой почтенной, важной и доброй дамы. Ленхен выучилась кулинарии, уходу за детьми и больными. Она затвердила, как молитву, которую когда-то выучила у пастора, стародавние рецепты, способы приготовления лечебных отваров и многое другое, необходимое в домоводстве. И теперь это ей очень пригодилось.
Ленхен хорошо знала, что дети благодарные пациенты. Часто они так же быстро излечиваются, как и заболевают. Теплый настой липового цвета и растирание подогретым оливковым маслом помогли Женнихен. И когда Карл и Женни вернулись домой, их дочь крепко спала, а лицо ев перестало пылать, как это былое ночи. Женни, предварительно согревшись, вошла и склонилась над кроваткой дочери, тревожно всматриваясь в ее личико и прислушиваясь. Дыхание ребенка было ровным и тихим.
– Ты кудесница, Ленхен. Чем же ты отогнала болезнь от колыбельки?– спросила она, с благодарностью глядя на молодую девушку.
– Да не сглазьте вы, пожалуйста, и не разбудите крошку,– отмахнулась Демут, притворно рассердившись.
В эти дни пришло письмо из Бармена. Карл нетерпеливо вскрыл конверт. Наконец-то Фридрих написал ему. Прошло три недели, как они расстались. Он сообщал об обручении сестры и связанной с этим в доме суете, о том, что, возможно, целых полгода предстоит ему пробыть в Германии. «Я, конечно, сделаю все,– писал Фридрих,– чтобы избежать этого, но ты не можешь себе представить, какие мелкие соображения, какие суеверные опасения выдвигаются против моего отъезда.
В Кёльне я провел три дня и был поражен невероятными успехами нашей пропаганды. Люди там очень деятельны, но сильно сказывается отсутствие надлежащей опоры. Пока наши принципы не будут развиты в нескольких работах и не будут выведены логически и исторически из предшествующего мировоззрения и предшествующей истории как их необходимое продолжение, настоящей ясности в головах не будет, и большинство будет блуждать в потемках».
Энгельс подробно описывал настроения в Дюссельдорфе и в Эльберфельде и расспрашивал о газете «Форвертс» и ее редакторе Бернайсе. Заканчивал он письмо приветами знакомым, Женни и следующими словами: «Ну, будь здоров, дорогой Карл, и пиши сейчас же. С того времени, как мы расстались, я не был еще ни разу в таком хорошем настроении и не чувствовал себя в такой степени человеком, как в течение тех десяти дней, что провел у тебя...»
«..В полночь Карл снова принялся за не доконченную еще статью для газеты «Форвертс». Он решил дописать ее згой ночью.
Оценивая значение силезского восстания, он вспоминает поразительное по теоретической глубине сочинение немецкого портняжного подмастерья Вильгельма Вейтлинга, немало бродившего по Франции, Германии и другим странам.
– Конечно,– говорит Карл, когда Женни присаживается возле него на ручке кресла, прежде чем уйти спать,– изложение самоучки немца Вейтлинга уступает по форме блестящим формулировкам француза Прудона, но зато мысли и выводы его глубже. Оба пролетария – Прудон и Вейтлинг, – несомненно, самородки. В будущем именно рабочий класс даст миру величайшие умы.
Маркс перелистывает книгу Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы» и продолжает говорить:
– Как ты знаешь, Вейтлинг – один из создателей «Союза справедливых». Он выступил ранее Кабе, Луи Влана и Прудона и стал социалистом. То, что «Союз справедливых» был разгромлен в тридцать девятом году, фактически только укрепило тех, кто действительно хочет борьбы и кто мыслит. Лучшие из членов этого союза снова принялись за дело и сплачиваются. Я вижусь со многими из них, перебравшимися в Париж. Вейтлинг руководит коммунистическим движением в Швейцарии. В Англии, где свобода союзов и собраний облегчает общение, находятся замечательные люди, полные революционной решимости, которой так не хватает многим из наших парижских союзников.
– Это те три настоящих человека, о которых с таким увлечением вспоминал Энгельс: часовщик, наборщик и сапожник? – спросила Женни.
– Именно. Судя по внушительному впечатлению, которое они произвели на Фреда, я жду от них многого. Итак, пролетариат уже дает нам сильные умы. Я этого ждал. Вейтлинг, как и Прудон, разбивает клевету буржуа насчет ничтожества плебса. Эти люди прокладывают дорогу своему классу. Великая миссия!
Прежде чем оставить мужа, Женни уводит его в соседнюю комнату, к постели их ребенка. На свете нет ничего прекраснее, нежели спокойно спящее, чуть улыбающееся дитя.
Отец и мать оба думают об этом. Но, в чепце и длинной, наглухо закрытой белоснежной рубахе, отчаянно размахивая руками, не издав при этом, однако, ни одного звука, вся олицетворенный укор и возмущение, поднимается с соседней кровати Ленхен. Карл и Женни поспешно на цыпочках пускаются в бегство, чуть не опрокинув столик, на котором стоят затемненная лампа, бутылочка с молоком и корзинка с чистыми пеленками.
Наконец тишина прочно окутывает дом. Обе Женни спят.
Карл снова в своем кресле у стола. Перо его с необычайной быстротой следует за мыслью и энергично покрывает вкривь и вкось одни за другим листы бумаги.
«Где у буржуазии,– пишет Маркс,– вместе с ее философами и учеными, найдется такое произведение об эмансипации буржуазии – о политическойэмансипации, которое было бы подобно книге Вейтлинга « Гарантии гармонии и свободы»? Стоит сравнить банальную и трусливую посредственность немецкой политической литературы с этим беспримерными блестящим литературным дебютом пемецких рабочих, стоит сравнить эти гигантские детские башмакипролетариата с карликовыми стоптанными политическими башмаками немецкой буржуазии, чтобы предсказать немецкой Золушкев будущем фигуру атлета».
И, завершая это приветствие восходящему классу, Карл называет немецкий пролетариат теоретиком европейского пролетариата, английских рабочих – его экономистом, а французских – его политиком.
Долго еще пишет Маркс. Под утро, закончив статью для «Форвертса», Карл снова засел за начатый раньше ответ Бруно Бауэру, по плану, разработанному вместо с Энгельсом во время недавней их встречи. Фред уже закончил свои главы брошюры, Карл предполагал, что работа над его частью займет очень немного времени, но, вникая, по своему обыкновению, все глубже и глубже в тему, увлекся. Одно положение рождало последующее, и книга разрасталась вширь и вглубь, как все, над чем работала необъятная мысль Маркса.
Кроме того, первоначальный план обоих авторов написать небольшую брошюру нарушался и другими соображениями. Только книги более чем в двадцать печатных листов, считаясь научными, не подвергались строгой цензуре. Издатель Левенталь из Франкфурта-на-Майне согласился печатать труд Маркса и Энгельса только при условии, если они обойдут все цензурные преграды.
Учитывая это, Маркс написал около двадцати листов. С полутора, сделанными Энгельсом, получилась вместо брошюры большая книга, которую авторы вначале окрестили «Критика критической критики». Она была проникнута юмором, уничтожала смехом, навсегда развенчивая богемствующих болтунов Бауэров и их приверженцев.
Поединок с Бауэром был неизбежен. Он продолжал нападать в газетах на статьи Карла и Фридриха, вышедшие в «Немецко-французском ежегоднике».
Граф Яков Николаевич Толстой в арендованном им особняке неподалеку от улицы Ванно, в Сен-Жерменском предместье, писал обширное донесение в Петербург.
Взлохмаченный, небритый, в шелковом, на вате, шлафроке, сидел он на тахте, покрытой дорогим турецким ковром. Толстому было пятьдесят пять лет, но большое мятое лицо его с дряблым подбородком выглядело старческим.
– Так-то, Иван, – обратился он к своему камердинеру, крепостному лет шестидесяти. Ему он особенно доверял и возил его с собой еще с 1823 года, когда впервые, сославшись на болезнь, уехал за границу.– Гляжу на твою рожу и нахожу, что похож ты на луну и на яйцо всмятку. Итак, по сути, ты луна всмятку.
Старик слуга хихикнул, не то прикрыв смешком обиду и горечь, не то польщенный если не сравнением, то милостивым тоном барина.
– Впрочем, ты, Иван, то есть луна всмятку, не сетуй на меня. Я ведь тоже лицом более всего похож сейчас на эту самую небесную яичницу.
– Что вы, ваше сиятельство! – возмутился Иван.– Белую кость с черной сравняли!
– Мы ведь с тобой похожи,– продолжал Яков Николаевич, как бы не слыша,– может быть, почтенный батюшка согрешил с твоей матерью. Ведь Луша была долго в горничных при барыне. Мой папа, как и я, был большой демократ. Любил он черный хлебец и квас. Скажу тебе по секрету: женщины все одинаковы.
Камердинер подвинул к графу столик с зеркалом и многочисленными предметами туалета. Вошел парикмахер и принялся причесывать спутанную жидкую шевелюру графа и его бакенбарды.
Граф Яков Николаевич Толстой встал из-за стола надушенный и как бы с отутюженной физиономией. Иван подал ему выходной костюм – светлые брюки, бирюзовый, «в мушку», жилет и темно-коричневый редингот. Надев пальто и цилиндр, Яков Николаевич вдруг размашисто ударил лакея по втянутому животу.
– Ну, как твой, как ты его бишь зовешь, пищевар, все не варит?
– Так точно, ваше сиятельство, не варит,– печально и почтительно сказал крепостной, кланяясь.
– Мой тоже плох,– взяв трость и осматривая себя в зеркале, сказал Толстой.
– Все шутить изволите, ваше сиятельство. Вот только не изволили сказать, что ответить, когда мусье Бакунин пожалует в полдень.
– Придумай что-нибудь и проси зайти вечерком обязательно. Всем говори, что граф уехал в посольство, при котором состоит. Запомни хорошенько: именно так – граф отбыл к послу.
С неожиданной для своей внушительной комплекции и возраста почти юношеской легкостью граф Толстой сбежал с лестницы и уселся в карету. Но не в посольство поехал он, а в Булонский лес, где предстояло ему важное и секретное свидание. Развалясь на мягком сиденье в глубине кареты, он мгновенно перестал улыбаться. Лицо его резко изменилось. Губы сжались, и углы их опустились, образуя четкую и злую линию. Две суровые морщины залегли на скулах. Жестким и грубым было выражение небольших глаз под сморщенными веками. Сейчас граф отдыхал от постоянного притворства, которым наполнена была его жизнь.
Только мозг не давал ему покоя, рождая мысли, выбрасывая клочки досадных воспоминаний.
Париж давно стал ему ближе Петербурга. Как только в суровый зимний день на Сенатской площади отзвучали выстрелы и декабрьское восстание было разбито, Яков Николаевич, к тому времени уже два года живший в чужих землях, объявил, что не вернется на родину. Вместе с Тургеневым он стал первым русским политическим эмигрантом. Но шли годы. Николай I, лицемернейший из деспотов и самодуров, понравился Толстому. Графа терзала к тому же тоска по родине – болезнь, именуемая врачами ностальгией. Яков Толстой решил не покаянием, а делом доказать свою преданность новому царю. Он стал писать красноречиво и рьяно донос за доносом на всех, с кем сталкивала его судьба за рубежом. Третье отделение не осталось равнодушным к этому знатному добровольцу, которого все за границей считали невинной жертвой декабрьских дней. Но граф не довольствовался только агентурными донесениями. Он писал в парижских газетах панегирики Николаю I и его правлению. «Это достойный преемник великого Петра. Никогда Россия не была более могущественной державой!» – восклицал Толстой.








