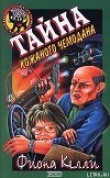Текст книги "Клошмерль"
Автор книги: Габриэль Шевалье
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Заручившись таким образом поддержкой Бурдийя, Пьешю думал теперь только о том, как обеспечить себе поддержку Фокара. Он собирался шепнуть депутату на ухо несколько слов об обещаниях бывшего министра и спросить, действительно ли Бурдийя умеет держать слово и является силой в партии.
Дела принимали недурной оборот. Он вспомнил слова своего отца, старшего Пьешю, о котором только что шёл разговор: «Если нужна тележка, а тебе предлагают тачку – не ломайся. Бери пока тачку, а когда заполучишь тележку, у тебя будет и то, и другое». Тачка или тележка, Фокар или Бурдийя – трудно предугадать… «Мудрость стариков может пригодиться», – подумал Пьешю. Он уже достиг такого возраста, когда его собственная мудрость отрицалась младшими, и теперь одобрял мудрость стариков, которую когда-то отрицал сам. Он отдавал себе отчёт в том, что мудрость не меняется от поколения к поколению. Она эволюционирует от возраста к возрасту, внутри каждого поколения.
Между тем наступила очередь самого Бурдийя, который должен был выступать последним. Он вытащил из кармана пенсне, несколько листков бумаги и принялся старательно читать. Мягко выражаясь, Александр Бурдийя не был блестящим оратором. Бывший министр спотыкался на каждой фразе. И тем не менее горожане упорствовали в своём восхищении. Причиной этому было солнце и необычайное скопление уверенных в себе пророков, собравшихся на главной площади городка. Бурдийя предсказывал, как и все остальные, мирное будущее и процветание страны. Его слова были неясны, но величественны. Они ничем не отличались от всего того, что произносили его предшественники с той же трибуны. Все слушатели проявляли благовоспитанное внимание, быть может, за исключением одного супрефекта, который всем своим видом давал понять, что внимателен только по долгу службы. Это был молодой человек с хорошими манерами. Чёрно-серебряная чиновничья форма удачно оттеняла вдумчивость его лица. Он был похож на дипломата, случайно попавшего на ярмарку к дикарям. Когда он переставал следить за своей мимикой, на лице его появлялось выражение, откровенно говорившее: «Каким ремеслом заставляют меня заниматься!» Супрефект уже прослушал сотни выступлений такого сорта, произнесённых республиканскими сулителями небесной манны. Он изнывал от скуки.
И вдруг одна из фраз Александра Бурдийя сверкнула неожиданным блеском. Эффект, который она произвела, был обусловлен не столько её содержанием, сколько формой.
«…все истинные республиканцы, которые говорили здесь за благо Республики».
И, завершив ораторский период, Бурдийя с тонким чувством своевременности сделал паузу, которая позволяла злополучному предлогу «за» произвести максимальный эффект на образованных людей.
«О! Вот это да! Сегодня Бурдийя в ударе!» – подумал супрефект, быстро поднося руку ко рту, как воспитанный человек, желающий скрыть непроизвольную зевоту или отрыжку. Его скука тотчас же испарилась.
– Errare humanum est![13]13
Человеку свойственно ошибаться (лат.).
[Закрыть] – важно изрёк Тафардель. – Ляпсус, ляпсус, только и всего! И он нисколько не умаляет величия идей.
– Удивительно, – шепнул Жиродо своему соседу, – что «они» не сунули его в Министерство народного просвещения.
Неподалёку сидел Оскар де Сен-Шуль. Его шляпа, перчатки, гетры и короткие брюки являли собой необычайно гармоничное сочетание бежевых тонов. Крайнее изумление заставило его выронить из-под брови монокль.
– Странная риторика, клянусь душами моих предков, умерших в изгнании! – воскликнул он, помещая монокль на место.
В ту же минуту в звонком утреннем воздухе послышался странный звук. Это аптекарь Пуальфар, испытав острое желание расхохотаться, вдруг громко всхлипнул.
Депутат Фокар, севший после своего выступления по левую сторону от мэра, задыхался от ярости и отнюдь не старался скрыть свои мысли от Бартелеми Пьешю.
– Вот болван, а! Что вы на это скажете, мой дорогой Пьешю? Да он просто динозавр человеческой глупости! И подумать только, что такого субъекта могли сделать министром. Вы знаете, как это получилось? Как, не знаете? Да об этой истории говорит вся Палата! Я не нарушу секрета, если расскажу её вам, мой дорогой друг.
И он рассказал о карьере Александра Бурдийя, великого сына Клошмерля, бывшего министра земледелия.
Александр Бурдийя приехал в Париж совсем молодым. Сначала он работал официантом в кафе, а затем женился на дочери хозяина и сам стал трактирщиком в Обервилье. Двадцать лет подряд его заведение было центром активной избирательной агитации и местом, где собирались многие политические группировки. В один прекрасный день сорокапятилетний Бурдийя предстал перед влиятельным членом партии. «Чёрт побери, – воскликнул он, – ведь я уже не первый год делаю депутатов, тратясь на выпивку избирателям. Разве теперь не наступил мой черёд? Я хочу быть депутатом, чёрт побери!» Эти доводы нашли весьма логичными, тем более что трактирщик обладал деньгами, способными с избытком покрыть расходы на избирательную кампанию. Так, в 1904 году в возрасте сорока семи лет он был избран впервые. Способ, которым он так успешно воспользовался, чтоб стать депутатом, был им применён снова для того, чтобы сделаться министром. Долгие годы он непрестанно повторял: «Так что же, чёрт побери! Меня забывают? А ведь я не глупее остальных. Я больше сделал для партии своими аперитивами, чем любой из этих пузатых господ своим речами!»
Наконец, в 1917 году случай представился. Клемансо начал формировать кабинет. Он принял в своей резиденции на улице Франклина председателя партии и спросил его: «Кого вы собираетесь мне предложить?» И среди прочих было названо имя Александра Бурдийя.
– Но ведь он же старый болван, ваш Бурдийя? – спросил у председатель Клемансо.
– Видите ли, господин премьер, – ответили ему, – его, конечно, нельзя назвать выдающимся политическим деятелем, но к средним умам его можно отнести без особой натяжки.
– Это я и имел в виду, – ответил Клемансо, решительным жестом отметая излишние тонкости в оценках. С минуту он размышлял. И вдруг воскликнул: «Ну ладно, я его беру, вашего Бурдийя. Чем больше дураков будет вокруг меня, тем меньше шансов, что ко мне будут…!»
– Вы не находите эту историю забавной? – настоятельно вопрошал Фокар. – Тот же Клемансо называл Глупость – «империей Александра», а глупцов – «верными подданными Александра, кабацкого императора». Вы что-нибудь слышали о шедевре Бурдийя – его речи в Тулузе?
Аристид Фокар прерывал свой откровенный рассказ лишь для того, чтобы поаплодировать и выразить горячее одобрение бывшему министру. Между тем Бурдийя упорно продолжал разглагольствовать, нанизывая политические формулы, испытанные за сорок лет на партийных собраниях. Наконец, он подошёл к последним строчкам своей шпаргалки, и исступлённый востог публики достиг своего предела. Официальные лица поднялись со стульев и в сопровождении толпы горожан направились по главной улице к центру городка. Близилось трогательное открытие маленького строения, которое жители Клошмерля уже называли «щитком Пьешю».
Для поднятия покрывала были приглашены городские пожарные. Монумент появился во всей своей простоте, влекущий и общеполезный. Решено было окрестить его, разбив о стенку павильона бутылку с вином Божоле. Для этого жертвоприношения нужно было выбрать достойного жреца. Избрали жрицу.
Супрефект направился к толпе, чтобы пригласить Жюдит Туминьон, которую он уже давно заметил и не терял из виду. Она подошла к официальным лицам, покачивая своими божественными бёдрами, с простой и небрежной грацией, вызывавшей шёпот восхищённого почитания. Именно она, весело смеясь, окрестила писсуар, и старый Бурдийя в знак благодарности поцеловал её в обе щёки, Фокар и многие другие захотели последовать его примеру, но она отстранилась со словами: «Но ведь это не с меня сняли покрывало, господа».
– Увы! – единодушно вздохнули галантные мужчины.
И вдруг кто-то крикнул:
– Эй, Бурдийя, докажи, что ты всё ещё наш, здешний! Отлей первым! – и вся толпа тотчас же его поддержала: «Да, да, валяй! Валяй, Бурдийя!»
Эта просьба застала бывшего министра врасплох, ибо он уже много лет подряд страдал от серьёзных неполадок в предстательной железе. И Бурдийя решил пойти на симуляцию. Когда он очутился по ту сторону стенки, громкие приветственные крики заполнили небеса Клошмерля. Женщины захохотали пронзительно, как от щекотки, при одной мысли о том, что Бурдийя символически держал в руке. (Славные толстушки думали о сём предмете чаще, чем в этом принято сознаваться.)
Многим присутствующим, которые долгое время прилежно и напряжённо внимали речам, стало невмоготу терпеть. И тотчас же вереница горожан потянулась в «Тупик монахов». Её открыл Сиприен Босолей, человек чрезвычайно инициативный. Он выразил своё впечатление так:
– Водичка так здорово течёт по щитку, что отливать одно удовольствие.
– Он такой гладенький – «щиток Пьешю»! – заявил Тонен Машавуан.
Эти сельские развлечения тянулись до того момента, когда нужно было садиться за стол. В гостинице Торбайона накрыли стол на восемьдесят персон. Банкет длился пять часов. Тут смешались воедино политика и раблезианское обжорство: форели, жаркое из баранины, птица, дичь, старое вино, виноградная водка, тосты и новые речи. Затем Бурдийя, Фокар, супрефект и ещё несколько высокопоставленных особ снова сели в машины. Их время было строго распределено: новые речи и новые заверения уже лежали в карманах, новые маршруты были намечены на месяц вперёд, новые открытия и банкеты требовали присутствия преданных слуг страны.
* * *
Этот день был во всех отношениях знаменательным для обитателей городка. Но для одного из них – для Эрнеста Тафарделя – он был единственным в своём роде: в этот день Александр Бурдийя, с разрешения министра, наградил его орденом «Академические пальмы». Этот символ блистательных заслуг учителя снова сделал его молодым. Тафардель помолодел до такой степени, что весь день резвился, как лицеист, и необычайно много пил. Он пил до тех пор, пока не закрылись ставни последнего кабака. Он уже успел замучить за день своих сограждан потоком слов, которые свидетельствовали о высоком полёте ума, к сожалению, подпорченном с девяти часов вечера похабными словечками. Оставшись в одиночестве, Тафардель величественно помочился прямо посреди главной улицы и громовым голосом изложил своеобразное кредо:
– Инспектор Академии? Мне на него на… Да, да, на… И я не побоюсь сказать этому ублюдку всю правду в лицо! Я ему скажу: «Господин инспектор, я – ваш нижайший слуга. И вашему нижайшему слуге на вас на… со стенки, с башни и с колокольни! Вы меня хорошо поняли, господин Хам, господин Неуч? Вон отсюда, жалкий скоморох и паяц! Шляпу долой перед знаменитым Тафарделем!»
Поговорив таким образом со звёздами добродушного неба, учитель затянул непристойную песенку и снова отправился к мэрии, попутно проверяя параллельность тротуаров главного проспекта. Экспедиция заняла много времени и стоила ему одного стекла пенсне, разбитого вследствие многих падений. Тем не менее ему удалось добраться до школы. Мертвецки пьяный, он, не раздеваясь, рухнул на кровать и тотчас заснул.
В этот поздний час во всём Клошмерле светился только один огонёк. Это был огонёк в окошке аптекаря Пуальфара, который с наслаждением предавался обильным рыданиям. Чужая радость всегда была прекрасным стимулом для его слёз.
6
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ЖЮСТИНЫ ПЮТЕ
В истории с писсуаром Бартелеми Пьешю поставил на карту свою репутацию. И он был немного обеспокоен. Стоило горожанам пренебречь этим маленьким сооружением, – и его инициатива не достигла бы цели на предстоящих выборах. Но комбинации Пьешю пользовались благосклонностью всех местных богов и особенно Бахуса, который уже несколько веков назад нашёл прибежище в Божоле, Маконе и Бургундии.
В тот год весна пришла намного раньше, чем обычно. Она была на редкость тёплой и благоуханной. Горожане ходили в рубашках, взмокших на груди и спине. С мая месяца все уже начали пить летними темпами, необычайно интенсивными в Клошмерле. Бледные и слабосильные выпивохи больших городов не имеют об этих темпах ни малейшего представления. Неуёмная жажда приводила к напряжённой работе почек, и разбухшие мочевые пузыри требовали частых опорожнений. Благодаря близости гостиницы Торбайона писсуар приобрёл большую популярность. Конечно, пьющий люд вполне мог удовлетворять свою нужду во дворе гостиницы, но это место было слишком тёмным, зловонным, запущенным и совсем невесёлым. Там вы чувствовали себя как в карцере, действовать приходилось вслепую и всегда с ущербом для своих ботинок. А между тем пересечь улицу было так просто. К тому же второй способ имел ряд преимуществ: во-первых, можно было поразмять ноги, во-вторых, получить удовольствие от новизны и, в третьих, воспользовавшись случаем, по пути взглянуть на Жюдит Туминьон, на которую всегда приятно было посмотреть, ибо прелесть её тешила воображение.
И, наконец, писсуар был двухместным. Туда обычно отправлялись попарно, что давало возможность приятным образом совмещать разговор с делом. От этого в равной степени выигрывало то и другое, – и человек испытывал два наслаждения сразу. Мужчине, который много и со знанием дела пил и точно так же мочился, было приятно сознавать, что он может испытывать купно с другом два великих удовольствия: пить сколько влезет и изливаться до последней капли. (Удовольствие усугублялось оттого, что этим занятием можно было заниматься не торопясь, в прохладном месте, которое хорошо проветривалось и круглые сутки обильно омывалось водой.) Эти неприхотливые радости недоступны жителям большого города, вовлечённым в безжалостную суету. А в Клошмерле эти игры сохранили всю свою прелесть. И жители городка ценили их так высоко, что каждый раз, когда Пьешю проходил мимо своего строения (а он это делал довольно часто, желая убедиться, что оно не пустует), мужчины его возраста выражали ему из-за стенки своё полное удовлетворение.
– За твоё здоровье, Бартелеми! – кричали они.
– Ну, как там дела? – спрашивал мэр, приближаясь.
– Твоими молитвами, Бартелеми. Льётся, как у двадцатилетнего! – отвечал ему один.
– Твой щиток – гладенький, как милашкина ляжка. Хочешь не хочешь, а рука к ширинке сама тянется, – говорил другой.
Благодушные словечки такого рода всегда сопровождают утехи зрелых людей. Пожилые люди знают, что комментарии составляют самую длительную часть удовольствия и что приходит возраст, когда они могут заменить подвиги и утехи.
Не меньшим успехом пользовался писсуар у молодёжи, но причины для этого были иные. Монумент был воздвигнут в самом центре Клошмерля, в точке, где соединялись верхняя и нижняя части городка. Он соседствовал с церковью, гостиницей и «Галери божолез» – заветными местами, привлекающими всеобщее внимание. Эта часть городка, казалось, была специально предназначена для встреч. Городских парней сюда привлекало то обстоятельство, что по «Аллее монахов» в ризницу городской церкви обычно проходили чада Святой Марии. К тому же в мае они ежевечерне ходили молиться о спасении своих душ. На застенчивых дщерей Святой Марии, свеженьких и уже полногрудых, было приятно смотреть. Наибольшим успехом пользовались Роза Бивак, Люлю Монтийе, Мари-Луиза Ришон и Туанетта Мафиг. Молодые парни при каждом удобном случае норовили толкнуть их плечом. При этом они краснели не меньше, чем девчонки, и вели себя грубо, желая проявить нежность. Ребята, когда они ходили табуном, всячески пытались хорохориться, так же как дочери Святой Марии старались на людях выглядеть невероятно целомудренными, хотя в глубине души они отлично знали, чего хотят. Девицы совсем не собирались плесневеть в обществе добродетельных недотрог. Парни внушали им неясное волнение, и дочери Святой Марии очень хотели бы вызывать в мальчишках такое же чувство (впрочем, эти кривляки нисколько не сомневались в успехе). Когда они ходили группами, им легко было встречать во всеоружии щеголеватых городских юнцов. Они проходили мимо, небрежно держась за руки, вихляясь, с лукавой улыбкой на устах, чувствуя на своих бёдрах опаляющие взгляды. А потом они приносили под тёмные своды церкви воспоминание о мальчишечьем лице и голосе, нежный тембр которого вливался в благозвучные церковные песнопения. Эти грубоватые встречи и неумелые признания подготовляли появление новой поросли в Клошмерле.
Между тем двух мест у «щитка Пьешю» было явно недостаточно, если три или четыре мочевых пузыря требовали своего одновременно. Это было не редкостью в нашем городке, насчитывавшем 2800 мочевых пузырей, из которых приблизительно половина принадлежала мужчинам и поэтому могла свободно изливаться в общественных местах. В неотложных случаях мужчины возвращались к старым добрым способам, незаменимым в спешке. Они преспокойно мочились на стенку возле писсуара, не считая это дурным или неприличным и не видя ни малейшего основания для того, чтобы себя стеснять. Некоторые из них – люди с независимым нравом – даже предпочитали останавливаться возле входа и не заходить вовнутрь.
Что касается городских мальчишек, то они, в полном соответствии с глупостью, свойственной их шестнадцати годам, никогда не упускали случая выкинуть какой-нибудь фортель. Часто они оспаривали друг у друга рекорды по высоте и дальнобойности. Применяя законы элементарной физики, они уменьшали мощность потока, соответственно увеличивая давление, и таким образом легко добивались максимальной длины струи. Шаг за шагом они отступали от стенки, радуясь достигнутому эффекту. Эти глупейшие забавы, вообще говоря, присущи всем временам и народам, и солидные люди, осуждающие такие шутки, обнаруживают удивительно короткую память. Зато простые женщины городка, наблюдавшие издалека за ребятами, гораздо снисходительней относились к забавам юности, ещё не окрепшей в брачных трудах. Дородные кумушки из прачечной с хохотом говорили друг другу: «Если эти несмышлёныши будут им пользоваться таким манером, за девчонок можно не бояться».
Так развивались события в Клошмерле 1923 года – без излишнего лицемерия, а скорее с чисто галльской склонностью к озорным проделкам. Писсуар Пьешю сделался местным аттракционом. С утра до вечера горожане дефилировали по «Тупику монахов». Каждый вёл себя в соответствии с возможностями своего возраста и темперамента: молодые нетерпеливо, беспечно и без оглядки, люди среднего возраста – с мудрой умеренностью в повадках и отправлениях, а старики – со страдальческой медлительностью и трепетом великих усилий, порождавших всего-навсего жалкие струйки, излитые с большими интервалами. Но все они, – юнцы, мужчины и старики, – заходя в «Тупик монахов», делали одно и то же быстрое подготовительное движение, а выходя из павильона – одинаковый завершающий жест, основательный, долгий, сопровождаемый лёгким приседанием, позволяющий удобно разместиться в просторных брюках, которые были в моде у виноградарей Клошмерля, вечно копавшихся в земле. Впрочем, все эти движения по существу были лишь одним жестом. И он не менялся в течение сорока или даже пятидесяти тысяч лет. Он тесно роднит Адама и питекантропа с мужчиной XX века. Это жест неизменный, интернациональный, всемирный, несущий в себе нечто воинственное, – один из основных человеческих жестов. Обитатели Клошмерля делали его без неуместного хвастовства, но и без стыдливой утайки, – просто и совершенно спокойно. Они, не стесняясь, принимали наиудобнейшие позы в «Тупике монахов», полагая, что только извращённый ум может найти в их действиях нечто предосудительное. И тем не менее этот жест оскорблял некую особу, приникшую к занавеске, – особу, которая никак не могла оторваться от окна, отвернуться от гнусного, бесконечно повторяемого жеста. Это была Жюстина Пюте, наблюдавшая за движением в «Тупике монахов». Старая дева видела бесконечную вереницу мужчин, уверенных, что за ними никто не наблюдает. Поэтому они совершенно спокойно занимались своим делом и, возможно, не принимали всех мер, предписанных строгой благовоспитанностью.
* * *
Итак, на сцене появляется Жюстина Пюте. Поговорим об этой особе. Представьте себе чернявую особу, иссохшую, гадюкоподобную, с землистым цветом лица, колючими глазами, злобным языком и скверным пищеварением. И всё это прикрыто воинствующим благочестием и шипящей елейностью. Её твердокаменная добродетель производила удручающее впечатление, ибо целомудрие, обитающее в подобном теле, всегда неприятно для глаз. Пожалуй, эта непорочность была внушена не природной склонностью к целомудрию, а духом мести и мизантропии. Старая дева ревностно перебирала чётки и бормотала свои литании, но это нисколько не мешало ей неустанно сеять по городу плевелы клеветы и панических слухов. Одним словом, это была местная сколопендра, замаскированная под божью коровку. Никто и никогда не задавался вопросом о её возрасте. На вид ей было лет сорок с небольшим, впрочем, это никого не интересовало. Физической привлекательности она была лишена с детства. В возрасте двадцати семи лет, получив после смерти родителей 1100 франков годового дохода, Жюстина Пюте засела в глубине «Тупика монахов», под сенью церкви, и начала свою карьеру одинокой старой девы. Днём и ночью следила она из своего жилища за городком, изобличая мерзости и блудодеяния. Она делала это, вдохновлённая собственной добродетелью, которой мужчины Клошмерля пренебрегли самым решительным образом. Два месяца подряд наблюдала Жюстина Пюте за циркуляцией горожан в районе нового сооружения, и ярость её возрастала с каждым днём. Всё, что принадлежало к мужскому полу, внушало ей лишь ненависть и омерзение. Она видела, как парни неуклюже задирали девчонок, а девчонки словно бы ненароком разжигали парней. Она видела, как постепенно завязываются отношения между этими маленькими недотрогами и славными неотёсанными пареньками. Глядя на эти игры, Жюстина Пюте думала о мерзостях, к которым они обычно приводят молодых людей. Теперь, после постройки писсуара, ей казалось, больше, чем когда бы то ни было, что нравы Клошмерля в величайшей опасности. К тому же с наступлением жары «Тупик монахов» стал дурно пахнуть.
После долгих размышлений и бессчётных молитв старая дева решилась предпринять крестовый поход: первый свой удар она вознамерилась направить на самый богопротивный из всех бастионов греха. И вот, в одно прекрасное утро, она тщательно рассовала под одеждой образки и ладанки и, примешав к своему яду медовый елей, отправилась к своей соседке – одержимой диаволом, богомерзкой псице Жюдит Туминьон, мимо которой она проходила, не разжимая губ, вот уже шестой год.
Апостольское горение Жюстины Пюте сразу же испортило переговоры, и они быстро приняли дурной оборот. Мы ограничимся описанием финала этой оживлённой беседы. Выслушав жалобы старой девы, Жюдит Туминьон ответила:
– Ей-богу же, мадемуазель, я не вижу необходимости разрушать этот писсуар. Он мне нисколько не мешает.
– А запах, мадам? Разве вы его не чувствуете?
– Вовсе нет, мадемуазель.
– В таком случае, разрешите вам заметить, мадам, что у вас далеко не тонкий нюх.
– Так же как слух, мадемуазель. И, благодаря этому свойству, меня нисколько не беспокоит болтовня по моему адресу.
Жюстина Пюте опустила глаза.
– А то, что происходит в «Тупике монахов», мадам? Это вас тоже не беспокоит?
– Насколько мне известно, мадемуазель, там не происходит ничего неприличного. Мужчины ходят туда для известных вам дел. Ведь нужно же где-то это делать – там или в другом месте. Что же в этом дурного?
– Дурного? Есть такие типы, мадам, которые даже не пытаются скрыть от меня свои пакости.
Жюдит улыбнулась.
– Эти пакости в самом деле так ужасны? Вы преувеличиваете, мадемуазель!
Ум Жюстины Пюте всегда был предрасположен к мысли, что её намерены оскорбить. Она ответила крайне резко:
– О! Я знаю, мадам, есть такие женщины, которых эти пакости не пугают! Чем больше они их видят, тем больше ликуют!
Уверенная в великолепии своей удовлетворённой плоти, убеждённая в своём блистательном преимуществе перед жалкой завистницей, прекрасная коммерсантка мягко возразила:
– Сдаётся мне, мадемуазель, что вы тоже не упускаете случая на эти пакости поглядеть…
– Но я к ним не прикасаюсь, мадам, как некоторые, что живут от меня неподалёку. Я могла бы их назвать…
– Что до меня, мадемуазель, то я не собираюсь вам мешать к ним прикасаться. Я же не спрашиваю вас, как вы проводите ночи.
– Я их провожу безгрешно, мадам. И я не позволю, чтобы вы говорили…
– Но я ничего не говорю, мадемуазель. К тому же вы совершенно свободны. Каждый человек свободен.
– Я честная девушка, мадам.
– А кто утверждает обратное?
– Я не из бесстыдниц, доступных каждому встречному-поперечному… Что доступно двум, доступно и десятерым! И я вам это говорю в лицо, мадам.
– Чтобы быть доступной, дорогая мадемуазель, нужно знать, что вас о чём-то попросят. Вы говорите о вещах, с которыми плохо знакомы.
– Я легко без них обхожусь, мадам. А когда я вижу, до чего иных доводит порок, я даже рада, что могу без них обойтись.
– Я вполне верю, мадемуазель, что вы охотно без них обходитесь. Но от этого не выигрывают ни ваше настроение, ни ваша внешность.
– Я не нуждаюсь в хорошем настроении, мадам, для того, чтобы говорить с особами, погрязшими во грехе… О! Я много знаю, мадам! У меня зоркий глаз, мадам! Я много могла бы порассказать… Я знаю, кто входит и кто выходит и в котором часу. И я могла бы ещё рассказать о тех, кто наставляет рога своему мужу. Да, мадам, я могла бы и это рассказать.
– Не трудитесь, мадемуазель. Это меня нисколько не интересует.
– А если мне нравится об этом говорить?
– В таком случае, подождите немного, мадемуазель. Я знаю человека, которого ваш рассказ может заинтересовать… Жюдит обернулась к дверям и крикнула:
– Франсуа!
В дверях тотчас же появился Франсуа Туминьон.
– Чего тебе? – спросил он Жюдит.
Лёгким кивком головы она указала ему на Жюстину Пюте:
– Да вот мадемуазель хочет с тобой побеседовать. Она говорит, что я тебе наставляю рога. Вероятно, она имеет в виду твоего Фонсиманя, которого здесь постоянно видят. Короче говоря, ты – рогоносец, мой бедный Франсуа. Вот в чём суть дела.
Туминьон всегда очень легко бледнел, и его бледность с дурным зеленоватым оттенком казалась зловещей. Он шагнул к старой деве.
– Прежде всего, какого чёрта околачивается здесь эта лягушка?
Выпрямившись, Жюстина Пюте хотела что-то ответить. Но Туминьон не дал ей произнести ни слова.
– Эта мокрица суёт свой нос во все дома. Сунь-ка лучше нос себе под юбку, там, наверное, неважно пахнет. И убирайся отсюда поживей, падаль поганая!
Старая дева побледнела так, как бледнела всегда – восковой желтоватой бледностью.
– О! – запротестовала она. – Как вы смеете меня оскорблять! Это вам не пройдёт даром. Не прикасайтесь ко мне, грязный пьянчуга! Его преосвященство сумеет…
– Вон отсюда сию же минуту, – вскричал Туминьон, – или я раздавлю тебя, как таракана, пакость ты этакая! Убирайся живо, старая ведьма! Я тебе покажу, какой я рогоносец, чирей вонючий!
Он её преследовал проклятиями до самого входа в «Тупик монахов», а затем вернулся домой, гордый и возбуждённый.
– Ну что, видала, как я вышвырнул Пютешку?
Жюдит присуща была снисходительность, которой часто обладают чувственные женщины. Она промолвила:
– Бедняга, она лишена всего. А ведь, надо полагать, её к этому делу тянет…
И тут же добавила:
– Ты сам виноват в этих сплетнях, Франсуа. Ты всегда затягиваешь к нам своего Фонсиманя, и обо мне начинают болтать – ведь у людей такие злые языки!
Туминьон ещё не совсем выдохся. Остатки своего гнева он обрушил на Жюдит.
– Ипполит будет приходить, когда я этого захочу, чёрт подери! Что ж, по-твоему, люди с улицы будут устанавливать в моём доме свои порядки?!
Жюдит вздохнула и бессильно развела руками:
– Ах, Франсуа! Я отлично знаю, что ты всё сделаешь по-своему.
Жюстина Пюте, образец благочестивой прихожанки, причисляла себя к самому драгоценному достоянию католической церкви. В нанесённом ей подлом оскорблении она увидела отвратительное посягательство на Великую Твердыню. Это наполняло её холодной ненавистью, которую она, не колеблясь, сочла отражением небесного гнева. Вооружившись пылающим мечом она направилась прямо к кюре Поноссу, дабы излить на его груди свои горчайшие стоны. Она заявила ему, что писсуар становится предметом соблазна и причиной падения нравственности. Она назвала писсуар грязной будкой, где преисподняя поставила часовых, отвращающих девушек Клошмерля от своих обязанностей. Она заявила кюре Поноссу, что постройка этого заведения была безбожным деянием муниципалитета, осуждённого за это на вечные муки. Она заклинала кюре Поносса призвать добрых католиков к единству – для совместной борьбы за разрушение прибежища срамоты. Но кюре Поносс испытывал священный ужас перед насилием, способным только посеять раскол среди пасомого стада. Благодушный священник, осознавший свои былые просчёты, ныне придерживался давних традиций галликанской церкви: он всем силами старался не смешивать духовное и мирское. Вне всякого сомнения, писсуар следовало отнести под рубрику мирского, и, стало быть, он на вполне законном основании зависел от муниципалитета. Кюре Поносс решительно не мог согласиться со своей непримиримой прихожанкой, утверждающей, что общеполезное строение может оказать пагубное действие на человеческие души. Именно это он и вознамерился растолковать Жюстш Пюте.
– Дорогая мадемуазель, существуют естественные надобности, ниспосланные нам самим Провидением. Стало быть, оно не может считаться греховным здание, построенное для их отправления.
– Этот образ мыслей может завести далеко, господин кюре! – сухо возразила Жюстина Пюте. – Непотребное поведение некоторых особ можно было бы объяснить теми же естественными надобностями. И тогда Туминьонша…
Кюре Поносс постарался удержать старую деву от осуждения ближних своих.
– Тсс, тсс, дорогая мадемуазель! Никто не должен быть назван. О грехах я обязан узнавать только в исповедальне, и каждый может говорить только о своих прегрешениях.
– Эти ни для кого не секрет, господин кюре, и я имею право говорить о них. Так вот, мужчины, которые в «Тупике монахов» не считают нужным прятать… которые показывают, господин кюре… показывают решительно всё…
Кюре Поносс отогнал нечестивые образы, придавая им чёткие пропорции, соответствующие законам естества.
– Моя дорогая мадемуазель, некоторая нескромность, которую вы могли заметить, проистекает, несомненно, от бесхитростной неряшливости нашего сельского населения. Мне думается, дорогая мадемуазель, что эти мелкие факты – вне всякого сомнения, прискорбные, но редкие – не способны развратить чад Пресвятой Марии, которые ходят, стыдливо потупив взоры.