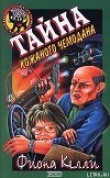Текст книги "Клошмерль"
Автор книги: Габриэль Шевалье
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
11
ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Итак, в тот момент, когда часы отзвонили полдень, по главной улице Клошмерля маленькими группками медленно расходилась толпа. Люди шли с показной печалью на лицах и беседовали, не повышая голоса. Суждения были пока ещё осторожны, слышались сетования, но в глубине души людей переполняла огромная радость: достославное событие в церкви делало праздник святого Роха 1923 года самым памятным из всех клошмерльских праздников. Вооружившись точными сведениями о кошмарных подробностях сражения, люди испытывали настоятельную потребность поскорее запереться у себя дома и дать сообразно собственному характеру полный комментарий к случившемуся.
Следует напомнить, что в Клошмерле немного страдают от скуки. Обыкновенно в этом не отдают себе отчёта. Но, когда случается неожиданное событие подобного рода, сразу же становится понятным различие между монотонным существованием и жизнью, где действительно что-то происходит. Скандал в церкви был специфически клошмерльской историей, понятной только посвящённым. Это была история в некотором смысле семейная. В делах такого рода наблюдательность можно сконцентрировать так сильно, что ни одна крупица драгоценной соли события не будет утеряна. И Клошмерль почувствовал это до такой степени, что сердце его сжалось от гордости и надежды.
Заметим, что время года удивительно благоприятствовало расцвету скандала. Если бы подобный скандал разразился во время уборки урожая, он был бы обречён на провал. «Перво-наперво, займёмся нашим винцом», – сказали бы клошмерляне, предоставив Туминьону, Никола, Пюте, Поноссу и прочим самим расхлёбывать кашу. Но по воле Провидения скандал разразился как раз в тот момент, когда клошмерляне собирались садиться за стол, когда блюда были по-праздничному расставлены, а бутылки с вином извлечены из погребков. Подобная история была великолепным подарком, истинным даром небес! Её нельзя было назвать мелочной однодневной стычкой, грошовой ссорой двух семейств или двух кланов. Такие ссоры случаются сплошь и рядом и тут же гибнут в зародыше. Но эта великолепная и содержательная история с богатой подоплёкой задела за живое весь Клошмерль. Наконец, эта чертовски занятная, потрясающая история не могла остаться без последствий, и все это прекрасно понимали.
Итак, клошмерляне уселись за стол с отличным аппетитом. О развлечениях беспокоиться не приходилось: теперь их хватит надолго. Клошмерляне испытывали законную гордость оттого, что смогут предложить гостям из соседних деревень свеженькую историю, которой предстоит обойти весь департамент. «Хорошо, что при этом были чужаки!» – думали обитатели Клошмерля. Ведь люди так завистливы! Жители окрестных деревень никогда бы не поверили, что Никола и Туминьон действительно подрались в церкви и что святому Роху досталось на орехи. Не каждый день можно увидеть, как святой летит прямёхонько в кропильницу, благодаря совместным усилиям швейцара и еретика. Но, к счастью, чужаки были свидетелями этого события. Как только клошмерляне уселись обедать, тяжёлое оцепенение палящего полудня ниспало на Клошмерль – не ощущалось ни единого дуновения. Весь городок благоухал горячим хлебом, пирогами и сочным рагу. Голубизна небес была невыносима для глаза. Солнце дубиной обрушивалось на головы, отяжелевшие от обильной еды и питья. Теперь уже никто не решался выходить из прохладных домов. Мухи, жужжавшие над кучами навоза, завладели городком, который без них казался бы вымершим.
Воспользуемся затишьем, предоставленным нам усердным пищеварением клошмерлян, и подведём итоги злополучного утра, чреватого драматическими последствиями.
Если начинать с самого главного, то прежде всего следует поговорить о печальном приключении со святым Рохом. Вообще-то говоря, оскорбили не самого Роха, а всего лишь его гипсовое изображение. И непреднамеренно оскорблённый образ святого закончил свои дни в кропильнице – вполне утешительная кончина для статуи святого. Это великолепное изваяние было подарено баронессой де Куртебиш в 1917 году, когда она окончательно решила поселиться в Клошмерле. Она заказала статую в Лионе у специалистов по религиозной скульптуре, собственных поставщиков архиепископа. Баронесса заплатила за неё 2150 франков – сумму поистине грандиозную для благотворительных дел. После таких расходов владелица замка сочла, что она полностью расплатилась с небесами и окончательно обеспечила себе всеобщее уважение. И все это отлично понимали.
После 1917 года стоимость жизни так возросла, что к 1923 году статуя такого размера должна была стоить около 3000 франков – сумма, которая была клошмерлянам явно не по карману. И ещё одно обстоятельство: кому же понравится платить за святых бешеные деньги, чтобы их потом увечили пьянчуги (некоторые утверждали, что и Никола был под мухой)? Итак, нужно было разрешить следующий вопрос: останется ли в Клошмерле свой святой? Неужели нет? О такой перспективе не могло быть и речи.
– А что, если снова поставить старого?
Прежний святой Рох, видимо, ещё существовал на каком-то чердаке. Но он был таким невзрачным, что утратил всё своё влияние на умы прихожан, а столь долгое пребывание в сырости и пыли отнюдь не прибавило ему великолепия красок. Так, что же, вернуться к святому подешевле? Это было бы скверным решением. Что ни говори, а благочестие привыкает к роскоши, и молитвенное рвение зачастую находится в прямой зависимости от величины кумира. В этом провинциальном захолустье, где так почитаются деньги, люди не смогут относиться к маленькому завалящему святому, стоимостью в пятьсот франков, с таким же уважением, как к величественному святому, купленному за три тысячи. Короче говоря, вопрос оставался открытым.
Теперь поговорим о людях. Престижу клошмерльского кюре был нанесён ущерб – в этом не было никакого сомнения. Вот что сказал Ансельм Ламолир, старик старой закалки, который не бросает слов на ветер и примыкает скорее к церковной партии, поскольку священнослужители составляют партию порядка (ведь порядок – это частная собственность), а Ламолир самый богатый собственник в Клошмерле после Бартелеми Пьешю, своего прямого соперника. Ансельм Ламолир заявил без обиняков:
– Ей-богу же, Поносс выглядел остолопом.
Это, однако, не грозило престижу клошмерльского кюре в области профессиональной: отпущение грехов, соборование и прочее. Но зато это повредит ему в экономическом отношении: доходы его основательно упадут. Десятью годами раньше он исправил бы свою неловкость, участив визиты в кабачок Торбайона и чокаясь там без лишних церемоний. Но в его годы печень и желудок уже отказывались от апостольской деятельности такого рода. Если бы не было смертельно больных, желающих в момент перехода в лучший мир урегулировать все таможенные формальности, положение Поносса было бы крайне серьёзным. К счастью, всегда находятся умирающие, которые не слишком петушатся в ту минуту, когда приходится отдать концы. Положение человека, выдающего визу на тот свет, не может быть по-настоящему скомпрометировано до тех пор, пока люди боятся неведомого. Итак, добрый кюре Поносс будет по-прежнему осуществлять своё господство, основанное на страхе. Скромный и терпеливый, он мирился с богохульством людей, обуянных гордыней, пока они пребывали в расцвете сил, но он поджидал их на повороте дороги, когда Великая Косильщица с пустыми глазницами останавливалась у изножья кровати, постукивая костями и усмехаясь так злобно, что у людей леденило кровь. Кюре Поносс служил Властителю, который сказал: «Царствие моё не от мира сего». Его, Поносса, влияние начиналось вместе с болезнью, и это всегда приводило его к тем местам, где орудовал доктор Мурай. Сие обстоятельство выводило последнего из себя, и однажды он проворчал:
– А, вы уже здесь, могильщик? Стало быть, дело пахнет трупом!
– Боже мой, – скромно ответил кюре Поносс, который не лишён был находчивости, когда не стоял на церковной кафедре. – Милый доктор, я пришёл лишь закончить то, что вы так удачно начали. Вся заслуга принадлежит вам.
Доктор Мурай пришёл в бешенство:
– Вы тоже пройдёте через мои руки, куманёк!
– Ну что же, доктор, я с этим примирился, но и вы покорно пройдёте через мои. И это не менее очевидно, – возразил Поносс уверенно и добродушно.
Доктор Мурай попытался отбиться:
– Чёрт подери, живьём вы меня не возьмёте!
Но Поносс кротко ответил:
– Жизнь – ничто, доктор. Могущество церкви – на кладбище. Церковь сильна тем, что смешивает в лоне своём праведников и нечестивцев. Через двадцать лет после вашей смерти никто уже не будет помнить, были вы добрым католиком или нет. In vitam aeternam,[16]16
В вечной жизни (лат.).
[Закрыть] доктор, вы будете принадлежать церкви.
Однако вернёмся к нашим бойцам. Выйдя из церкви, все заметили, что Никола хромает. У него кровоточило левое ухо и в драке пострадали чресла (что подтвердит и доктор Мурай). Это свидетельствовало о том, что Туминьон бил именно туда, где, по его словам, крылось слабосилие Никола. Противоречие между словами и ударами явственно обнаруживало вероломство Франсуа Туминьона. Хотя некоторые беспристрастные клошмерляне оправдывали его, говоря, что он метил в те места, которые швейцар Никола поразил у него самого, назвав его рогоносцем. Удары Туминьона были законными ударами. Однако экономные клошмерляне единодушно оплакивали гибель прекрасной формы Никола: его сломанную алебарду, истоптанную треуголку, шпагу, перекрученную, как детская сабля, парадный сюртук, изорванный на спине от пояса до воротника. Теперь придётся шить швейцару новую форму.
На внешности Франсуа Туминьона следы сражения отразились не менее явственно. Кулак Никола увеличил правый глаз Туминьона до чудовищных размеров. Глаз сделался выпуклым и совсем походил бы на жабий, если б не стал фиолетовым и не был закрыт. На нижней челюсти Туминьона недоставало трёх зубов. Нет, не зубов, а всего лишь трёх корешков с зеленоватым налётом подле десны, похожих на старые сваи, долгое время стоявшие в цвелой воде. Так что в этом отношении ущерб был не так уж велик. Больше того, он был даже полезен: Никола выбил из лунок остатки зубных корней, на которые дантист, рано или поздно, наложил бы свои щипцы. К этому следует присовокупить трещину коленной чашечки и следы удушения на шее. Новый костюм Туминьона пострадал не менее основательно. После того как его починят, он будет пригоден только для будних дней. Но в «Галери божолез» был отдел готового платья, где Туминьон обмундировывал себя задешёво по оптовой цене. Так что потери были для него не слишком чувствительны.
В Клошмерле мнения разделились. Одни приписывали всю вину Туминьону, другие Никола. Но, в общем и целом, все восхищались первым, который так удачно выкрутился из неравного боя, где его 63 килограмма противостояли 80-ти с лишним килограммам Никола. Всех удивляла столь большая сила в таком маленьком теле. Всё дело в том, что эти люди судили крайне поверхностно, без учёта морального фактора. Швейцар Никола защищал в сражении только своё тщеславие, так как красота г-жи Никола не считалась предметом для спора. Г-жа Никола принадлежала к числу таких женщин, о которых говорят в прошедшем времени: «Она была свеженькой», хотя в те времена, когда она действительно была свеженькой, никто этого не замечал. Когда же эта свежесть улетучилась, г-жа Никола окончательно приобщилась к скромному легиону дурнушек, чья благонравность не ставилась под сомнение. Будучи безупречными, они не жалели времени, наблюдая за сомнительной добродетелью определённых женщин и осуждая (иногда преждевременно) их падение.
Напротив, Туминьон, сражаясь, имел могучий стимул для соревнования: владея такой женщиной, как Жюдит, доставлявшей ему постоянные заботы, он был обречён на оскорбления, внушённые завистью. Он бился за честь самой прекрасной, а стало быть, и самой подозреваемой женщины во всём Клошмерле. Отсюда подлинная отвага, которую он проявил в этом деле, отвага, впрочем, подготовленная бесчисленными ночными и утренними возлияниями. Хилый и трусоватый Франсуа Туминьон относился к таким злюкам, которые могут стать героями, когда у них хмель на усах.
И ещё одна деталь, достойная упоминания. Несмотря на энергичные поиски, так и не удалось отыскать те шесть двуфранковых монет, что лежали в числе других на церковном подносе для поощрения верующих. Пропали задарма целые двенадцать франков из сбережений кюре Поносса, что было чувствительной потерей для его скромных доходов: клошмерляне вообще, а особенно верующие, по правде говоря, были скуповаты (щедрыми были только расточители, которые усердно посещали Адель и никогда не ходили в церковь). Но всё это, разумеется, ещё не делает исчезновение шести монет серьёзным событием. Налицо было другое обстоятельство, печальное и тревожное: пропажа породила подозрительность в достойнейшем стане, столь едином на первый взгляд – в стане набожных женщин. Некоторые из них за глаза обвиняли друг друга в присвоении денег. Сразу же заметим, что несколько дней спустя одно частное начинание даст новый повод к клевете. Разве могла упустить удобный случай некая Клементина Шавень, соперничавшая в благочестии с Жюстиной Пюте (что сделало их тайными врагами)? Разве могла она удержаться и не подать кюре Поноссу мысль о подписке, предназначенной для покупки нового святого Роха? К тому же сама она подписалась во главе листа на целые восемь франков. Впервые побеждённая на почве благочестивой изобретательности, Жюстина Пюте будет ядовито хихикать, бросая вызов своей конкурентке. Отношения между обеими девами сделаются такими натянутыми, что Клементина Шавень скажет:
– Что до меня, мадемуазель, то я не лезу посреди церкви на стул, чтобы обратить на себя внимание. Я, мадемуазель, довольствуюсь тем, что отдаю свои деньги, лишая себя многого.
Ответные реакции Жюстины Пюте всегда были крайне опасны. Она и на этот раз ответила ядовито:
– А может быть, мадемуазель, вам стоило только нагнуться, чтобы подобрать эти деньги?
– Что вы хотите этим сказать, мадемуазель завистница?
– А то, что нужно иметь идеально чистую совесть, когда берёшься учить других, мадемуазель воровка!
И обе старые девы примутся бегать по очереди к кюре Поноссу и изливать у него на груди свои обиды. Это добавит изрядную порцию хлопот клошмерльскому кюре, который и так разрывается надвое между Церковью и Республикой, между консерваторами и левыми (кстати, не меньшими консерваторами, так как почти все клошмерляне в той или иной степени являются собственниками, а те, кто собственности не имеет, не проявляют к общественной жизни никакого интереса). Кюре Поносс, у которого от всей этой истории голова идёт кругом, пригрозит враждующим сёстрам во Христе лишить их отпущения грехов. Только это и заставит их помириться. Они приблизятся друг к другу со словами, приготовленными заранее и призванными опровергнуть прежние оскорбительные речи. Но пламя их взоров подтвердит все, что было ими сказано раньше. В день скандала пышным цветом распустятся бутоны ненависти, скрытые в обеих девах. Позднее Жюстина Пюте скажет, что Клементина Шавень воняет дохлой крысой. И она не солжёт: её обоняние действительно будет ощущать этот запах от одного вида ненавистной соперницы, чья идея подписки имела немалый успех.
Услужливо осведомлённая о том, что говорит о ней Жюстина Пюте, Клементина Шавень расскажет под величайшим секретом о более чем двусмысленной беседе, за которой она застала в ризнице звонаря Куафнава и Жюстину. По её словам, последняя, пользуясь полной глухотой Куафнава, с горящими глазами говорила ему умопомрачительные мерзости. В этой беседе Жюстина Пюте якобы дала полную волю своим извращённым инстинктам, о коих Клементина Шавень давно догадывалась. Воздев к небесам полные ужаса очи и склонившись к уху своей наперсницы, проницательная дева прошепчет:
– Я ничуть не удивлюсь, если окажется, что Пютешка расставляет сети господину кюре…
– Что вы говорите, дорогая мадемуазель! – воскликнула собеседница, томительно содрогаясь.
– Разве вы не видели, как она бегает за ним по пятам? А её взгляд, когда она с ним говорит? Эта Пюте – властолюбица, вдохновляемая адом, лицемерка, скрывающая свои подлые страстишки под маской благочестия. Она мне внушает ужас.
– К счастью, господин кюре – святой человек…
– Это верно, дорогая мадемуазель: он поистине святой. Именно поэтому он не видит коварства за обезьяньими ужимками Пюте. А известно ли вам, сколько времени провела она однажды в исповедальне! Тридцать восемь минут, дорогая мадемуазель! Разве у честной девушки наберётся грехов на тридцать восемь минут? О чём же она говорила с господином кюре? Я могу вам это сказать, моя дорогая мадемуазель: она восстанавливала его против нас. Знаете, по мне, лучше уж такая тварь, как распутница Туминьон. Вы мне скажете, что она одержимая дьяволом сучка и что на грязный запах её юбок сбегается вся округа? Но с подобными женщинами знаешь хотя бы, как себя вести. Они, по крайней мере, не двуличны.
Из всего этого видно, каково было положение вещей в первые минуты после скандала. Люди ещё не пришли в себя от изумления. И у той, и у другой стороны уже были сторонники первого призыва – люди, примкнувшие с закрытыми глазами к партии кюре или к партии мэра. Но мнение колеблющейся массы обывателей было обусловлено соображениями, особыми для каждого индивида. Нужно немало размышлений и бесед, чтобы выбрать ту или иную позицию. Мотивы предпочтений были не всегда очевидны и не всегда таковы, чтобы в них удобно было сознаться. Зависть была начеку. Впоследствии она подспудно посеет вражду даже в стане богомолок.
Но кто же всё-таки победитель: Никола или Туминьон? Пока ещё трудно прийти к определённому мнению. Решение будет зависеть от числа перевязок и сроков инвалидности у обоих забияк.
Возникал вопрос, важный и чрезвычайно волнующий: кто должен возместить ущерб? «Вне всякого сомнения, Туминьон», – заявляет церковная партия, утверждающая, что смертельный удар святому Роху был нанесён супругом Жюдит (который, кстати сказать, открещивался вовсю от этого обвинения). А хотя бы и так! Эрнест Тафардель внёс полную ясность в дебаты. Он попросил описать в малейших деталях событие в церкви и заставил повторить все ругательства.
– Вы говорите «рогоносцем»? Никола назвал Туминьона рогоносцем?
– И не раз! – ответили Торбайон, Ларудель и другие.
Все были свидетелями того, как Тафардель снял в знак торжества свою знаменитую панаму и отвесил глубокий поклон в сторону опустевшей церкви, бросая перчатку последним приспешникам обскурантизма.
– Предупреждаю вас, господа Лойолы: скоро мы будем веселиться!
По мнению Тафарделя, клошмерльского эрудита, публично употреблённый термин «рогоносец» являлся диффамацией, способной нанести серьёзный ущерб репутации и супружеской жизни оскорблённого. Следовательно, супруги Туминьон имели полное право потребовать от швейцара Никола возмещения всех убытков. Попробуй только церковь поднять дело об увечье святого Роха – и Туминьон должен будет начать процесс.
– Вы найдёте, с кем поговорить, господин Поносс! – сказал Тафардель на прощанье.
Затем он возвернулся на высоты мэрии, чтобы немедленно взяться за работу. Инцидент в церкви должен был снабдить его сенсационным материалом на две колонки в «Пробуждении винодела», газетки, издающейся в Бельвиле-на-Соне. Прочитав эти гневные строки, обыватели с возмущением узнают о том, как наймиты католической церкви едва не довели до развода и, быть может, до преступления на любовной почве добропорядочную чету клошмерльских коммерсантов.
– Ну и ну! …
* * *
Вы обратили внимание на любопытное обстоятельство? В то время как весь Клошмерль охвачен волнением, один-единственный человек остаётся невидимым и неуловимым: это Бартелеми Пьешю, мэр городка. Этот расчётливый и предусмотрительный политик, положивший своим писсуаром начало всему скандалу, понимал высокую ценность молчания и отсутствия. Он предоставил людям простодушным и импульсивным идти вперёд и компрометировать друг друга. Он предоставил краснобаям болтать, ожидая, пока всплывут на океане бесплодных словес выгодные ему обломки истины. Он молчал, наблюдая, размышлял, взвешивая все «за» и «против», прежде чем сделать очередной ход клошмерлянами как пешками на шахматной доске своего честолюбия.
У Бартелеми Пьешю были далеко идущие планы. У него была цель, о которой знала только Ноэми Пьешю, его супруга. Но эта особа была могилой и несгораемым шкафом, величайшей скопидомкой и самой лицемерной женщиной во всём Клошмерле. Это её делало самой полезной женой, какую только могло послать Провидение мэру городка, где так много баламутов и драчунов. Ноэми умела дать хороший совет. Она была похожа на скаредного муравья, никогда не устающего накоплять. Иногда она даже заходила слишком далеко, её приходилось удерживать, так как она совершала ошибки в расчётах из-за того, что была чрезмерно расчётлива. Она всегда готова была рассорить два семейства, чтобы выгадать какой-нибудь грош, спозаранку соскочить с постели, чтобы понаблюдать за служанкой. Эта женщина остервенело эксплуатировала чужой труд, она считала себя удовлетворённой лишь тогда, когда на неё работали до последней капли пота. Она гналась за немедленной выгодой – в этом заключался её единственный недостаток. Но женщина с подобным недостатком могла бы обогатить любого неудачника, разорённого мотовством. Пьешю не приходилось постоянно приглядывать за всем. Он мог часто отлучаться, чтобы вести те или иные дела, вполне полагаясь на хозяйничанье жены. Это было столь суровое хозяйничанье, что люди нередко приходили к нему, чтобы пожаловаться на жесткость его супруги.
Мэр всегда готов был пойти на маленькие уступки, так как знал, что всё равно ничего не потеряет. Благодаря этим уступкам, он пользовался славой человека сговорчивого и лишённого чванства. Он не был «свиньёй» с маленькими людьми. Отличную репутацию ему доставила его манера говорить, слегка пожимая плечами: «Таковы женщины… Вы же их знаете…»
Обычно о Пьешю толковали так: «Если бы не его жена…» Итак, благодаря своей супруге, Бартелеми Пьешю удачно вёл свои дела и имел прекрасную репутацию.
Ещё одно преимущество Ноэми: она была совсем не ревнива. Эта женщина совершенно не интересовалась интимной стороной жизни, играющей столь важную роль в других семействах. Г-жа Пьешю никогда не получала от этого удовольствия. На первых порах после бракосочетания ей просто хотелось всё узнать. Сначала она руководствовалась любопытством, потом тщеславием и, наконец, жадностью, в соответствии со своим характером: поскольку она была богата и вышла замуж за Бартелеми Пьешю, единственным достоянием которого была привлекательная внешность, она не желала быть околпаченной. Но она должна была признать, что Бартелеми честно выполнял условия сделки. Может быть, он и женился на ней из-за её франков, но эти деньги он полностью отрабатывал (особенно вначале). И это следует поставить ему в заслугу, так как Ноэми, не знавшая наслаждения, естественно, не умела его и доставлять. Однако в течение нескольких лет ей казалось необходимым регулярно снимать прибыль со своего приданого. Она это делала вплоть до того времени, когда у неё родились Гюстав и Франсина, после чего она убедила Пьешю оставить её в покое. Она ему заявила, что слишком занята по дому – со слугами, детьми, кухней, счетами и стиркой, чтобы отрывать время от сна на глупости, известные ей наизусть. Она дала понять, что предоставляет ему полную свободу на тот случай, если повстречаются особы, которым «это может доставить удовольствие». «Хоть от этой работы избавлюсь!» – И она принялась усердно посещать церковь. Скупость её продолжала расти. В этом заключалась вся её отрада.
Снятие брачной ипотеки было крайне выгодно для Пьешю. Его жена всегда была сухопарой и малопривлекательной клячей, которую он с радостью оставил бы в каком-нибудь закоулке, если бы не обладал сильно развитым чувством долга. После родов телесная скудость Ноэми стала просто убийственной. И такой работяга, как Пьешю, в конце концов, стал избегать супружеских трудов, а если и приступал к ним, то только после долгих колебаний. Он оценил преимущества праздных ночей, оставлявших нетронутыми солидные запасы энергии. Пьешю всегда интересовал женщин. По мере того как он начинал стареть, общественное положение стало приносить ему выгоду, которой лишал возраст. У Бартелеми Пьешю, сначала муниципального советника, а потом мэра, всегда было достаточно удобных оказий. Если же Пьешю внезапно оказывался с пустыми руками, он снова набрасывался на жену. «Когда ты, наконец, оставишь свои повадки!» – говорила ему Ноэми с такой холодностью, что нужна была слепая горячность юных лет, чтобы настоять на своём.
Задолго до того времени, о котором идёт речь, Бартелеми Пьешю научился избегать опрометчивых решений и даже в любовные дела привносил дух осмотрительности, составлявший его силу во всех начинаниях. С давних пор он смотрел на жену как на своего интенданта и иногда компаньона. Но Ноэми всегда требовала, чтобы у них была общая кровать. Она видела в этом супружескую привилегию, отличающую её от случайных женщин, которыми мог воспользоваться её супруг. Она считала это соседство очень удобным для обсуждения всевозможных планов в долгие зимние ночи. И, наконец, совместное спаньё очень удачно заменяло комнатную печку. Похвальная экономия.
Однако пора открыть грандиозный план Бартелеми Пьешю: через три года он собирался стать сенатором, заменив Проспера Луэша, о котором говорили в осведомлённых кругах как о человеке, заметно впадающем в детство. Ослабление интеллекта не было бы серьёзным препятствием для возобновления депутатского мандата, если бы не стали известны скандальные похождения сенатора. Старичок интересовался малютками, – это был благодушный, но отнюдь не филантропический интерес; сенатора приходилось периодически помещать в частные лечебницы, чтобы спасти от бурного возмущения иных несговорчивых родителей, которые требовали от него немалых сумм в компенсацию за утраченное неведение своих несовершеннолетних дочерей, попавших в поле зрения господина Луэша, страдающего эксгибиционизмом.
И эти деяния, до сих пор полускрытые, грозили нанести значительный ущерб партии.
Разумеется, Проспер Луэш мог бы пролепетать, что его почтенный коллега господин де Вильпуй заполняет свои сенаторские досуги такими же утехами. Но господин де Вильпуй был человеком правых убеждений, некогда его воспитывали иезуиты, и он до сих пор имел среди них весьма влиятельных знакомых. Видный католик, он, бесспорно, стоял в первых рядах благонамеренных людей своего времени, – репутация, предоставляющая ему значительные возможности для маленьких прегрешений. А его противник в политике и верный компаньон в проказах, скрашивающих старость, Проспер Луэш, к несчастью, в молодости снискал известность своими прогрессивными взглядами и реформаторским пылом. Впоследствии он дал утешительные доказательства своей эволюции; сначала стал домогаться чисто буржуазных почестей, затем проявил в Бордо в 1914 году пламенный патриотизм и, наконец, заявил с трибуны Сената, что война должна вестись с неослабевающей силой до победного конца. И тем не менее он сохранил множество врагов. Поскольку никто не мог с достаточными основаниями поставить под сомнение его честность, было решено придраться к его нравственности. О его подвигах правые узнали от господина де Вильпуй. Не желая повредить старому приятелю, этот важный сановник, уверенный в своей безнаказанности, однажды проговорил аристократически гнусавым голосом: «Странное дело, мы с Луэшем люди различных убеждений, но одинаковых вкусов: мы любим слегка зеленоватые плоды. В наши годы это немного молодит! Но должен признаться, друг мой, что Луэш в этой области прибегает к весьма любопытным приёмам… Очаровательное ребячество, мой милый! Наш собрат всегда был новатором. Это проявляется во всём!» Короче говоря, было необходимо ускорить отставку Луэша, чтобы избежать скверной истории. Бартелеми Пьешю всё это прекрасно знал. Он маневрировал. Он уже приобрёл покровителей и рассчитывал сделать таковым и Бурдийя, и Фокара, собиравшихся снова приехать в Клошмерль, и на этот раз уже порознь.
Став сенатором, Пьешю рассчитывал выдать замуж свою дочь Франсину, которой уже исполнилось шестнадцать лет. Она была красивой девушкой, образованной и с манерами, пригодными для любого салона (за эти манеры заплатили немало, да к тому же ещё монашкам). Он присмотрел для своей дочери Гонфалонов де Бек де Блазе, старую дворянскую семью, финансы которой выглядели ещё хуже, чем фасад их замка, имевшего всё же весьма внушительный вид на своём холме, в глубине прекрасного французского парка с двухсотлетними деревьями. Эти Гонфалоны де Бек были людьми спесивыми, но их состояние настоятельно требовало новой позолоты. Их двадцатилетний сын Гаэтан через три-четыре года как раз подойдёт Франсине. Правда, говорят, что он немного придурковат и ни на что не пригоден. Что ж, тем лучше: Франсина сможет держать его в руках (было уже очевидно, что она станет женщиной с цепкой хваткой, берегущей копейку и к тому же необразованней, чем её матушка). Выйдя замуж за Гаэтана и имея состояние и титул, Франсина будет на равной ноге с Куртебишами и Сен-Шулями и станет повыше, чем Жиродо. А он, Пьешю, заручится политической поддержкой местного дворянства. Сдвинув на затылок шляпу и опершись локтями о стол, Бартелеми Пьешю размышлял обо всём этом, медленно пережёвывая пищу. Нужно сделать так, чтобы писсуар и сраженье в церкви способствовали успеху его планов. Вокруг Пьешю теснились домочадцы, подавляя любопытство и благоговея перед его молчанием. И всё-таки, когда он кончил есть, Ноэми спросила:
– Так что тебе даст эта история в церкви?
– Пусть пока всё идёт своим чередом! – ответил Пьешю, поднявшись и направляясь в свою комнату, где он любил покурить трубку, погрузившись в глубокие размышления.
Ноэми сказала детям:
– Он уже всё обмозговал.