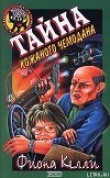Текст книги "Клошмерль"
Автор книги: Габриэль Шевалье
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
15
ВЕТЕР БЕЗУМИЯ
(Продолжение)
Итак, бесчисленные события шли ускоренным маршем. Они опаснейшим образом переплетались, потрясали благополучие многих семейств и ниспровергали старые испытанные обычаи, составлявшие в течение трёх четвертей века счастье Клошмерля. А в это время некое сердце, нетронутое и наивное, испепелялось любовью, которой, в конце концов, предстояло полностью воцариться в нём. Об этом триумфе любви будут много судачить, ибо сердце это билось в груди у девушки, предназначенной своим социальным рангом для высокого удела. К несчастью, сердца юных девушек из хороших семей не имеют права любить просто и открыто; они не могут полюбить незнатного человека, как это делают сердца девушек низкого происхождения, влекущие их обладательниц куда заблагорассудится (что отнюдь не ведёт к мезальянсам или перемещениям капиталов).
Приглядимся внимательнее к нежному девичьему личику, свеженькому и невероятно стыдливому. На нём ежеминутно сменяют друг друга живость и меланхолия, свойственные юному возрасту, бурная восторженность и горькое уныние – и всё это непосредственно и неподдельно. Обворожительное всегда и несмотря ни на что, оно изменчиво, как небо, но отблески горечи и надежды, грациозно сменяя друг друга, сопровождаются нежным сиянием, сразу же выдающим людей, созданных для беззаветной любви. Эти люди, сами того не ведая, носят в себе смиренную и страшную покорность, способную толкнуть на отчаянное бунтарство. Призвание овладевает такими людьми очень рано, едва на горизонте появляется существо, к которому их приводит безошибочное чутьё, привязывая на всю жизнь. Всё это можно отнести к двадцатилетней Ортанс Жиродо, влюблённой до безумия. Многое привлекало в её цветущей многообещающей красоте, в которой каждый раз открывалась какая-то новая грань.
Было поистине удивительным, что эта замечательная красота и пылкое сердце зародилось на подобной почве: ведь при одной мысли о супружеских отношениях четы Жиродо всякая любовь казалась мерзостью, поганящей человеческий род. Почтенная г-жа Жиродо (урождённая Филиппина Тапак, из семейства Тапак-Донделей, богатых лионских бакалейщиков) безмерно кичилась своим происхождением, своими привилегиями, своим приданым, своим талантом к музыке и художеству, фамильными портретами в своей гостиной. У этой заносчивой женщины уже с тридцати лет лицо было покрыто красными пятнами из-за неизлечимого несварения, у неё были скверное зрение, редкие сухие волосы, растительность под носом и на подбородке, шероховатая кожа, большие ноги и рот, столь же привлекательный, как тюремный волчок. Суровая худоба этой сухопарой дамы приводила в уныние, исключая самую мысль о любовных посягательствах и обескураживая даже притязания законного супруга.
Она была выше своего смехотворного сообщника по браку почти на целую голову. Господин нотариус отличался жалкими размерами: у него были тонкие и кривые ножки, узкая грудь, и всё его величие покоилось на внушительном животе, который производил странное впечатление на подобном теле и больше походил на огромный нарыв, чем на вместилище внутренних органов. Его длинный заострённый нос так и тянуло ко всему зловонному, и кончик носа, почуяв желанный запах, вздрагивал от садистического сладострастия. Его лицо, тусклое и слащавое, казалось вылепленным из какой-то вязкой массы. Шея вливалась дряблыми складками в парадный пристежной воротничок и напоминала серую шкуру толстокожего животного. Жёлтые и подёрнутые беловатой влагой глаза были колючи и лживы, они глядели на мир с леденящей зоркостью, выявляя в вещах и людях всё, что из них можно выкачать. Неодолимое сребролюбие заменяло господину Жиродо характер и определяло линию его поведения. Для того, чтобы легко и благопристойно потрошить людей, существуют законы, которыми ловко оперируют почтенные негодяи.
Нотариус Жиродо знал все законы в совершенстве. У него всегда были наготове параграфы, побивающие друг друга, и он умел мастерски запутать любого клиента в противоречиях, которыми кишмя кишат статьи Уложений. Так что всякий эксперт, пожелавший разобраться в его бумагах, был бы тотчас же поставлен в тупик.
Мы не в состоянии объяснить, каким образом чистая и очаровательная Ортанс могла родиться у этих двух чудовищ, безобразие коих усугублялось, в одном случае, претенциозной буржуазной глупостью, а в другом – респектабельным плутовством. Вероятно, всё это объясняется причудливой фантазией атомов, неким реваншем жизнетворных клеток, которые слишком долго были жертвами нечестивых соитий и, устав создавать омерзительных Жиродо, расцвели в одно прекрасное утро, чтобы создать Жиродо великолепную. Эти таинственные чередования составляют закон равновесия, мешающий миру окончательно погрязнуть в низости. На навозе полного вырождения, корыстолюбия и самых низких человеческих инстинктов иногда произрастают восхитительные побеги.
Ортанс Жиродо не знала, как не знали люди, её окружающие, что она была одним из тех редких шедевров, которые природа иногда создаёт среди отвратительной толпы, так же как создаёт радугу, в знак своей необъяснимой симпатии к нашей злополучной породе. Никто не сравнивал красоту Ортанс Жиродо и Жюдит Туминьон. Никто не считал, что они могут соперничать в обольстительности, ибо у каждой из них было своё поле деятельности и причины их славы были совершенно различными.
Каждая из них воплощала в себе один из моментов жизни женщины: Ортанс была рождена, чтобы достичь своего апогея как девушка и невеста, а Жюдит некогда миновала без задержки девичество и перешла к устойчивому и царственному цветению, столь сильно поражающему воображение мужчин. Яркая, полнокровная красота Жюдит неминуемо взывала к чувственности, не признавая никаких сентиментальных околичностей, тогда как неброская красота Ортанс требовала выдержки и духовного общения. Одна из них сразу же вызывала мысль о циничной и обольстительной наготе, тогда как в натуре другой было нечто такое, что препятствовало полёту бесстыжего воображения.
Эти сравнения лучше всего прочего обрисовывают юную Ортанс Жиродо. Представьте себе мечтательную девушку, гибкую, ещё тоненькую, но уже налитую упругой плотью, – девушку с доверчивой улыбкой на устах и копной тёмно-каштановых волос. (Этот цвет спасал её от хрупкости, свойственной блондинкам, и заносчивой грубоватости брюнеток.) Итак, она любила.
Она любила молодого поэта, по имени Дени Помье, весельчака, восторженного юношу и одновременно лентяя и фантазёра, приводившего в отчаяние своих родителей (как водится у молодых поэтов, артистов и гениев, далёких ещё от признания). Время от времени этот молодой человек печатал в недолговечных журнальчиках причудливые поэмы, интересные главным образом крайне странным расположением строф. Он и не пытался это отрицать, говоря, что пишет для глаз, и мечтал основать школу суггестивистов.[22]22
От фр. suggestion – намёк.
[Закрыть] Впрочем, вскоре он изменил свои позиции, ибо понял, что поэзия – далеко не лучшее средство воздействия на толпу. Он обладал честолюбием, юношеским пылом, большой силой убеждения, немалой самоуверенностью и умел нравиться женщинам. В ранней юности он задумал добиться известности к двадцати пяти годам, но, достигнув этого возраста, решил дать себе отсрочку ещё на пять лет. Дени Помье считал, что человек, не завоевавший славы к тридцати годам, не имеет ни малейшего основания задерживаться в этом мире. Исходя из этого принципа, он решил продвигаться всем фронтом и одновременно приступил к эпическому роману в энное число томов, к стихотворной трагедии в новаторском жанре и трём комедиям.
Наш поэт намеревался создать также несколько детективов, чтобы отдохнуть от серьёзной работы. Но он считал, что этот литературный жанр требует применения диктофона, аппарата, для покупки которого нужна была солидная сумма денег. Дени Помье проявил поразительную интеллектуальную активность. На обложках нескольких тетрадей он начертал заголовки разнообразных произведений, после чего отправился блуждать по полям, ожидая часа, когда его осенит вдохновение. Он полагал, что произведение искусства должно писаться под диктовку богов, почти без помарок и без всяких усилий, ибо таковые могут только испортить существо творения.
Полтора года тому назад Дени Помье покинул Лион, где он долгое время пребывал под предлогом учёбы, и расположился в Клошмерле. Здесь, ссылаясь на литературные занятия, он поселился у родителей, которые считали его лишним ртом и никчёмным человеком, позорящим фамилию трудолюбивых мелких буржуа. У него было достаточно досуга, чтобы сблизиться с юной Ортанс Жиро до и покорить её своими поэтическими посланиями, каковые живейшим образом действовали на её восприимчивую натуру.
Мы не станем детально описывать всех ухищрений, изобретённых Дени и Ортанс для того, чтобы переписываться и встречаться. Самая неискушённая девушка обнаруживает бездну изобретательности, когда какой-нибудь воздыхатель овладевает её мыслями. Дома Ортанс несколько раз умышленно упоминала имя Дени Помье. Возмущение всего семейства убедило Ортанс в том, что не может быть ни малейшей надежды на родительское благословение. К тому же вскоре домашние стали её убеждать выйти замуж за сына одного из друзей Жиродо-отца. Это был Гюстав Лагаш, коего нотариус Жиродо собирался воспитать по-своему, ибо видел в нём своего возможного сотрудника. В отчаянии Ортанс Жиродо поведала о своей беде тому, кого она почитала своим женихом.
Всё казалось простым для этого пиита, ведь он был накоротке с богами и запросто общался с музами: Дени Помье чувствовал себя хозяином своей судьбы и не сомневался, что ему уготована великая участь. Его родители заявили, что готовы пожертвовать десяток тысяч франков, чтобы он попытал счастье в Париже и больше никогда не напоминал им о себе. Эти десять тысяч франков, соединённые с кое-какими драгоценностями, раздобытыми Ортанс, казались ему достаточной суммой на первые расходы в той авантюре, которую он воображал сказочной дорогой к славе.
Он решил увезти Ортанс и поборол её последние возражения, неожиданно похитив её невинность в тот момент, когда она пребывала в состоянии сладостного экстаза, лишившего её всякой возможности сопротивляться. (Дени Помье довёл её до такого состояния тщательно подобранными романами об упоительной страсти.) Это произошло на лоне природы в один прекрасный день, когда дочь нотариуса шла на занятия музыкой в Вильфранш. Всё свершилось в одно мгновение. Слишком доверчивая, Ортанс была сделана женщиной с быстротой, не оставлявшей времени для опасений. Она даже не успела выпустить из пальцев ремешок своей нотной папки. И поскольку всё было уже непоправимо и запоздалая стыдливость не дала бы никакого эффекта, Ортанс Жиродо примирилась со свершившимся фактом и влюблённо склонила головку на плечо Дени Помье. Последний, смеясь, уверял её, что чувствует себя очень счастливым и гордым. В награду он продекламировал ей свою последнюю поэму. А затем он заверил Ортанс, что подобная бесцеремонность соответствует олимпийской традиции, наилучшей традиции для поэтов и их возлюбленных, которые не могут поступать так же, как простые смертные. Ортанс так хотелось ему верить, что она и впрямь слепо поверила этим заверениям, чем не преминул снова воспользоваться пройдоха Помье. При этом он мило заявил, что хочет «убедиться в том, что он не грезит». Ортанс, теряя голову, в свою очередь спрашивала себя – не грезит ли она сама.
Несколько позже, одиноко возвращаясь домой, она удивлялась девичье судьбе, которая порою оборачивается так неожиданно. Она поражалась тому что иные девушки так внезапно открывают тайну, которую их матери называют ужасной. Отныне она поняла, что её судьба навсегда связана с отважным пионером её плоти, умеющим с подкупающей беззаботностью брать на себя всю ответственность. И потом отвечать за последствия. Ей было достаточно его приказа или даже простого жеста, чтобы следовать за ним на край света.
Однажды, сентябрьской ночью, верхний город проснулся от выстрела. За ним тотчас же последовал треск мотоцикла, с бешеным рёвом сорвавшегося с места. Люди, успевшие приоткрыть ставни, увидели, как по главной улице, извергая языки пламени, отважно промчался мотоцикл с коляской. Его треск долго ещё отдавался эхом в долине. Несколько смельчаков, вооружившись охотничьими ружьями, отправились на разведку. Они увидели в доме нотариуса свет, и им показалось, что оттуда доносится какой-то шумок. Они крикнули:
– Господин Жиродо, это вы пульнули?
– Кто там, кто там? – ответил голос, изменившийся от волнения.
– Не бойтесь, господин Жиродо! Это мы: Босолей, Машавуан и Пуапанель! Что случилось?
– Ах, это вы, друзья мои, это вы? – ответил Жиродо с необычайной для него любезностью. – Сейчас я вам открою.
Нотариус Жиродо принял их в столовой. Его смятение было так велико, что он наполнил их стаканы фронтиньяном, опустошив три четверти бутылки, предназначенной для почётных гостей. Жиродо рассказал им, что во дворе вдруг заскрипел гравий и он явственно увидел, как неподалёку от дома мелькнула чья-то тень. Но едва он успел надеть халат и схватить ружьё, как тень исчезла. Никто не ответил на его оклик, и он выстрелил наудачу. Он не сомневался, что это были воры. Мысль о ворах постоянно нарушала ночное отдохновение господина Жиродо, так как в его сейфе всегда были заперты солидные суммы.
– Теперь развелось столько негодяев! – сказал он.
Он думал о солдатах, набравшихся на войне опасных настроений. Особенно его беспокоила мысль об инвалидах войны, которым правительство выплачивает пенсию, оставляя им достаточно свободного времени для замышления преступных проделок.
– Не думаю, чтоб это были воры, – ответил Босолей. – Скорей уж мелкие жулики. Ведь в вашем саду самые лучшие груши в Клошмерле. Они соблазнят хоть кого.
– Садовник обходится слишком дорого, – ответил Жиродо. – Никто теперь не берётся за это ремесло. А у тех, кто предлагает свои услуги, такие аппетиты…
Он печально покачал головой и добавил с тоской в голосе:
– Теперь все богачи!
– Не жалуйтесь, господин Жиродо! Ведь вы своё получили, не так ли?
– Знаю, знаю, в городе так считают. На самом деле всё обстоит иначе. Ведь только потому, что у меня мало-мальски приличный дом, предполагают… Это-то и привлекает воров.
– А по-моему, – сказал Пуапанель, – это скорей всего приходили чёртовы стервецы из Монтежура…
– Скорее всего да, – согласился Машавуан. – Нужно будет ещё вздуть пятерых или шестерых.
Вдруг послышался душераздирающий крик. Дверь внезапно распахнулась, и на пороге появилась г-жа Жиродо. Почтенная дама была одета в ночное одеяние добропорядочных женщин из семейства Тапак-Донделей, кичившихся тем, что они никогда не кокетничают ни с кем, включая собственного супруга. Папильотки комичнейшим образом украшали её угловатое лицо, ночная кофточка прикрывала плоский бюст, несвежая юбка облекала унылые бёдра. В эту минуту она была мертвенно-бледна, и ужас только увеличивал её безобразие.
– В Ортанс! – кричала она. – Это в Ортанс ты… Увидев посторонних, она умолкла.
– В Ортанс? – замирающим эхом повторил остолбеневший Жиродо и тут же замолк в оцепенении.
Приятели сразу почуяли тайну, которую им предстояло узнать первыми, что было редчайшей удачей. Они сгорали от желания узнать побольше. Машавуан немедля забросил удочку:
– А может, вышло так, что мамзель Ортанс вышла вниз прогуляться? Бывает, что девицы на возрасте не могут заснуть, потому как у них в голове разные мыслишки… Насчёт того, что пришёл, мол, и их черёд… и у нас ведь такое было. Не так ли, мадам? Так что, может, это была ваша барышня?
– Она спит, – твёрдо заявил Жиродо, который никогда не терял хладнокровия. – Ну, друзья, пора на покой. Спасибо, что зашли. – И он проводил недовольных пришельцев до калитки.
– Я всё-таки составлю рапорт, господин Жиродо! – предложил Босолей.
– Нет, Босолей, не стоит, – живо возразил нотариус. – Посмотрим завтра, не осталось ли следов. Не будем придавать этому делу значения… В сущности, может быть, ничего и не произошло.
Это осторожное замечание усилило их подозрения и неприязнь. В тот момент, когда они уходили, Машавуан отомстил нотариусу, проронив:
– Ей-богу, если б тот мотоцикл, что так чертовски трещал, увозил бы какое сокровище, и то бы он не выплюнул столько огня!
– Да, такую штуку можно увидеть только в кино! – добавил Пуапанель.
Их обидные комментарии затерялись в ночной тишине. Вне всякого сомнения, трусливый Жиродо выстрелил в свою дочь. Но, к счастью, в противоположную сторону. Этот бумагомарака не имел ни малейшего понятия об обращении с огнестрельным оружием: ему сподручней убивать людей с помощью гербовой бумаги. Но, хотя пуля его и не попала в дочь, она угодила прямёхонько в репутацию семейства Жиродо, уже и без того сильно подпорченную. Ночной переполох привлёк всеобщее внимание к дому господина Жиродо и исчезновению Ортанс. Оно совпадало с исчезновением Дени Помье, владельца американского мотоцикла – машины, которую больше не видели в городке. Прежде чем покончить с этой историей, забавно будет отметить, что в то самое время, когда пройдоха Рауль обольщал бедную Мари Фуйаве, другой злонамеренный ловкач обхаживал его сестру. Общественное мнение не преминуло отметить это обстоятельство:
– Да, Жиродо здорово поплатились!
Впрочем, наказание постигло только тех Жиродо, которые оставались в Клошмерле. Что же касается юной Ортанс, то она, безумно счастливая, катила по направлению к Парижу на трескучем мотоцикле, который ежечасно останавливался для поцелуев и объятий, лишающих её рассудка. Невзирая на скорость, она глядела не отрываясь на Дени Помье, чувствовавшего себя абсолютно счастливым, когда спидометр мотоцикла показывал сто километров в час. Ведомый пылким поэтом, на стороне которого была сама любовь, мотоцикл казался некой поэтической колесницей.
* * *
В безмятежности природы есть нечто неумолимое, подавляющее человека. Блистательное чередование времён года, не принимающее в расчёт людские дрязги, бесит человеческий род, ибо природа внушает людям сознание собственной слабости и недолговечности. В то время как множество живых существ с ненавистью перегрызает друг другу глотки, равнодушная природа по-прежнему сияет над этими мерзостями. А когда волшебство прекрасного вечера или ослепительного утра склоняет врагов к недолгим передышкам, сразу становится предельно ясной вся смехотворность людского исступления. Бесконечно много умиротворяющей красоты пропадает впустую. Больше того, эта красота заставляет людей усиленно безумствовать, потому что они боятся исчезнуть из этого мира, не оставив после себя никаких следов. А самыми яркими и долговечными следами представляются им разрушения. И чем они больше – тем лучше.
Именно так и подействовала природа, с её красками, изобилием, теплотой, цветами и безоблачной лазурью, на наших клошмерлян. В зимние месяцы они вели бы себя спокойно: сидели бы запершись в тёплых домах, тешились бы семейными распрями да завидовали соседям. Но этим летом, когда погода гнала людей на улицу и заставляла держать широко открытыми двери и окна, казалось, даже воздух кишмя кишел слухами. Плевелы сплетен, рассеянные по всему городу, бурно прорастали в перегретых головах, которые действовали как перегонные кубы, перерабатывая самые безобидные мысли в алкоголь, а алкоголь в яд.
Необъяснимое и заразительное безумие. На склоне горы, позлащённой уходящим летом, в благословенном краю, где горизонт излучает улыбки и негу, под небесами, светящимися добротой и любовью, три тысячи голов бурлили от глупой ярости и нарушали слишком прекрасное для них спокойствие. Весь Клошмерль буквально гудел от сплетен, угроз, споров, интриг и скандалов. Помещённый в эту местность, как столица блаженной страны, как оазис мечтаний в смятенном мире, этот городок поистине сошёл с ума, изменив своему традиционному благоразумию.
После злополучного утра 16 августа всё катилось по наклонной плоскости, и события следовали друг за другом с умопомрачительной быстротой. За несколько дней свершилось множество событий, не имеющих ничего общего с монотонными делами повседневной жизни. Умы были потрясены. Полемика довела до предела всеобщие заблуждения, разделившие Клошмерль на два лагеря, в равной степени неспособные на беспристрастность и добрую волю, как это всегда бывает, когда общественное мнение распалено. Это был извечный антагонизм между добром и злом, борьба между праведными и нечестивыми, и каждый хотел быть праведным, не сомневаясь, что истина и справедливость всецело на его стороне. Исключения составляли лишь некоторые искушённые люди, вроде Пьешю, Жиродо и баронессы, действовавших во имя высших принципов, которым истина должна подчиняться, как покорная служанка.
Когда первая из громовых статей Тафарделя, напечатанная в «Пробуждении винодела», дошла до Клошмерля, представители партии Церкви встретили её гневными комментариями. К несчастью, мы не имеем возможности воспроизвести эту статью целиком, о чём можно только пожалеть. Она начиналась серией сенсационных заголовков:
ЭПИЗОД ИЗ ЭПОХИ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЙН
ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ АГРЕССИЯ В ЦЕРКВИ
ПЬЯНЫЙ ШВЕЙЦАР ЗЛОБНО БРОСАЕТСЯ НА МИРНОГО ГРАЖДАНИНА
КЮРЕ СПОСОБСТВУЕТ ЭТОМУ ПОЗОРНОМУ НАПАДЕНИЮ
Всё остальное было описано в тех же красках. Эрнест Тафардель повторял повсюду с законной гордостью:
– Это пощёчина иезуитам, Жиродо и аристократишкам!
Он никак не мог простить баронессе её «недоноска».
На эту искромётную статью тотчас же отозвался «Гран-Лионэ», основная газета левых. Одним из корреспондентов этой газеты был редактор «Пробуждения винодела». То, что случилось в Клошмерле, послужило ему материалом для обширной статьи (оплаченной построчно), которой он предпослал заголовки собственного изготовления, нисколько не уступающие в силе заголовкам Тафарделя. В Лионе рады были напечатать эту корреспонденцию: здесь готовились к муниципальным выборам, и по этому случаю две газеты – «Гран-Лионэ» и «Традисионель» обменивались ударами редкостного коварства. Скандал в Клошмерле, в трактовке Тафарделя, играл на руку газете «Гран-Лионэ». Но «Традисионель» блестяще отпарировал удар, опубликовав сорок восемь часов спустя ещё более тенденциозную версию, составленную в кабинете главного редактора. Заголовки выглядели так:
ЕЩЁ ОДНА ГНУСНОСТЬ
ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ВЫХОДКА ПЬЯНЧУГИ,
ПОДЛО ПОДКУПЛЕННОГО ФАНАТИЧНО НАСТРОЕННЫМ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ
ЭТОТ ЖАЛКИЙ СУБЪЕКТ ОСКВЕРНЯЕТ СВЯТОЕ МЕСТО
ВОЗМУЩЁННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ВЫБРАСЫВАЮТ ЕГО ВОН
Событие, поданное в таком освещении, требовало дополнительных разъяснений. В ближайшие дни они не преминули появиться. Борзописцы той и другой стороны за грошовое вознаграждение принялись рьяно изобретать отвратительные инсинуации, порочащие неизвестных им людей, среди которых были Пьешю, Тафардель, баронесса, Жиродо, кюре Поносс, Жюстина Пюте и другие. Если бы какой-нибудь беспристрастный человек поочерёдно прочитал враждующие газеты, он пришёл бы к заключению, что божолезский городок Клошмерль населяют одни канальи.
На простые умы пресса производит потрясающее впечатление, хотя они и не всегда понимают прочитанное. В ярости закрывая глаза на очевидность, отрекаясь от долгих лет братства и терпимости, клошмерляне дошли до того, что стали судить друг о друге по разоблачительным статьям всевозможных газет, которые читались с одинаковым тщанием, вызывая то весёлость, то гнев. При таком порядке вещей злоба решительно одерживала верх и вскорости сделалась всеобщей. История с Мари Фуйаве, случай с Клементиной Шавень, исчезновение Ортанс Жиродо и вмешательство монтежурцев довели общественное мнение до полного ослепления, лежащего в основе всех великих катастроф. От оскорблений перешли к действиям. Разбили ещё одно окошко в церкви – на этот раз уже преднамеренно. Камни посыпались в окна Жюстины Пюте, Пьешю, Жиродо, Тафарделя и даже в садик кюре Поносса, где едва не пришибли Онорину. На дверях множились надписи. Жюстина Пюте назвала Тафарделя лжецом и дала ему пощёчину за то, что он впутал её в эту историю. От сильного толчка с головы Тафарделя слетела его драгоценная панама, и старая дева в бешенстве её растоптала. На дороге кто-то разбил камнем стекло в лимузине, где сидела баронесса де Куртебиш. Почтальон Блазо разнёс несколько анонимных писем. И, наконец, некое злоключение публично нанесло серьёзный ущерб чести Оскара де Сен-Шуля.
Сей доблестный дворянин бахвалился, что умиротворит Клошмерль силой своего авторитета и красноречия, подкреплённых к тому же его элегантностью в светлых тонах. В один прекрасный вечер он, жеманничая, ехал по городу на захудалой кляче, которая уже не слушалась шпор, но ещё скрывала в своём лошадином мозгу некое причудливое упрямство. И это животное, этого «старого слугу», хозяин скромно нарёк Скакуном. Итак, Оскар де Сен-Шуль ехал верхом на своенравном Скакуне, проявлявшем дурное расположение духа семенящей рысцой, свойственной жалким лошадёнкам, рысцой, высоко вздымающей крестец и весьма прискорбной для красоты горделивого всадника. Оскар де Сен-Шуль воспользовался первой же возможностью остановиться, и эта возможность предоставилась, неведомо почему, как раз около портомойни. Он приветствовал прачек галантным жестом, поднеся набалдашник своего хлыста к шляпе.
– Ну, как стирается, милые женщины? – промолвил он покровительственным тоном вельможи.
Там было пятнадцать кумушек, пятнадцать горлохваток, непобедимых в словесных турнирах. Была там и Бабетта Манапу, крайне возбуждённая в тот день. Она тотчас же подняла голову от белья.
– Ну и ну, – сказала она, – да ведь это наш ломака! Так что же, милый барин, никак, вы приехали за нами поволочиться, пока ваша милаха дома сидит?
Под крышей прачечной прозвучал оскорбительный хохот, исторгнутый пятнадцатью лужёными глотками. Незадачливый дворянин рассчитывал снискать безусловное почтение. Такая встреча его крайне обескуражила и поставила в тупик, несмотря на всю его великосветскую выдержку. Скакун, услышав шум воды, вытянул морду, как бы желая напиться. Оскар де Сен-Шуль сделал вид, что собирается о чём-то спросить:
– А скажите, милые женщины…
Но он никак не мог сообразить, чем эту фразу закончить. Бабетта Манапу решила его ободрить:
– Ну, что ж ты замолк, барин? Скажи всё, что собирался. Не будь таким церемонным с дамами, моя морковочка!
Наконец, наш дворянин ценою невероятных усилий ухитрился пробормотать:
– А скажите, милые женщины, вам здесь не очень жарко?
Произнося эти слова, он подумал, что двадцатифранковый билет смог бы, пожалуй, благопристойно прикрыть его отступление. Но Скакун не дал ему возможности перейти к действиям. Необычайная прыть внезапно овладела этим своенравным конём, и Оскар де Сен-Шуль почувствовал настоятельную необходимость собрать все свои силы, чтобы удержаться в седле. Он понимал, что падение к ногам дамочек из портомойни было бы ужаснейшим из всех мыслимых злоключений. Гримасы и ужимки, каковые он проделывал, стараясь не свалиться с лошади, были столь необычайны, что бурный востор кумушек становился всё более шумным и понемногу привлёк внимание всех женщин городка к злополучному Оскару, который теперь нёсся по направлению к замку. Он был похож на отставшего всадника, мчавшегося вдогонку за своим эскадроном. Весь его облик источал такой ужас, что женщины окончательно обнаглели. Вплоть до границы нижнего городка зятя баронессы де Куртебиш провожал град спелых помидоров. Три сочных снаряда разорвались на его светло-бежевом костюме.
Вскоре об этом оскорблении узнала баронесса. Мы уже упоминали о том, что она считала своего зятя абсолютным простофилей, и простофилей во всех отношениях. «Я бы умерла с голода подле этого юнца! – призналась она маркизе д'Обена-Тезе. – Я не понимаю, как может Эстель… Впрочем, я уверена, что у неё нет и намёка на темперамент. Она инертна и лимфатична. Чёрт побери! В наши времена женщины были с огоньком!»
Но, презирая Оскара де Сен-Шуля, благородная дама тем не менее считала, что самая ничтожная обида, нанесённая высокорождённому кретину, стоила того, чтобы перепороли целую деревню хамья. Эта строгость была основана на принципе: «Дураки нашего круга и дураки из народа – далеко не одно и то же». И она решила незамедлительно обратиться в высшие сферы.