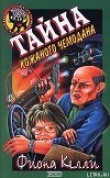Текст книги "Клошмерль"
Автор книги: Габриэль Шевалье
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
4
НЕСКОЛЬКО ПОРТРЕТОВ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ГОРОЖАН
(Продолжение)
В тридцати метрах от «Галери божолез» находилось почтовое отделение, которым ведала мадемуазель Вузон, а десятью метрами выше – табачная лавка, где восседала г-жа Фуаш. (Нам ещё предстоит вернуться к этой особе.) Неподалёку от табачной лавки возвышался особняк доктора Мурая, обращавший на себя внимание медной дощечкой и металлической дверью гаража – единственного пока на весь Клошмерль.
Впрочем, и сам доктор Мурай был человеком, единственным в своём роде: пятидесятитрёхлетний здоровяк, багровый, горластый, вольнодумец и грубиян (как говорили шепотком пациенты). В своей врачебной практике он был законченным фаталистом и полностью предоставлял природе заботы об исцелении недужных. Статистика, основанная на пятнадцатилетнем опыте, окончательно убедила его в целесообразности такого метода. Доктор Мурай в молодости совершил ту же ошибку в отношении здоровья своих пациентов, какую юный кюре Поносс допустил в отношении духовного здоровья своих прихожан: он проявил слишком большое рвение. В те времена доктор Мурай штурмовал болезни с помощью смелых и оригинальных диагнозов и резких терапевтических контратак. При серьёзных заболеваниях такая система давала двадцать три процента смертных случаев – цифра, которую доктор Мурай свел к девяти процентам, как только перешёл к простой констатации болезни, методу, облюбованному его коллегами во всех соседних городках.
Доктор Мурай охотно выпивал, проявляя при этом редкую в Клошмерле склонность к аперитивам, – привычку, которую он приобрёл ещё в студенческие годы, длившиеся весьма долго и посвящённые в равной степени пивным, скачкам, покеру, домам терпимости, пикникам и штудиям на медицинском факультете. Тем не менее обитатели Клошмерля очень уважали своего врача, предвидя, что рано или поздно они могут попасть к нему в лапы и он тогда отомстит за обиду каким-нибудь коварным поворотом ланцета при вскрытии нарыва или же зверской жестокостью при удалении зуба. Доктор Мурай, по сути говоря, имел дело главным образом с челюстями обитателей городка. Иными словами, он выдёргивал у клошмерлян зубы, пользуясь при этом ужасающим первобытным инструментом, который никогда не соскакивал, ибо руки доктора Мурая были твёрже железа. Чистку и пломбирование он считал патентованным шарлатанством, анестезию считал излишней. Он полагал, что защиту от боли следует искать в самой боли, а неожиданность в этом деле – лучший помощник. Исходя из этих соображений, он выработал быструю и, как правило, эффективную технику. По раздутой флюсом щеке он неожиданно наносил страшный удар кулаком, отчего пациент едва не терял сознание. В рот, раскрытый для жалобного вопля, он тотчас же загонял свои клещи по самую рукоятку и резкими рывками начинал тащить злополучный зуб, пренебрегая нагноением, воспалением надкостницы и стонами. Объект подобного лечения поднимался со стула настолько ошеломлённым, что немедленно платил деньги. А такая поспешность весьма необычна в Клошмерле.
Зверские методы врачевания буквально принуждали к почтительности. Ни один горожанин не посмел бы выступить против Мурая. Но доктор сам выбирал себе врагов. Одним из них сделался, вопреки своей воле, кюре Поносс, который однажды вмешался не в своё дело – вылечил живот тётушки Сидони Сови. Эта история стоит того, чтобы её рассказали. Лучше всего это выходит у Бабетты Манапу, обладающей самым бойким языком во всём Клошмерле. К тому же Бабетта специализировалась на рассказах такого сорта. Вот что она говорит:
– Как-то раз у Сидони Сови живот раздуло. Сами понимаете, что в её годы не от греха это получилось. Злые языки, правда, болтали, будто в молодости у неё под юбкой чёрт побывал. Да разве ж теперь это проверишь. Уж очень много с того времени воды утекло. А кто запомнит, что делала в девках баба, которой уже шестьдесят отстукало.
По правде говоря, блюла себя Сидони раньше или таскалась направо и налево – один чёрт. Теперь-то уж ничего не попишешь! Не знаю, про что люди больше жалеют: про то, что они делали, или про то, чего не делали.
Так вот, значит, у Сидони живот разрастался, право слово, как тыква на солнце. И всё потому, что она до ветру больше ходить не могла. От того он у неё такой и получился. Дело дошло до того, что вышел у неё желудочш флюс.
– Вы хотите сказать непроходимость, госпожа Манапу?
– Вот-вот, так это и доктор называл. Но брюхо у неё раздуло, совсем как щёку от зуба. Одним словом, забеспокоились из-за этого живота дети тётки Сидони и особенно Альфред. И вот к вечеру он у неё спрашивает: «Ты что, мать, может, не в себе немного? Может, ты, чего доброго, выпила лишку?» Сказал он ей это, и всё тут. А Сидони ему в ответ ни гугу, потому как ей самой было невдомёк, что у неё с животом приключилось. Но вот ночью затрясла её вовсю лихоманка, да так, что она места себе не находила. Дети подождали до утра, а когда увидали, что мать сама собой не поправится, они смекнули, что надо деньгу готовить: доктору за визит. Тут Альфред и говорит, что при таких делах добрым христианам негоже скупиться на деньги и что самое время сбегать теперь за врачом.
Вы ведь знаете доктора Мурая, сударь? Он здорово вправляет кости – тут к нему не подкопаешься. Это он вправил ногу Анри Бродекену, когда то свалился с лестницы, сбивая палкой орехи. А как он вправил руку Антуан Патриго, когда его двинуло грузовиком! А вот когда нутро заболит, тут наи доктор Мурай уже не такой мастак, как на переломы да вывихи. Так вот, приходит он к семейству Сови и поднимает одеяло с тётки Сидони. Тут он, конечно, сразу же всё увидел и говорит:
– А на двор она ходит?
Альфред ему и отвечает: «Ничего, мол, не ходит».
Тут доктор общупал её живот – а он уже стал твёрдый, как бочонок, и почти такой же здоровенный – и говорит детям: «Пошли-ка, выйдем поговорим!»
Выходят они во двор. Тут доктор Мурай и говорит:
– Она уже, почитай, наполовину мёртвая.
Альфред его и спрашивает:
– Это что ж, из-за живота? Что там у неё внутри?
– Газы, – отвечает доктор. – Либо они разорвут ей живот, либо удушат. Так или иначе, долго она не протянет.
Сказавши это, он вышел, с видом человека, который в себе уверен. И подумать только, что за такие слова врачам платят по 20 франков, только потому, что они подкатывают на собственном автомобиле. Да ещё когда всё это, как вы сами сейчас убедитесь, сущая брехня.
– Ну что, дело дрянь? – спросила Сидони у Альфреда, когда тот вернулся в комнату.
– Да, дела неважнецкие, – говорит он в ответ.
И по тому, как он ей ответил, она сразу же поняла, что дела её очень плохи и что скоро у неё вообще никаких дел не будет. Тётка Сидони была женщиной набожной. Такой она сделалась с возрастом, раз уж миновали времена, когда ей задирали юбки. Когда она поняла, что скоро отдаст концы, она попросила позвать кюре. (Тогда уже у нас был Поносс, вы с ним наверняка знакомы.)
Уж если в дом зовут кюре, считай, дело пахнет сосной.[10]10
Дешёвые и немного дороже гробы делают из сосновых досок. (ред.)
[Закрыть] И вот заявляется кюре Поносс со своими добрыми речами. Он спрашивает, что такое стряслось в доме, и ему рассказывают про живот тётки Сидони, который перестал работать, и про то, что доктор Мурай не дал бы и франка за её шкуру. Тут кюре Поносс просит, чтобы приподняли одеяло и показали ему живот бедной Сидони. Это страшно всех удивило. Но Альфред сразу понял, что дело совсем не в любопытстве, потому как видно было, что старуха дышит на ладан.
И вот кюре Поносс стал щупать живот тётки Сидони, точь-в-точь как это делал доктор Мурай. Но у Поносса всё пошло по-другому.
– Ясно, – сказал он. – Сейчас я устрою так, что её пронесёт, – и попросил постного масла.
Альфред принёс полную бутылку. Кюре Поносс наполнил два больших стакана и дал выпить Сидони. Он посоветовал, сверх того, прочитать столько молитв, сколько она сможет, чтобы боженька тоже участвовал в этом деле и помог ей прочистить брюхо. А потом кюре Поносс преспокойно себе убрался, сказав, что нужно ждать и не переводить кровь на воду. А Сидони так здорово пронесло, что она долго не могла остановиться, и все газы повыходили из неё с таким треском да зловонием, что и представить себе трудно. Такая вонища была на улице, как в те дни, когда чистят выгребные ямы. Это было что-то несусветное, и все с нижнего города говорили: «Это опорожняется живот тётки Сидони». И, в конце концов, он так опорожнился, что через два дня Сидони напялила на себя кофту и, рада-радёшенька, пошла по Клошмерлю рассказывать, как доктор Мурай хотел её угробить, а кюре Поносс, при помощи святого масла, сотворил чудо с её животом. Эта история здорово сыграла на руку господу богу, и с тех пор люди старались дружить с кюре Поноссом, даже когда переставали ходить в церковь. А когда кто в городе заболевал, то частенько кюре вызывали раньше, чем доктора Мурая, и тот остался, можно сказать, в дураках. Вот с тех пор он и осерчал на кюре Поносса, и они стали не ладить, хотя наш кюре и вовсе не виноват. Ведь он славный человек: и нос никогда не дерёт, и в божолезских винах толк знает – мне за это все наши виноделы ручались.
* * *
Аптекарь Пуальфар был человеком странным, худым, бесцветным, с вечно удручённой физиономией. На том самом месте, где священникам выбривают тонзуру, у него была шишка величиной со сливу ренклод.[11]11
Ренклод – сорт слив. (ред.)
[Закрыть] Желая замаскировать эту шишку, он постоянно носил ермолку с кисточкой, что делало его похожим на унылого алхимика. В жизни нашего аптекаря, безусловно, было много печальных моментов, но, кроме того, горе было его призванием. Он был прирождённым меланхоликом, никогда не видел он улыбки на лице матери, не помнил отца, умершего совсем молодым, вероятно, от скуки или от желания избавиться от своей безупречной супруги, один вид которой толкал на безоглядное бегство куда угодно, вплоть до чистилища. В наследство от матери Пуальфар получил способность источать беспросветное уныние, и жизнь, которая никогда не откажет такому дару в возможностях развиваться, очень скоро предоставила Пуальфару повод для бесконечных стенаний. Вот в двух словах история нашего аптекаря.
Ещё до того, как он поселился в Клошмерле, Пуальфар сделал предложение одной сироте – девушке очень красивой и очень бедной. Бедность и советы опекунов, которые давно уже хотели её пристроить, не позволяли ей отмахнуться от такого солидного предложения. Девушка получила у монашек религиозное воспитание. В последнюю минуту она поставила в церкви свечу и разыграла свою судьбу в орлянку: решка – пострижение в монахини, орёл – бракосочетание с Пуальфаром. Оба варианта её в равной степени не устраивали. Но, выслушав угрозы опекунов, она поняла, что другого выхода у неё нет. Монета упала орлом. Девушка узрела в этом волю господа бога и вышла замуж за Пуальфара. Вскоре аптекарь обволок её такой скукой, что она поспешила умереть, оставив Пуальфару похожую на себя дочь. Это сходство, постоянно напоминавшее о покойной, послужило вдовцу темой для нескончаемых причитаний.
После кончины своей супруги Пуальфар принял все меры, чтобы горевать в своё удовольствие. Он определил девочку в пансион и взвалил на плечи помощника всю работу в аптеке, регулярный доход которой обеспечивал доктор Мурай, выписывая за мзду свои бесчисленные рецепты. Располагая свободным временем, Пуальфар мог совершать частые путешествия в Лион, куда его влекли запросы сентиментально-эротического характера. Там его без труда увлекали за собой первые встречные женщины, к которым он обращался с весьма необычной просьбой. Он просил их раздеться донага, закрыть глаза и, завернувшись в простыни, застыть, имитируя трупное окоченение. В руках они должны были сжимать маленькое распятие, которое он всегда носил при себе. Опустившись на колени перед постелью, господин Пуальфар долго плакал навзрыд, а потом, бледный как смерть, покидал воскресших красоток и отправлялся на кладбище, куда его увлекал властный инстинкт коллекционерства. Там он выбирал редкие эпитафии и переписывал их в записную книжку, дабы обогатить свой сборник, который давал ему пищу для заунывных раздумий во время бессонных ночей.
Эрнест Тафардель высоко ценил Пуальфара, унылый вид которого великолепно гармонировал с торжественной миной учителя. Тафардель очень часто заходил в аптеку и с неизменным наслаждением расшифровывал учёные надписи на аптекарских склянках. К Пуальфару питали нежные чувства некоторые старые девы Клошмерля, достигшие того возраста, когда их ещё можно было бы пристроить за малопривлекательного вдовца с охладевшими чувствами и устоявшимися привычками, ищущего не столько жену, сколько компаньонку, которая ставила бы ему припарки и следила за его бельём. Вышеупомянутые особы отодвигали чересчур далеко последние сроки своей привлекательности. Сомнительно, чтобы их появление взволновало даже отшельника в его аскетической обители или обрадовало несчастного, выброшенного кораблекрушением на необитаемый остров.
Все они усердно посещали аптеку, принося туда флакончики с мочой и другие признаки недомогания интимного характера. Они регулярно обращались к Пуальфару за несложными консультациями, в надежде, что глаза тоскующего аптекаря, наконец, отверзнутся – а ради такого прозрения они готовы были пожертвовать сокровищем своего целомудрия. Но Пуальфар при осмотрах строго придерживался установленных рамок и никогда не оголял плоть своих пациенток больше, чем этого требовала необходимость. Он равнодушно обнаруживал кожные болезни, признаки артрита и диабета, последствия запоров, увеличение лимфатических узлов и нервные недомогания на почве бесплодия. Физические недуги его пациенток давали ему лишний повод для новых приступов ипохондрии, которые только усугубляли его обычную мрачность. Тщательность, с которой он отмывал руки после прикосновения к их воспламенённым телам, поистине обескураживала. А заключения аптекаря вдохновлялись чернейшим пессимизмом.
– Неизлечимо! – обычно говорил Пуальфар, протягивая тем не менее пузырёк. – Попробуйте-ка вот это лекарство. Это то, что обыкновенно дают. В одном случае из десяти оно помогает.
Наиболее смелые пациентки подмигивали ему, как сообщницы:
– Ведь вы сделаете скидку, господин Пуальфар? Ради меня…
Аптекарь с удивлением смотрел на ужимки кривляющейся грации, на её несусветную шляпу и старомодные оборки.
– А что, вы числитесь в списке городских бедняков? – спрашивал он.
Подобными бестактностями он невольно нажил себе врагов, врагов чрезвычайно активных и упорных, ибо они принадлежали к породе непонятых и осмеянных неудачниц. Оскорблённые девы клеветнически намекали, что некоторые ощупывания аптекаря были не совсем медицинскими. И хотя этот плаксивый вдовец ловко скрывает свои делишки, все уже заметили, каких женщин он предпочитает затягивать в свою комнату за лавкой: всяких задастых горняшек, бессовестных толстых баб, которые легко обходятся без панталон и всегда готовы угостить мужчину своим полнолунием, – они это совершают гораздо охотнее, чем крестное знамение. Знаем мы их отлично! И Пуальфара мы тоже знаем: только телеса толстух могут немного развеселить этого угрюмого типа. Однако этим россказням почти никто не верил, – аптекарь Пуальфар внушал почтительный страх всему Клошмерлю. Если доктор Мурай орудовал скальпелем, кюре Поносс соборовал умирающих, то аптекарь Пуальфар имел дело с мышьяком и цианистым калием. У него была мрачная внешность отравителя, и осторожные горожане старались поддерживать с ним наилучшие отношения.
* * *
Около аптеки с её запылённой витриной, где висели плакаты, на которых ожесточённо чесались больные экземой, расположился магазин совсем другого типа. Его витрина привлекала взгляды сверканием никеля, металлическими табличками, телеграммами и фотоснимками спортивного содержания, помещёнными за стеклом. Самое почётное место на витрине занимал предмет вожделения всех молодых людей Клошмерля – чудесный велосипед известной марки «Суперас» (типа «Тур-де-Франс»). Как утверждали каталоги, такой велосипед ни в чём не уступал машинам самых знаменитых гонщиков страны. Магазин принадлежал торговцу велосипедами Фаде, которого все называли запросто Эженом.
Эжен Фаде был популярен среди горожан, благодаря особой манере вскакивать на ходу в седло велосипеда (к тому же у него были гибкая и несколько расхлябанная походка велосипедиста, считавшаяся пределом спортивной элегантности). Он пользовался большим влиянием у молодых людей Клошмерля, и они гордились его дружеским расположением. Для этого было много причин. Главная из них заключалась в особой манере носить фуражку и подстригать волосы на затылке. Ему пытались подражать в причёске все молодые люди Клошмерля, но их старания не приносили никакого результата, ибо городской парикмахер умел её создавать только на голове Эжена, специально приспособленной для этакого сутенёрского шика. Кроме того, Эжен Фаде некогда был велогонщиком и авиационным механиком. В своих рассказах, которые он постоянно совершенствовал и постепенно превратил в легенды, Эжен позволял себе запросто, по-братски обращаться с героями воздуха и гоночных треков. Главной темой его рассказов был великий подвиг: «В тот день, когда я пришёл вторым, колесом к колесу, за Эльгаром, тогдашним чемпионом мира, это было в 1911-м на „Зимнем велодроме“». Засим следовало описание велодрома, где восторженно вопили трибуны, и приводились слова изумлённого Эльгара: «Мне пришлось выложиться до конца». Молодые люди могли без устали слушать эту историю, так как она давала им представление о сладости мирской славы. Они сами не раз просили Эжена рассказать её ещё разок:
– Скажи, Эжен, в тот день, когда ты пришёл вторым за Эльгаром… Парижские парни, как они там?
– Ого! Уж я им дал прикурить! – говорил Фаде со спокойным презрением супермена.
Он ещё раз пересказывал захватывающие детали своей истории и кончал её приблизительно так:
– Кто угостит стаканчиком, ребятишки?
И всегда какой-нибудь семнадцатилетний юнец, жаждущий обратить на себя внимание Эжена, находил в кармане необходимую сумму. Прежде чем захлопнуть дверь магазина, Эжен обычно кричал: «Тина, я бегу по делам!» А затем поспешно давал тягу. Однако не всегда достаточно быстро, и ему вдогонку летел язвительный упрёк его супруги Леонтины Фаде:
– Опять идёшь пить с сопляками! А работа?
Но ветеран велодромов и взлётных площадок, обучавший молодёжь Клошмерля методам «укрощения бабского племени» («надо, чтобы бабы перед тобой на коленках ползали и ревмя ревели – только тогда ты будешь для них мужчиной»), человек такого масштаба, как Фаде, не мог позволить, чтобы при всём честном народе так подрывали его авторитет.
– Ты что это нападаешь на наше звено? – ответствовал джентльмен в велосипедных штанах с характерным акцентом парижских предместий. – Притормози-ка на повороте, чтобы не слететь в кювет. Побереги силёнки на финиш, моя дорогая.
Образные ответы Эжена Фаде пользовались огромным успехом у молодёжи, на которую, вообще говоря, нетрудно было произвести впечатление. Однако, оставшись с супругой наедине, Фаде намного сбавлял тон, так как мадам Леонтина была женщиной серьёзной и методичной. Она сразу же строгим голосом напоминала своему супругу о настоятельных требованиях налоговой инспекции и о состоянии магазинной кассы. На мадам Леонтине всецело лежали финансовые дела фирмы Фаде, и это было большим счастьем, так как Эжен, при всём своём лихом краснобайстве, вряд ли смог бы уберечь торговое предприятие при появлении неких пожилых господ с портфелями, которые наносили визит раз в месяц, чтобы получить деньги по векселям.
К счастью, молодёжь Клошмерля ничего не знала об этих мелких деталях внутреннего семейного распорядка. Легковерным юношам и в голову не приходило, что бывший друг Наварра и Гинмера, экс-соперник знаменитого Эльгара, позволял называть себя дома «жалким остолопом», да ещё (совсем невероятное дело) легко соглашался с этой оценкой. Эжен Фаде шёл на всё, чтобы скрыть свои ссоры с женой.
– Знаешь, Тина любит пыжиться на людях. Любит повалять дурака. Но у меня есть недурные приёмчики, чтобы поставить её на место.
При этом он прищуривал левый глаз с таким молодецким видом, что никто его не спрашивал об этих таинственных приёмах, которые он будто бы применял, оставшись с женой наедине. Благодаря своей изобретательности, он гордо царствовал над группой молодых спортсменов, которые каждый вечер наводняли его магазин. Впрочем, ледяные взгляды мадам Фаде вскоре изгоняли даже самых смелых. Увлекая за собой Эжена, вся компания спасалась в кафе «Жаворонок», которое находилось возле главной площади городка (его содержала Жозетта, женщина с дурной репутацией). Там они поднимали ужасный галдёж.
– Опять банда Фаде! – говорили мирные горожане.
Нам ещё предстоит увидеть этот отряд в действии.
На самом изгибе большого поворота дороги, где открывается вид на долину Соны, стоит роскошный буржуазный особняк, обнесённый невысокой стеной с чугунной изящной решёткой поверху. Массивные ворота из кованого железа ведут в сад. Аллеи его усыпаны желтоватым гравием, клумбы тщательно подстрижены, деревья поражают разнообразием. Часть сада оборудована по-английски – с беседками, бассейном, гротами, покойными креслами, крокетом и большим подвесным шаром, отражающим городок вверх ногами. В сад спускается широкая лестница, уставленная цветами. В этом доме забота о доходе, казалось, полностью уступало место удовольствию. Всё здесь говорило о богатстве, позволяющем хозяевам столь расточительно распоряжаться земельным участком вместо того, чтобы отвести его под виноград.
В этом доме жил нотариус Жиродо с женой и девятнадцатилетней дочерью Ортанс. Его сын, учившийся в классе риторики у иезуитов Вильфранша, остался на второй год после двух досадных провалов при попытке сдать экзамен на степень бакалавра, и семейство Жиродо тщательно скрывало этот позор от горожан. Молодой Жиродо был убеждённым лентяем. Кроме того, у него были все задатки расточителя и фантазёра, весьма прискорбные для молодого человека, которого прочат в нотариусы. Скажем прямо, молодой Рауль Жиродо давно уже принял двойное решение: никогда не становиться нотариусом и преспокойно существовать на богатства, накопленные многочисленными поколениями предусмотрительных Жиродо. Эти богатства могли достигнуть размеров, несовместимых с понятием справедливости, если бы не появился достойный отпрыск, воплотивший идею равновесия и приступивший к перераспределению накопленных капиталов. Всё это находилось в полном соответствии с мировым духом справедливости, тайно определяющим гармонию вселенной. Рауль Жиродо не испытывал ни малейшей потребности в труде: его предки так злоупотребляли своим трудолюбием, что не оставили ему ни крупицы этого свойства. С пятнадцатилетнего возраста он посвящал все досуги, которые ему предоставляла праздность, глубоким и наполовину бессознательным медитациям о смысле жизни. Он наметил себе две цели, с его точки зрения, достойные сына почтенных родителей: гоночная машина и полнотелая белокурая любовница. (Любовь к приятным округлостям была у Рауля реакцией против вошедшей в поговорку худобы женщин фамилии Жиродо. Ибо непокорное чадо мечтало избавиться от всяческой опёки и порвать с традициями своего рода.) Все заблуждались относительно возможностей, заложенных в характере этого флегматичного лицеиста, который брал измором всякого, кто пытался ему помешать. Рауль так и не стал бакалавром, к чему он, впрочем, и не стремился, но зато денег у него в кармане всегда было достаточно. Позднее он приобрёл и машину, и белокурую любовницу, которые совместными усилиями (и с помощью покера) наделали долгов на 250 тысяч франков. Юная Ортанс Жиродо тоже кончила плохо, и, конечно, по собственной вине, так как в добрых советах у неё недостатка не было. Она уступила своей чрезмерно романтической натуре, побуждавшей её к бесконечному чтению книг, особенно книг пиитических. Это привело к тому, что она полюбила молодого человека без состояния. (А такая любовь есть наивысшая кара для девушек, не слушающих добрых родительских советов.) Впрочем, мы слегка забежали вперёд и отвлеклись от нашей истории.
Любопытное семейство эти Жиродо, богачи, передающие свою нотариальную контору от отца к сыну вот уже четыре поколения подряд. Прадед нынешнего нотариуса отличался приятной наружностью, трезвым умом и прямотой суждений. Но его потомки женились не столько на женщинах, сколько на их деньгах, и в результате семейство Жиродо стало обнаруживать все признаки вырождения. Эту эволюцию хорошо объясняет меткая фраза Сиприена Босолея: «Эти ублюдки Жиродо занимаются любовью со щелками своих копилок». За деньги можно достать всё, кроме здоровой крови. Вот почему Жиродо постепенно становились жёлтыми и скрюченными, как старые пергаменты их архива. Гиацинт Жиродо, со своим нездоровым цветом лица, тощими ножками и узкими плечиками, являл собой великолепный образец физической деградации рода.
Если верить Тони Бийяру, то Жиродо был просто-напросто «гнусным и лицемерным скупердяем, обдиралой высшей марки, старым блудливым козлом с грязными и пакостными повадками», человеком, который ни разу в жизни не дал бескорыстного совета и запутывал дела своих клиентов во имя собственных интересов. Неоспоримо, что Тони Бийяр, инвалид войны, навсегда освобождённый от воинской повинности, имел все возможности постичь до конца характер Гиацинта Жиродо, работая в течение десяти лет, вплоть до 1914 года, клерком в его нотариальной конторе. Правда, утверждения Тони Бийяра могут показаться сомнительными, так как несколько лет назад бывший клерк поссорился со своим хозяином. Инвалид полагал, что он имеет все основания обижаться на своего патрона, и это убеждение, естественно, приводило к некоторым гиперболам в оценке личности господина Жиродо. Добросовестно следуя правде истории, мы попытаемся рассказать читателю о происхождении этой обиды.
В 1918 году, вернувшись в родной Клошмерль, искалеченный Тони Бийяр отправился с визитом к господину Жиродо. Излияниям нотариуса не было конца: он говорил об изумительной доблести Тони Бийяра, называл его героем, заверял в благодарности всей страны и пел хвалу славе, воплощённой в его ранах. Он даже предложил Бийяру снова поступить в контору, но при этом назначил ему новое жалование, разумеется, уменьшенное пропорционально падению работоспособности искалеченного героя. («У меня есть пенсия!» – гордо ответил Бийяр.) После получасовой сердечной беседы Жиродо сказал своему бывшему клерку: «Вообще-то вы легко отделались…» Провожая инвалида со словами утешения на устах, нотариус сунул ему в руку десятифранковую монету. Предложение работать за сниженную плату, прощальные слова нотариуса и его 10 франков – вот в чем заключался источник обид Тони Бийяра.
Имел ли он основания обижаться? Обращаясь к своему клерку, Жиродо, как всегда, думал о деньгах, тогда как Тони Бийяр, слушая своего патрона, думал совсем о другом. Если стать на точку зрения Жиродо, то нужно признать, что нотариус был не совсем не прав: зарабатывать в момент объявления войны 145 франков, не имея шансов к пятидесяти годам получать более 225-ти, и вернуться домой четыре года спустя с рентой в 18 тысяч франков – значило провернуть неплохое дельце (выражаясь языком финансистов). То, к чему Жиродо подходил как финансист, рассматривалось Бийяром с сугубо эгоистической точки зрения: «Я ушёл на войну с четырьмя конечностями, а вернулся только с двумя. Мне отрезали левую руку по локоть и правую ногу по бедро – и это в тридцать три года!» Он признавал, что теперь уже не был прежним работником (это было слишком очевидно). Но он отнюдь не считал 18 тысяч франков годовой ренты хорошей и даже слишком хорош ценой за руку и ногу скромного провинциального клерка. Ослеплённый, он не отдавал себе отчёта в том, как дорого он обойдётся стране, а Жиродо трезво учитывал именно это обстоятельство. Нотариус был человеком более прозорливым, так как он не пострадал на войне и всегда умел приноравливать свой ум к проблемам экономического порядка. Ему пришла в голову такая мысль: «Если давать инвалидность людям, потерявшим только две конечности, можно дойти до полного абсурда». Он усмотрел в такой расточительности посягательство на строгую логику цифр и почувствовал себя задетым. Он подумал: «Этот парень свободно может прожить ещё лет двадцать. Предположим, что таких, как он, 100 тысяч. Во что они обойдутся государству?» Результаты вычислений повергли его в смятение: 18.000: 20 = 360.000 ґ 100.000 = 36.000.000.000. Тридцать шесть миллиардов! Н и ну! «Немец заплатит!» – легко сказать! А пенсии вдовам, а разорённые области… Где же взять столько денег? Где? Он подсчитал деньги, которы израсходовал на различные займы – 576 тысяч франков! Разумеется, он бы достаточно предусмотрителен и приобретал процентные бумаги, выпущенны в некой стране, где не нужно было оплачивать тысячи отрезанных рук и ног. В своей записной книжке он сделал надпись «Заём» и подчеркнул это слово трижды. Затем он подошёл к вопросу с другой стороны: «Предположим, – предположение, разумеется, необоснованное, – что я, Жиродо, потерял на войне руку и ногу. Неужели и мне дали бы только 18 тысяч франков?» Его поразила глубочайшая порочность всей пенсионной системы: выходит, что отрезанные конечности оцениваются одинаково, кому бы они ни принадлежали, и рука нотариуса оплачивается по тому же тарифу, что рука клерка или даже чернорабочего. Непостижимо! До какого абсурда может довести политика поблажек толпе! «Эти люди ведут нас к разорению!» – трагически восклицал Жиродо в тиши своего кабинета. Некоторое время он размышлял о политических деятелях, ответственных за такие порядки. И вдруг ужасное сомнение проникло в душу Жиродо. Это было нечто подобное колокольному звону, возвещавшему крушение эпохи и гибель высоких чувств, на которых долгое время зиждилась цивилизация: «Неужели война, которая должна быть школой самопожертвования, превратилась в поощрение ленивцам?»
Мы не умолчали об этих деталях, чтобы показать читателю, какая широта была присуща взглядам господина Жиродо. Размышления нотариуса, даже если они и касались его личных дел, всегда возвышались до государственных масштабов и устремлялись в будущее, многое в нём провидя.
А Тони Бийяр рассуждал совсем по-другому. Нужно признать, что аргументировал он не так умело, как нотариус. Потеряв на войне руку и ногу, несчастный возомнил, что этот инцидент частного значения должен привлечь к нему особое внимание современников, будто бы люди, которые на войне ничего не потеряли, были перед ним в долгу. Бедняга Бийяр и на самом деле считал, что он никому не обязан. Он преспокойно клал в карман 18 тысяч франков и никого при этом не благодарил. И когда почтенный, всеми уважаемый человек, который мог бы при своём богатстве быть и менее сердобольным, предложил ему 10 франков и поздравил с тем, что он в тридцать три года заполучил ренту в 18 тысяч, Тони Бийяр почему-то обиделся. А разве он имел на это основания? Ведь Жиродо отнёсся к нему ещё по-божески. Когда за год до Бийяра Жан-Луи Галапен вернулся в Клошмерль без руки, Жиродо, встретив его на улице, удовольствовался тем, что сказал: «Бедный мальчик, как всё это грустно! Погодите-ка, я для вас кое-что сделаю…» И он сунул ему в руку пятифранковую монету, не предложив при этом работы.