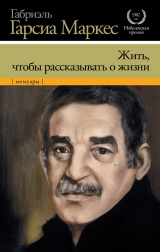
Текст книги "Жить, чтобы рассказывать о жизни"
Автор книги: Габриэль Гарсиа Маркес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
2
Втот день, когда мы с матерью поехали продавать наш старый дом, мне вспомнилось многое из того, что с раннего детства отпечаталось в памяти, но очередность и значение событий с точностью восстановить я не мог. Как не мог и отделить выспренне-фальшивую роскошь банановой компании на фоне провинциальной убогости и наивную свадьбу моих родителей от окончательного упадка Аракатаки. С тех пор как себя помню, я слышал одну и ту же фразу, повторявшуюся поначалу тихо, потом громче и громче, а потом и во всеуслышание, едва ли не с паническим ужасом: «Говорят, компания уходит». Но этому либо не верили, либо даже и не осмеливались думать об опустошительных последствиях.
Версия моей матери была настолько неубедительной и блеклой по сравнению с масштабами произошедшей грандиозной трагедии, что не могла не разочаровывать. Позже я расспрашивал уцелевших очевидцев, перекопал горы документов и прессы и пришел к выводу, что до истины все же не докопаться. Конформисты уверяли, что не произошло ничего страшного, убитых вообще не было. Радикально настроенные настаивали на том, что было более сотни жертв, трупы побросали в вагоны, точно мешки, сочившиеся кровью, вывезли на товарняке и вышвырнули в море, как банановую кожуру. Таким образом, мое собственное представление о том, что и как происходило на самом Деле, в какой-то момент зависло между двумя крайностями. И все-таки трагическая версия настолько укоренилась в моем сознании, что в одном из романов я изобразил событие в самых кошмарных и кровавых тонах. Чтобы придать трагедии эпический масштаб, число погибших я довел до трех тысяч. Реальность приняла мою правду: недавно, в годовщину расстрела, спикер сената публично попросил почтить минутой молчания память трех тысяч безвинно павших.
В качестве одного из аргументов массового расстрела приводился тот, что среди организаторов забастовки были коммунисты. Возможно, это правда. Наиболее полную информацию я получил от Эдуардо Маэче, с которым познакомился в тюрьме Модело в Барранкилье в дни, когда мы с матерью поехали продавать дом, и, представившись внуком Николаса Маркеса, с тех пор накрепко подружился. Он сообщил мне, что мой дед не только не был в стороне, но, напротив, как человек уважаемый и весьма авторитетный принимал активное участие в переговорах во время забастовки 1928 года. После бесед с Эдуардо мое видение социального конфликта стало более объективным. Но главным расхождением в версиях осталось количество убитых, и это, конечно, основное во всей истории.
Многие воспоминания не проясняли, а, напротив, сгущали туман. В том числе и мои собственные: мне казалось, что я помню себя сидящим на пороге дома с игрушечным ружьем, когда по улице в тени миндальных деревьев проходил батальон полицейских, обливавшихся потом. Один из офицеров, командовавших батальоном, проходя мимо, шутливо попрощался со мной:
– Пока, капитан Габи!
Но уверенности в том, что все так и было на самом деле, конечно, нет, да и можно ли доверять памяти?.. Униформа, каска, ружье цепко держались в памяти еще года два после расправы над забастовщиками, когда давно уже и след военных простыл у нас в Катаке. Мои личные воспоминания, которым взрослые не верили, были сродни воспоминаниям эмбриона в утробе матери или каким-то вещим снам.
Таковым было состояние окружающего мира, когда я начал себя осознавать и ничего другого не запомнил – лишь боль, грусть, неуверенность, одиночество в огромном доме. На протяжении долгих лет меня мучили по ночам кошмары, преследуя до самого утра. В отрочестве в холодном колледже в Андах я многажды просыпался от собственного крика. Мне нужно было самому дожить до старости, чтобы понять то сиротство и ностальгию, в которых пребывали мои дед с бабушкой. Точнее сказать, они проживали в Катаке, но душой оставались в провинции Падилья, которую мы все просто называли Провинцией, без уточнения, как будто и так все всем было понятно и другой в мире быть не могло. Возможно, и не задумываясь об этом, подсознательно они построили в Катаке дом, выдержанный в помпезном стиле дома в Барранкасе, из окон которого виднелось на другой стороне улицы кладбище, где покоился Медардо Пачеко.
В Катаке они были уважаемы и любимы, но их жизнь, словно незримой пуповиной, была связана с родной землей. Они сплотились и оградились от внешнего мира баррикадами предрассудков, верований, привычек. Все их дружеские связи сложились еще до того, как они оставили Провинцию. Домашний язык был тем, который их деды в прошлом веке привезли из Испании через Венесуэлу, но разбавленный и разукрашенный карибскими словечками и выражениями африканских рабов, а также наречия гуахиро. Бабушка использовала его, когда хотела от меня что-то скрыть, не зная, что благодаря общению со слугами я прекрасно все понимаю. Я и по сей день помню: атункеши – я хочу спать, хамусаитши тайа – я голоден, ипувотс – беременная женщина, арихуна – приезжий. Последнее бабушка употребляла, чтобы обозначить «белого человека», испанца, в качестве недруга. Гуахиро же со своей стороны говорили на кастильяно, классическом испанском с причудливо посверкивающими вкраплениями, своеобразными уточнениями, как, например, наша Чон, которую бабушка то и дело поправляла: «Коровьи уста».
Дня не проходило без известий о том, кто родился в Барранкасе, скольких забодал бык в корале Фонсеки, кто женился в Манауре или умер в Риоаче, как провел ночь генерал Сокаррас, тяжело болевший в Сан-Хуан-дель-Сезар.
В правлении банановой компании по бросовым ценам продавались яблоки из Калифорнии, завернутые в тонкую оберточную бумагу, окаменевшие во льду окуни, ветчина из Галисии, греческие оливки. Но почти ничего в доме не подавалось к столу без приправ из ностальгии: маланга для супа непременно должна была быть из Риоачи, маис для лепешек к завтраку из Фонсеки, козлята должны были быть обязательно выращены на пастбище Гуахиры, а черепахи и лангусты – доставлены живыми из Дибуйи. Прибывающие в большинстве своем были из Провинции, притом всегда почему-то с одними и теми же фамилиями: Риаско, Ногуэра, Овалье, порой и с вмешательством фамилий благородных родов – Котес и Игуаран. Приезжали на поезде и приходили пешком, иногда не имея с собой ничего, кроме котомки на плече, о визитах не предупреждали, но само собой разумелось, что если уж приходили, то оставались у нас завтракать или жить. Я не забуду ритуальной фразы бабушки при входе на кухню:
– Надо всякой всячины впрок наготовить, никто же не знает вкусов тех, кто прибудет.
Эта неразрывность с Провинцией была обусловлена и географически. Издревле компактно, точно остров, располагаясь в плодородном каньоне между Сьерра-Невадой в Санта-Марте и горами Периха в колумбийских Карибах, Провинция была открыта миру даже более, чем стране, благодаря связям с Антильскими островами через Ямайку или Курасао и с Венесуэлой, границы с которой фактически не существовало и никто не делал никаких различий по рангам или цвету кожи. Из внутренней же части страны, которая на медленном огне варилась в собственном соку, доносился угарный газ власти: новые законы, налоги, солдаты, дурные новости, привозимые с высоты в две тысячи пятьсот метров и с расстояния в восемь дней плавания по реке Магдалена на пароходе, топившемся дровами.
Такая островная природа породила своеобычную культуру, которую бабушка и дед насаждали в Катаке. Дом представлял собой гораздо больше, чем просто домашний очаг, – он был целым селением в селении. Мизансцены за огромным столом беспрерывно менялись, и лишь одна оставалась неизменной с тех пор, как мне исполнилось три года: полковник во главе стола и я на углу от него по правую руку. Остальные места занимались в первую очередь мужчинами, затем садившимися отдельно женщинами. Исключения делались по национальным праздникам, например, 20 июля, и обеды длились до тех пор, пока все в доме-селении не поедят, а народу бывало много. Вечерами стол не накрывался, лишь на кухне раздавались чашки с кофе с молоком и чудесной бабушкиной выпечкой. Когда закрывалась входная дверь, каждый вешал гамак, где и как хотел, на разных уровнях, в том числе и на деревьях в патио.
Одно из самых ярких впечатлений детства – когда приехала целая группа похожих друг на друга мужчин в крагах и со шпорами наездников, с нарисованными пеплом на лбах крестами. Это были сыновья полковника от разных женщин, с которыми он встречался на просторах Провинции во время Тысячедневной войны, съехавшиеся из деревень, чтобы с почти месячным опозданием поздравить своего отца с днем рождения. Перед приходом к нам в дом они были на мессе Пепел и Крест, и кресты, которые нарисовал пеплом у них на лбах падре Ангарина, показались мне неким потусторонним знаком, тайна которого преследовала меня много лет, даже и после того, как я стал причащаться и привык к праздничным литургиям Святой недели.
Большинство из них родились после свадьбы бабушки и деда. Мина записывала их имена и фамилии в записную книжку, как только узнавала об их рождении, и скрепя сердце включила в состав семьи. Но ни ей, никому другому было непросто различать их до того шумного визита, когда каждый засвидетельствовал свою индивидуальность и своеобычность образа жизни. Впрочем, они все были серьезные и трудолюбивые, уже состоявшиеся мужчины, создавшие свои дома, рассудительные, но тем не менее заводные и азартные в общем веселье. Они побили в гостиной посуду, поломали розовые кусты, преследуя теленка, вознамерившись зачем-то его качать, дуплетом расстреливали наших кур для санкочо и выпустили свинью, которая едва не затоптала с перепугу вышивавших в галерее женщин. Но никто в доме не серчал, не делал им замечаний – благодаря забившему с их приездом фонтану счастья.
Потом я часто виделся с Эстебаном Карильо, близнецом тети Эльвиры, большим искусником в ручных ремеслах, который, куда бы ни отправлялся, всегда имел при себе ящик инструментов, чтобы любезно чинить любую поломку в домах, которые посещал. Со своим чувством юмора и отменной памятью он заполнил для меня многие пробелы в истории семьи, казавшиеся безнадежными. Также в отрочестве я часто встречался с дядей Николасом Гомесом, ярким блондином в веснушках, который всегда бережно хранил свою незапятнанную репутацию лавочника в старинной исправительной колонии в Фундасион. Растроганный воспоминаниями о былом величии и веселии нашего дома, обычно он вручал мне на прощание сумку со съестными припасами с рынка, чтобы самому налегке куда-нибудь вновь отправиться. Рафаэль Ариас бывал всегда проездом, всегда в спешке, на муле в одежде всадника, у него едва хватало времени стоя выпить кофе на кухне. Других я встречал по отдельности в своих ностальгических странствиях, которые совершил позже по селениям Провинции, чтобы собрать и выверить материал для первых романов, но всегда ловил себя на мысли, что мне недостает креста из пепла на лбу – как непреложного свидетельства фамильной принадлежности.
Многие годы спустя после смерти бабушки и деда и после того, как оставил наш дом на волю судьбы, я приехал в Фундасион на ночном поезде и уселся в единственном открытом в этот час месте, где можно было хоть как-то перекусить, там же, на станции.
На стол почти нечего уже было подавать, но хозяйка сымпровизировала в мою честь вполне приличное блюдо. Она была бойкой на язык и предупредительной, но за внешней мягкой оболочкой угадывался фамильный женский характер. И это мое ощущение подтвердилось через несколько лет: бойкая хозяйка бодеги оказалась Сарой Нориега, еще одной моей неизвестной теткой.
Аполинар, старый слуга, маленький крепыш, которого я всегда воспринимал как своего дядю, исчез из дома на многие годы, но однажды вечером вдруг объявился, облаченный в траур, в шерстяном черном костюме и широкополой черной шляпе, надвинутой на глаза, полные безысходной печали. Пройдя на кухню, он сообщил, что приехал на похороны, но никто его не понимал до тех пор, пока на другой день не пришло известие о том, что дедушка скоропостижно скончался в Санта-Марте, куда его второпях тайком привезли.
Единственный из моих дядьев, который имел вполне определенный вес в обществе, был и единственный консерватор – Хосе Мария Вальдебланкес, который во время Тысячедневной войны в качестве сенатора Республики присутствовал при подписании капитуляции на вилле Неерландии. В то время как среди побежденных противников находился его отец.
Я убежден, что формированием моей личности, образа мыслей и всей жизни на самом деле я в большей степени обязан женщинам: как членам семьи, так и прислуге. Они все были наделены сильным характером и нежным сердцем и со мной обращались как будто с заведомо обусловленной непринужденностью и щедростью земного рая. Одно из острейших моих воспоминаний – история, обескураживавшая своей внезапностью, ей я обязан лукавой Лусии, которая как бы невзначай завела меня в переулок проституток и там вдруг задрала халат до пояса и продемонстрировала свою буйную медную растительность. Но меня тогда больше заинтересовали следы от укусов москитов, распростершиеся внизу ее живота подобно карте полушарий с темно-лиловыми дюнами и желтыми океанами. Другие женщины казались архангелами непосредственности, они спокойно переодевались, раздевались передо мной догола и купали меня, сажали на ночной горшок и сами садились передо мной, чтобы справить нужду, избавиться от своих тайн, забот, огорчений, как будто в моем сознании не могло что-либо увязаться и сложиться в единое целое.
Служанка Чон была совсем из простых. Она приехала из Барранкас с бабушкой и дедушкой, когда была еще ребенком, выросла на кухне и вошла в семью, но с тех пор, как сопровождала по Провинции мою влюбленною мать, с ней обращались как с тетей-компаньонкой. В последние годы жизни она по своей воле переехала в собственную квартиру в самой бедной части селения и жила тем, что с рассвета торговала на улицах шариками из дробленого маиса для кукурузных лепешек, сопровождая это родными для меня возгласами в утренней тишине: «Полуфабрикаты старой Чон!..»
У нее был красивый индейский цвет кожи, и всегда казалось, что она составлена из одних костей. Ходила босая, в белом тюрбане и завернутая в накрахмаленные хламиды типа плаща, часто посередине улицы, с эскортом молчаливых послушных дворняжек, круживших вокруг нее.
Дошло до того, что она стала частью деревенского фольклора. На некоторых карнавалах появлялся ряженый, похожий на нее, в ее хламидах и с ее присказкой, однако никому не удавалось так выдрессировать эскорт бездомных собак. Ее возгласы о полуфабрикатах обрели такую популярность, что сделались припевом известной песни, исполнявшейся под аккордеон. В одно злополучное утро два злобных пса набросились на ее добродушных дворняг, и, отчаянно защищая своих, Чон упала навзничь и сломала позвоночник. Несмотря на все старания и лекарства, которыми снабжал ее мой дед, она скончалась.
Другое яркое воспоминание из того времени – роды Матильды Арменты, прачки, которая работала в доме, когда мне было шесть лет. Я по ошибке зашел в ее комнату и застал ее на кровати с льняными простынями, голой, с широко раскинутыми ногами. Она выла от боли в окружении повивальных бабок, столпившихся вокруг и с криками помогавших ей разродиться. Одна вытирала ей пот с лица влажным полотенцем, другие с силой держали руки и ноги и массировали живот, чтобы ускорить роды. Сантос Вильеро, невозмутимый среди этого хаоса, шептал молитвы, одну за другой, с закрытыми глазами, склоняясь все ниже, и казалось, что он тонет между ляжек роженицы. Жара в комнате, наполненной паром кипящей воды в котелках, которые приносили с кухни, была невыносимой. Я вжался в угол, разрываясь между страхом и любопытством, и стоял там до тех пор, пока акушерка не вытащила из живота за щиколотки кусок живого мяса наподобие телятины, но с окровавленной кишкой, свисающей из пупка. Тогда одна из женщин обнаружила меня в углу и волоком вытащила из комнаты.
– Ты совершил свой первый смертный грех, – сказала она мне. И закляла, грозя пальцем: – Забудь, что ты видел так женщину.
Но женщина, с которой я действительно впервые согрешил, лишившая меня невинности, скорее всего не помышляла о том. Ее звали Тринидад, она была дочерью кого-то из тех, кто работал в доме, и едва начала расцветать смертоубийственно-прекрасным женским цветом. Ей было около тринадцати лет, но она носила то же платьице, что и в девять, настолько облегавшее ее тело, что она казалось даже более голой, чем без платья. Однажды ночью, когда мы с ней были одни во дворе, туда вдруг ворвалась музыка оркестра из соседнего дома, и Тринидад обеими руками схватила и притиснула меня к себе, чтобы танцевать, с такой исконной страстью, что во мне все захолонуло. Не знаю, что за магнетизм от нее исходил, но до сих пор иногда вздрагиваю и пробуждаюсь среди ночи взбудораженный и уверен, что и сейчас бы безошибочно узнал ее в темноте по прикосновению даже дюйма ее волшебной кожи, по магическому животному запаху.
В мгновение ока, будто момент истины, все существо мое пронзил такой всполох-разряд рая, ничего подобного которому никогда впоследствии я не испытывал и который не страшусь всю свою жизнь вспоминать как чудесную смерть. Тогда я и постиг неким непостижимым, ирреальным образом, что существует на свете великая порочная тайна плоти, о которой не ведал, но которая заложила такой вулкан в мое нутро, будто я о ней знал задолго до появления на свет. Напротив, женщины семьи всегда уверенно вели меня проверенным веками курсом целомудрия.
Утрата невинности утвердила меня и в знании, что не Сын Божий приносит нам подарки на Рождество, но говорить об этом не принято. Еще в десять лет отец открыл мне этот секрет взрослых, потому что был уверен, что я уже догадывался, и отвел в рождественские лавки, чтобы выбрать игрушки для моих братьев и сестер. Подобное же произошло со мной в отношении рождения детей, еще до того, как я тайно стал очевидцем родов Матильды Арменты; я покатывался со смеху, когда говорили детям, что аист их приносит из Парижа. Но я должен признаться, что ни в детстве, ни сейчас мне не удавалось соотнести роды и секс. Так или иначе, но думаю, что моя близость с прислугой могла стать началом нити, тайно связующей меня, смею надеяться, с прекрасным полом, и которая на протяжении всей моей жизни позволяла мне чувствовать себя более спокойно и уверенно с женщинами, чем с мужчинами. Также оттуда, быть может, и мое неколебимое убеждение в том, что именно на женщинах держится мир, в то время как мужчины вносят в него разлад, вечно стремясь творить историю.
Сара Эмилия Маркес имела, не подозревая о том, нечто общее с моей судьбой. Преследуемая с ранней юности ухажерами, которых не удостаивала даже взглядом, она вдруг решилась сойтись с первым, кто ей показался симпатичным, и навсегда. Ее избранника, в свою очередь, роднило с моим отцом то, что он был приезжим незнамо откуда, с исправными документами, но неизвестными источниками дохода. Его звали Хосе дель Кармен Урибе Верхель, но иногда он подписывался только – X. дель К. Прошло некоторое время, прежде чем узнали, кем он был в действительности и откуда приехал. Стало известно, что он пишет по заказу речи для чиновников, а также стихи о любви, которые публикует в собственной газете, периодичность коей зависит от воли Божией. С тех пор как он появился в доме, я неустанно и тайно восхищался его славой писателя, первого, которого я узнал в своей жизни. Мне хотелось быть таким же, как он, и я не успокаивался, пока тетя Мама не научилась делать мне прическу, как у него.
Я был первым в семье, кто узнал о его любовной тайне, это случилось однажды вечером, когда он зашел в дом напротив, где я играл со своими друзьями. Он отозвал меня в сторону, явно волнуясь, и дал мне письмо для Сары Эмилии. Я знал, что она сидела у дверей дома, ожидая подругу. Я пересек улицу и, укрывшись под одним из миндальных деревьев, бросил письмо с такой точностью, что оно упало ей прямо на колени. В испуге она вскинула руки, но крик застыл у нее в горле, когда она поняла, что это письмо в конверте. С тех пор Сара Эмилия и X. дель К. стали моими друзьями.
Эльвира Карильо, сестра-близнец дяди Эстебана, скручивала и выжимала руками сахарный тростник с силой настоящей давильни. Она славилась больше своей грубой прямотой, чем своей нежностью, с которой умела тем не менее обращаться с детьми, особенно с моим братом Луисом Энрике, который был годом младше меня. Для него, почему-то называвшего ее тетей Па, она являлась как строгой воспитательницей, так и сообщницей. Ее на каждом шагу преследовали неразрешимые проблемы. Она и Эстебан первыми приехали в дом в Катаке, но пока он искал свое призвание, чем только не занимаясь, какие профессии не меняя, она оставалась тетей в семье, не отдавая, возможно, себе отчета в том, насколько была ей необходима. Она исчезала, когда в ней не было необходимости, и непонятно откуда и как появлялась, когда оказывалась нужна. Будучи не в духе, она сама с собой разговаривала на кухне, помешивая еду в горшке, и во всеуслышание проклинала предметы, которые не могла найти. Тревожимая до полуночи загробным кашлем из соседней комнаты, она одна оставалась в доме после того, как похоронили стариков, пока сорняк пожирал пядь за пядью и домашние животные бесприютно блуждали по спальням.
Франсиска Симодосеа – тетя Мама – генеральша рода, которая умерла девственницей в шестьдесят девять лет, отличалась своими привычками и манерой говорить. Потому что ее культура не принадлежала Провинции, но феодальному раю саванн Боливара, куда ее отец, Хосе Мария Мехиа Видал, эмигрировал совсем юным из Риоачи со своим ремеслом ювелира. Она оставила расти до колен свои волосы цвета бурой свиной щетины, которые сопротивлялись седине, до старости. Она их мыла водой с эссенциями раз в неделю и садилась расчесывать в двери своей спальни, будто исполняя священный многочасовой церемониал, уничтожая в беспокойстве самокрутки из табака, которые курила наоборот – с огнем внутри рта, как делали военные-либералы, чтобы не быть обнаруженными противниками в ночной темноте. Ее манера одеваться также Отличалась: она ходила в коротких юбках и корсажах из чистого льна и в бархатных туфлях без задника.
В противоположность благородству речи бабушки тетя Мама говорила на самом развязном народном жаргоне. Она не стеснялась в выражениях ни перед кем, ни при каких обстоятельствах и каждому выкладывала всю правду в лицо. Включая даже монахиню, учительницу моей матери в интернате в Санта-Марте, которую безо всякой причины прервала пустячной дерзостью: «Вы из тех, кто путают задницу с головой». Однако в ее устах эти выражения почти не казались ни грубыми, ни дерзкими.
Половину жизни она была хранительницей ключей от кладбища, она записывала и выдавала метрики о кончине и делала дома облатки для мессы. Она была единственной в семье, казалось, не терзавшаяся в противоречиях любви. Мы осознали это однажды вечером, когда врач готовился поставить ей зонд и она воспрепятствовала ему с доводом, который тогда я не понял: «Я хочу признаться вам, доктор, я никогда не знала мужчины».
С тех пор я часто слышал эту фразу, но никогда она мне не казалась ни хвастовством, ни сожалением, но только свершившимся фактом, не оставившим никакого следа в ее жизни. Напротив, она была изворотливой свахой, путавшейся в своей двойной игре между моими родителями и Миной.
У меня есть впечатление, что она лучше находила взаимопонимание с детьми, чем со взрослыми. Это она заботилась о Саре Эмилии, пока та не переехала одна в комнату с деревянными балками в Кальехе. Тогда она приютила нас, меня и Марго, в своем жилище, хотя бабушка продолжала присматривать за моей личной гигиеной, а дедушка заниматься формированием из меня мужчины.
До сих пор меня тревожат воспоминания о тете Петре, старшей сестре дедушки, которая приехала из Риоачи к ним, когда ослепла. Она жила в комнате, смежной с бюро, где позже располагалась ювелирная мастерская, и развивала волшебную ловкость, чтобы свободно двигаться в своих потемках без чьей-либо помощи. До сих пор я помню ее, как будто это было вчера, идущей без палки, будто зрячая, медленно, но без сомнений и руководствуясь только запахами. Она узнавала свою комнату по испарениям соляной кислоты из смежной ювелирной мастерской, галерею – по аромату жасминов из сада, спальню бабушки и дедушки – по алкогольному запаху мадеры, которой они растирали свои тела перед сном, комнату тети Мамы – по запаху масла в лампадах, и в конце галереи аппетитный запах кухни. Она была статной и тихой, с кожей, напоминавшей засохшие лилии, и волосами блестящего перламутрового цвета, которые носила распущенными до пояса и которыми занималась сама. Ее зеленые прозрачные глаза подростка меняли излучение в зависимости от состояния ее души. В любом случае это были случайные прогулки, потому что чаще она оставалась весь день в комнате с притворенной дверью и почти всегда одна. Порой она напевала вполголоса для себя самой, и ее голос можно было перепутать с голосом Мины, но ее песни были другие и более грустные. От кого-то я слышал, что это были романсы из Риоачи, но только уже взрослым я узнал, что на самом деле она пела на ходу сочиненные слова. Два или три раза я не смог воспротивиться искушению без спроса зайти в ее комнату, но ее там не обнаружил. Годы спустя, во время моих каникул бакалавра, я рассказал об этом своем впечатлении матери, но она поспешила убедить меня в моем заблуждении. Ее довод был категоричен, и я поверил ей без тени сомнений: тетя Петра умерла, когда мне не было и двух лет.
Тетю Венефриду мы звали Нана, и она была самой веселой и приятной в роду, но мне удается вызвать ее дух в своем воображении, только в постели больной. Она была замужем за Рафаэлем Кинтеро Ортегой, дядей Кинте, адвокатом бедных, родившимся в Чиа, что в пятнадцати лигах от Боготы и на той же высоте над уровнем моря. Но он так хорошо адаптировался на Карибах, что в преисподней Катаки нуждался в бутылках с горячей водой для ног, чтобы заснуть в прохладе декабря. Семья уже пришла в себя после несчастья с Медардо Пачеко, когда дяде Кинте досталось испытать свое за убийство адвоката противной стороны в судебной тяжбе. Он имел образ человека доброго и мирного, но противник изводил его без передышки, и у него не осталось другого средства, как вооружиться. Он был такой маленький и костлявый, что носил детские ботинки, и его друзья сердечно подшучивали над ним, потому что револьвер раздувался как пушка под его рубашкой. Дедушка его предупредил всерьез знаменитой фразой: «Вы не знаете, сколько весит смерть».
Но у дяди Кинте не было времени подумать об этом, когда враг преградил ему путь с бесноватыми криками в приемной суда и навис над ним своим чудовищным телом. «Я даже не осознал, как я выхватил револьвер и выстрелил в воздух двумя руками и с закрытыми глазами, – рассказал мне дядя Кинте незадолго до своей смерти в столетнем возрасте. – Когда я открыл глаза, – продолжал он, – я увидел его еще державшимся на ногах, большого и бледного, а потом он стал обваливаться очень медленно, пока не сел на пол». До тех пор дядя Кинте не отдавал себе отчета, что попал ему точно в центр лба. Я спросил его, что он почувствовал, когда увидел, что тот упал, и меня удивила его откровенность:
– Огромное облегчение!
Мое последнее воспоминание о его жене Венефриде – вечер больших дождей, когда колдунья изгоняла из нее злых духов. Она не соответствовала общепринятым представлениям о ведьмах, это была приятная женщина, хорошо одетая по моде, которая изгоняла пучком крапивы плохое расположение духа из тела, пока пела заклинание, как колыбельную песню. Вдруг Нана изогнулась в глубокой конвульсии, и птичка величиной с цыпленка с переливчатыми перьями выпорхнула из простыней. Женщина поймала ее в воздухе мастерским ударом и завернула в черный лоскут, который приготовила заранее. Она приказала разжечь костер во внутреннем дворике и безо всяких церемоний бросила птичку в пламя.
Но Нана не освободилась от своих напастей.
Немного спустя костер во дворе вновь разгорелся, когда курица снесла фантастическое яйцо, похожее на шарик для пинг-понга с отростком в виде фригийской шапки. Моя бабушка тут же его опознала: «Это яйцо василиска». Она сама бросила его в огонь, шепча заклинания.
Бабушку и дедушку всю жизнь вижу мысленным взором только в том возрасте, в котором они живут в моих воспоминаниях о той поре. Тот возраст, что на портретах, которые им сделали на заре старости, и чьи копии, с каждым разом все более тусклые, передавались, по родовому обряду, через четыре плодовитых поколения. Особенно портреты бабушки Транкилины, самой доверчивой и впечатлительной женщины, которую я когда-либо знал, испытывавшей ужас перед тайнами каждодневной жизни. Она старалась оживить свои обязанности, распевая во весь голос старые песни о влюбленных, но вскоре прерывала их своим воинственным криком против судьбы:
– Радуйся, Пресвятая дева Мария!
Потому что ей мерещилось, что кресла-качалки раскачиваются сами по себе; призрак послеродовой горячки проникает в спальни рожениц; запах жасминов из сада – невидимое привидение; веревка, вытащенная случайно из пола, имеет форму чисел, соответствующих главному выигрышу в лотерею; а птица без глаз заблудилась в столовой и изгнать ее можно только Акафистом. Она полагала, что можно расшифровать с помощью тайного кода тождество главных героев и мест из песен, которые к ней пришли из Провинции. Она представляла себе беды, которые рано или поздно случатся, предчувствовала, кто скоро приедет из Риоачи в белой шляпе или из Манауре с кишечной коликой, которую только и можно вылечить желчью индейки, потому что сверх того, что была профессиональной предсказательницей, еще и владела тайной знахарства.
У нее была очень необычная система для толкования сновидений, своих и чужих, управлявших ежедневным поведением каждого из нас и определяющих жизнь дома. Тем не менее она едва не умерла без всяких предзнаменований, когда рывком сдернула простыню со своей кровати и тут же раздался выстрел револьвера, который полковник прятал под подушкой, чтобы иметь его под рукой даже во сне. По траектории пули, вонзившейся в потолок, установили, что он прошел очень близко от лица бабушки.
С тех пор как я себя помню, я страдал от утренней процедуры, во время которой Мина чистила мне зубы, а сама пользовалась магической привилегией вынимать свои, чтобы помыть их, и оставлять в стакане с водой, пока она спала. Убежденный, что это были ее натуральные зубы, которые она снимала и надевала с помощью волшебства гуахиро, я заставил ее показать мне внутренность рта, чтобы увидеть изнутри, какой была обратная сторона глаз, мозга, носа, ушей, и страдал от разочарования, не увидев ничего, кроме нёба. Но никто не смог открыть мне смысл чуда, и уже через значительное время я настаивал, чтобы дантист сделал такие же зубы, как у бабушки, и она чистила бы их, пока я играю на улице.








