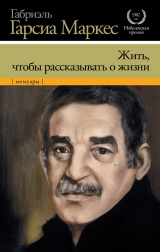
Текст книги "Жить, чтобы рассказывать о жизни"
Автор книги: Габриэль Гарсиа Маркес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Кровь мне ударила в голову так, что все поплыло, и я уже не понимала, взбешена я или испугана, – сказала она мне.
Он это понял и нанес последний сокрушительный удар:
– Теперь у вас нет другого выхода, кроме как сказать мне «да», потому что ваше сердце за вас уже это сказало.
Она оборвала его на полуслове и ушла, но мой отец, так и оставшись стоять посреди зала, все понял.
– Я был счастлив, – сказал он мне.
И все же Луиса Сантьяга не смогла совладать с раздражением, направленным на себя саму, когда на рассвете ее разбудили победоносные звуки вальса «После бала». На следующий день она вернула Габриэлю Элихио все его подарки, нанеся незаслуженную обиду, но ничего нельзя уже было изменить: дальнейшие события, как перья, брошенные по ветру, неудержимо влеклись в одном направлении. И все восприняли это как должный финал летней бури. К тому же у Луисы Сантьяги произошел рецидив малярии, которой она страдала в детстве, и мать увезла ее на лечение в райское местечко Манауре у излучины реки в отрогах Сьерры-Нева-ды. Оба моих родителя уверяли, что в те месяцы, пока она болела, они не поддерживали связь, но в это не слишком верится, так как когда она выздоровела, то и он сразу будто заново родился. Отец рассказывал мне, что поехал встречать ее на станцию, потому что был извещен о приезде телеграммой от Мины, в которой она передавала привет от самой Луисы Сантьяги, что он расценил не иначе как откровенное любовное послание. Она сама, правда, это отрицала с застенчивостью, с которой вообще всегда вспоминала те годы. Но факт тот, что с тех пор между ними стало гораздо меньше недомолвок и они уже открыто появлялись на людях вместе. Не хватало лишь заключительного аккорда, который взяла тетя Франсиска на следующей неделе, когда они шили в галерее с бегониями.
– Мина уже все прекрасно знает, – сказала она. Луиса Сантьяга всегда говорила, что противостояние ее семьи, как плотина, удержало ее от устремления сердца идти танцевать с Габриэлем Элихио и оставить его стоять посреди зала неприкаянным. Это была настоящая война. Полковник поначалу делал вид, что не собирается вмешиваться, но Мина со свойственной ей манерой резать правду-матку в глаза вывела его на чистую воду: он оказывал влияние на дочь, и весьма значительное. В роду испокон века считалось едва ли не аксиомой, что любой жених, по определению, – проходимец. И именно на этих тлеющих углях атавистического костра из поколения в поколение готовились обособленные единства одиноких, спаянных между собой женщин и мужчин с вечно расстегнутой ширинкой, круглосуточно готовых налево и направо строгать внебрачных детей.
Друзья семьи в зависимости от возраста поделились на два лагеря: «за» и «против» влюбленных. Но были и придерживавшиеся нейтралитета. Молодые стали веселыми сообщниками. Особенно жениха забавляла роль жертвы общественных предрассудков. Кривотолки о том, что некий пронырливый прохиндей-телеграфист намеревается сугубо по расчету жениться на Луисе Сантьяге – главном сокровище богатой и могущественной семьи, его даже окрыляли. Да и сама она, прежде послушная скромница, теперь противостояла этим кривотолкам с яростью только что родившей львицы. В разгар одного из домашних скандалов Мина в гневе бросилась на дочь с ножом для резки хлеба. И Луиса Сантьяга отважно подставила грудь. Опомнившись, Мина отбросила нож и с ужасом воскликнула:
– Господи Боже мой!
И словно в искупление, обожгла себе ладонь о раскаленные угли плиты.
Одним из главных аргументов против Габриэля Элихио был тот, что он – незаконнорожденный бедной учительницей, в сорокалетнем возрасте отдавшейся какому-то учителю на школьной парте. Ее звали Архемира Гарсиа Патернина, это была белокожая стройная женщина свободных нравов, имевшая, кроме Габриэля Элихио, еще пятерых сыновей и двух дочерей, по крайней мере от трех разных мужчин, ни с одним из которых не состояла в браке. Она жила в селении Синее, где родилась, где самостоятельно вырастила и по-своему воспитала детей, красивая, с веселой открытой душой женщина, которую мы, внуки, впервые встретившись с ней в Вербное воскресенье, очень полюбили.
Габриэль Элихио был ярким представителем этого рода гуляк-голодранцев. С шестнадцати лет не было счета его любовницам, многих девушек, по крайней мере пятерых, он лишил невинности, в чем исповедовался моей матери в первую их брачную ночь на борту хлипкой шхуны, шедшей в Риоачи, швыряемой штормом. Он признался, что одна из них, восемнадцатилетняя телеграфистка в селении Анчи, родила от него сына Абелардо, которому уже исполнилось три года. Другая, двадцатилетняя телеграфистка в Аяпель, на которой он обещал жениться до того, как влюбился в Луису Сантьягу, несколько месяцев назад родила от него дочь Кармен Росу. О рождениях детей ему сообщал нотариус, но их матери никаких претензий к Габриэлю Элихио не имели.
Удивительно, что такой морально-нравственный облик мог беспокоить полковника Маркеса, который параллельно с тем, как зачал троих законных сыновей, сделал не меньше девятерых на стороне, и все были приняты его супругой как свои собственные. Не могу вспомнить, когда я узнавал о похождениях родственников, они были бесконечны, да меня это и не очень-то расстраивало. Мое внимание всегда привлекали наши фамильные имена. Сперва по материнской линии: Транкилина, Венефрида, Франсиска Симодосеа. Позже и по отцовской: Архемира, ее родители Лосана и Амина-даб… Пожалуй, от этого во мне вызрело понимание того, что персонажи моих романов не оживут, пока не найдутся соответствующие их образам и характерам имена.
А аргументы против Габриэля Элихио подкреплялись еще и тем, что он являлся активным членом консервативной партии, против которой воевал в свое время либерал-полковник Николас Маркес. После подписания договора между Неерландией и Висконсином мир был достигнут лишь наполовину, но прошло еще немало времени, прежде чем возобладал централизм, а правые и либералы перестали показывать друг другу зубы. Возможно, консерватизм Габриэля Элихио был не столько его убеждением, сколько семейной инфекцией, но все же этому придавалось большее значение, чем его остроумию и несомненной честности. Отец был человеком непредсказуемым и самолюбивым, ему трудно угодить. Он всегда был намного беднее, чем казался, бедность для него была злейшим врагом, которому он, однако, так и не смог ни покориться, ни нанести поражение. Все злоключения, касающиеся его ухаживаний за Луисой Сантьягой, он переносил стойко, чаще, насколько я знаю, в одиночестве. В подсобном помещении телеграфа в Аракатаке у него был подвешен односпальный гамак, однако рядом стояла холостяцкая раскладушка с хорошо смазанными пружинами – на всякий случай. Временами в нем просыпался инстинкт ночного охотника и одиночество его скрашивали – но все же это было одиночество, и когда я это понял, то ощутил глубокое сочувствие к нему.
Незадолго до смерти он рассказывал мне о том, какие обиды ему наносились. Однажды с несколькими друзьями он пришел в дом к полковнику, тот всем предложил сесть, кроме него. Родственники матери всегда это отрицали, уверяя, что Габриэль Элихио просто всегда был слишком обидчив, но моя бабушка, будучи почти уже в столетнем возрасте, вспоминая былое, в полубреду однажды проговорилась с искренним сожалением:
– Да, я помню, как один бедняга стоял у двери гостиной, а Николасито не предложил ему даже присесть.
Привыкший к ее неожиданным и порой ошеломительным разоблачениям, я спросил, кто был этот бедняга, и она чуть удивленно, будто ответ был очевиден, сказала:
– Как это кто, Гарсиа, тот, что со скрипкой.
Среди нелепостей истории ухаживания, мало вяжущихся с характером и образом жизни Габриэля Элихио, была та, например, что, опасаясь непредсказуемости и вспыльчивости отставного полковника, наслышанный о давнишней дуэли, он приобрел себе револьвер. Почтенный, сменивший многих хозяев «смит-и-вессон» 38-го калибра, на счету которого было бог знает сколько убитых. Но я уверен, что он даже из любопытства или для проверки ни разу из него не выстрелил. Мы, его старшие сыновья, нашли его много лет спустя с пятью родными патронами в шкафу среди какого-то хлама, рядом со скрипкой, на которой он исполнял серенады.
Ни Габриэль Элихио, ни Луиса Сантьяга не спасовали перед трудностями и очевидным противодействием семьи. Вначале они имели возможность встречаться в домах общих друзей, но когда круг вокруг нее сжался, единственной формой общения стали письма, получаемые и отправляемые самыми хитроумными путями. Виделись они лишь издали на многолюдных праздниках. Расправа могла быть суровой, Транкилине Игуаран никто не осмеливался перечить, и посему они постепенно перестали видеться на людях. Когда и тайная переписка стала невозможной, они все же изобретали самые немыслимые ухищрения, находили удивительные пути. Так, например, ей удалось спрятать визитную карточку с поздравлением в пудинг, заказанный на день рождения Габриэля Элихио, а тот умудрился отправлять ей бессмысленные для чужих глаз послания с зашифрованным или написанным симпатическими чернилами текстом. Сообщничество тети Франсиски сделалось настолько очевидным, что теперь ей позволялось выходить с племянницей разве что пошить перед домом под миндальными деревьями. Габриэль Элихио и тут нашел выход: он передавал любовные послания на языке глухонемых из окна дома Альфредо Барбосы на противоположной стороне улицы. И она постепенно выучила язык глухонемых настолько, что, когда тетя отвлекалась, могла вести с женихом безмолвный интимный разговор. Это был один из многочисленных трюков, придуманных Адрианой Бердуго, повивальной бабкой Луисы Сантьяга, ее самой преданной и отважной сообщницей.
Так поддерживался огонь в печи их чувств, пока Габриэль Элихио не получил от Луисы Сантьяги письмо, заставившее его срочно принимать решение. Она черкнула на обрывке туалетной бумаги, что родители придумали жестокое лекарство от любви: отправить ее в селение Барранкас. Предстояло не плавание на шхуне ночью по бурному морю из Риоачи, а долгий и трудный путь по отрогам Сьерры-Не-вады на мулах через всю обширную провинцию Падилья.
– Я бы предпочла умереть. – сказала мне мать в день, когда мы с ней поехали продавать дом.
И она действительно пыталась это сделать, закрывшись на толстую палку в своей комнате, сидя там в течение трех суток на хлебе и воде, пока почтительный трепет, который она испытывала перед своим отцом, не возобладал. Габриэль Элихио понимал, что напряжение достигло предела и отступать некуда. Широкими шагами он пересек улицу от дома доктора Барбосы и подошел к женщинам, шившим в тени миндальных деревьев.
– Сеньора, – обратился он к тете Франсиске, – сделайте одолжение, оставьте нас с сеньоритой буквально на секунду, мне необходимо сказать ей нечто очень важное.
– Наглец! – возмутилась тетушка. – У нее нет и быть не может от меня секретов.
– Тогда я ей ничего не скажу, – заявил он, – но имейте в виду, что ответственность за то, что произойдет, ляжет на вас.
На свой страх и риск, Луиса Сантьяга умолила тетю оставить их с глазу на глаз. Габриэль Элихио торопливо сообщил, что согласен на ее поездку с родителями и будет ждать ее, сколько потребуется, но с условием, что она поклянется выйти за него замуж. Она осчастливила его, сказала, что только смерть могла бы помешать их союзу. Им предстояло почти год провести в разлуке, чтобы испытать на прочность свои чувства, но ни он, ни она не могли себе представить, чего на самом деле это будет им стоить.
Первая часть путешествия верхом на муле с караваном погонщиков по отрогам Сьерры-Невады длилась две недели. Их сопровождала Чон, уменьшительное имя от Энкарнасион, служанка Венефриды, которая жила в семье с тех пор, как переехали из Барранкаса. Полковник прекрасно знал ту обрывистую дорогу, в глухих селениях вдоль которой во время войны зачал не одного ребенка, но жена его предпочла бы вовсе ее не знать, хотя и морских путешествий не любила. Для моей матери, впервые оседлавшей мула, это было сплошным кошмаром, ночным и дневным, под палящим солнцем и яростными ливнями, с душой, падающей в пятки, над бездонными, затянутыми влажной дымкой пропастями. Но особенно терзали ее мысли о неверности жениха, который так и стоял у нее перед глазами в своем облачении записного ловеласа и со скрипкой. На четвертый день пути, чувствуя, что погибает, она стала умолять вернуться домой и угрожать броситься в ущелье. Испугавшись, Мина решила было возвращаться, но проводник показал на карте, что возвращаться будет гораздо тяжелее, чем добраться до места назначения. Перевести дух им удалось лишь на одиннадцатый день, когда с последнего перевала они смогли различить далеко внизу впереди сияющую плоскость Вальедупара.
Но и во время их путешествия молодой телеграфист сумел наладить связь с возлюбленной – благодаря своим коллегам-телеграфистам шести селений, в которых мать с дочерью останавливались по пути в Барранкас. Помогали и родственники Луисы Сантьяги, вся Провинция была опутана родовыми нитями Игуаранов и Котесов, которых моей матери каким-то непостижимым образом вопреки обстоятельствам и понятиям удалось перетянуть на свою сторону и таким образом связать в клубок. Это позволило ей вести переписку с Габриэлем Элихио и из Вальедупара, где она задержалась на целых три месяца. Многочисленная родня помогала отправлять и получать на телеграфах любовные послания. Неоценимые услуги оказывала и Чон, пронося послания в своих одежках, не подвергая Луису Сантьягу риску быть скомпрометированной, тем более что сама не умела ни читать, ни писать и за сохранность тайны готова была отдать жизнь.
Почти шестьдесят лет спустя, когда я мучил родителей расспросами об их юности для моего пятого романа «Любовь во время холеры», я спросил у отца, существовал ли какой-нибудь профессиональный термин для связи одного телеграфа с другим. И он, не задумываясь, ответил: «Сколачивать». Слово, конечно, есть не в специальных, а в обычных словарях, но мне оно показалось точно передающим работу телеграфиста с ключом. С отцом я это больше не обсуждал. Однако незадолго до смерти его спросили интервьюеры: «Не хотел ли он сам написать роман?» Он ответил, что желание было, но пропало после того, как сын начал расспрашивать его о юности и, в частности, о работе телеграфиста, о том самом «сколачивании», и понял, что сын пишет ту книгу, которую он задумывал писать.
И в той же связи он вспомнил еще одно знаменательное событие, которое могло изменить курс всей нашей жизни. Через полгода после отъезда, когда Луиса Сантьяга находилась в Сан-Хуан-дель-Сезар, от нее пришла Габриэлю Элихио весть о том, что Мина втайне готовит возвращение семьи в Барранкас, где уже никто не горит желанием кровной мести за убийство Медардо Пачеко. Тогда это показалось абсурдным, так как Аракатака благодаря банановой лихорадке становилась Землей обетованной. Но был, конечно, резон и в том, что чета Маркес Игуаран пойдет на все, чтобы спасти любимую дочь из когтей ястреба-телеграфиста. Следствием этого известия стало то, что Габриэль Элихио начал хлопотать о своем переводе на телеграф в Риоаче в двадцати лигах от Барранкаса. Вакантных мест там не было, но ему пообещали учесть его прошение.
Луиса Сантьяга не подавала виду, что знает о тайных намерениях, но исподволь поговаривала о том, что чем ближе они к Барранкасу, тем почему-то более приветливым и уютным он ей представляется. Чон, доверенное лицо во всех делах, также ничего не выдавала. Однажды Луиса Сантьяга и впрямую заявила матери, что с удовольствием бы осталась в Барранкасе навсегда. Мать ничего не ответила, но дочь почувствовала по ее реакции, что на этот раз вплотную приблизилась к тайне. Она обратилась к уличной цыганке с просьбой погадать на картах, но карты ничего не рассказали по поводу ее будущего в Барранкасе. Хотя цыганка и сообщила ей, что не существует никаких препятствий для долгой и счастливой жизни с далеким мужчиной, с которым пока едва знакома, но который будет любить ее до самой смерти. От описания внешности мужчины она воспрянула душой, так как узнала черты своего суженого. Без тени сомнения цыганка предсказала, что у них будет шестеро детей.
– Я чуть не умерла от страха! – призналась мне мать, когда впервые об этом рассказывала, – она не представляла себя матерью и пятерых детей.
Она сообщила о встрече с гадалкой Габриэлю Элихио. И оба влюбленных восприняли предсказание с таким воодушевлением, что переписка их из спонтанной, словно все еще прощупывающей несколько иллюзорные взаимные намерения, превратилась в методично стабильную и чрезвычайно интенсивную, как никогда прежде. Они обговаривали дату, место, когда и где поженятся, несмотря ни на какие преграды и препоны, уже никого не слушая, пусть им грозят проклятием и даже смертью.
Луиса Сантьяга настолько вошла в роль будущей верной жены, что в селении Фонсека не принимала приглашения на торжественный бал без позволения жениха. Габриэль Элихио спал, обливаясь потом в сорокаградусную жару в гамаке, когда раздался сигнал срочного телеграфного уведомления. Это была его коллега из Фонсеки. Для большей безопасноети она осведомилась, кто на телеграфном ключе в конце цепи. Более удивленный, чем польщенный, жених передал: «Сообщите, что это ее крестник». Услышав их своеобразный пароль, мать ответила и всю ночь провела на балу, а в шесть утра поспешила домой, чтобы переменить платье с воланами, чтобы не опоздать на мессу в церковь.
В Барранкасе не заметно была и следа былой ненависти к семье. Через шестнадцать лет после трагедии среди родственников Медардо Пачеко преобладал христианский дух прощения, а об отмщении уже не было и речи. Напротив, семью встретили настолько сердечно, что Луиса Сантьяга всерьез задумалась о возвращении в этот приют спокойствия без пыли и зноя Аракатаки, без ее кровавых суббот и всадников без головы. Она сообщила о своем намерении Габриэлю Элихио – при условии, конечно, если он добьется перевода в Риоачу. Он был согласен с невестой. В те дни душу ей согрела не только идея переезда, но и осознание того, что никто ее не любит больше Мины. Об этом та и написала в ответном письме своему сыну Хуану де Дьосу, когда тот выразил тревогу по поводу возможного возвращения в Барранкас до того, как минует двадцать лет со смерти Медардо Пачеко. Хуан де Дьос настолько свято верил в непреложность законов гуахиро, в том числе касающихся кровной мести, что даже полвека спустя не давал согласия своему сыну Эдуардо на то, чтобы он поступил на службу социальной медицины в Барранкас.
Буквально в три дня были распутаны узлы ситуации. В тот же вторник, когда Луиса Сантьяга подтвердила Габриэлю Элихио, что Мина не думает о переезде в Барранкас, ему сообщили, что из-за внезапной смерти штатного телеграфиста в Риоачи место вакантно и он может его занять. На следующий день Мина, опорожняя выдвижные ящики кладовой в поисках ножниц для кройки, открыла коробку с английскими галетами и обнаружила спрятанные там любовные письма дочери. Ее гнев не знал предела, но она лишь ограничилась одним из своих знаменитых перлов, которые она выдавала в плохом настроении: «Бог может простить все, кроме непослушания родителям!» В конце недели они отправились в Риоачу, чтобы успеть к пароходу из Санта-Марты. Обе женщины плохо отдавали себе отчет в том, что происходило во время плавания в ту ужасную ночь с февральским штормом: мать, опустошенная и разбитая поражением, дочь – перепуганная, но безумно счастливая.
Но ощутив под ногами твердую землю, Мина обрела и обычное свое самообладание.
На следующий день она одна отправилась в Аракатаку, оставив Луису Сантьягу в Санта-Марте под присмотром своего сына Хуана де Дьоса, надеясь, что оставила дочь защищенной от любовных дьяволов. Но произошло все с точностью до наоборот: в то же самое время Габриэль Элихио поехал из Аракатаки в Санта-Марту, чтобы видеться с невестой сколько душе будет угодно. Дядя Хуанито, в свое время влюбившись в Дилию Кабальеро, так же пострадавший от родительской непреклонности, решил держаться в стороне от нынешних влюбленностей сестры, но между безоглядностью любви Луисы Сантьяги и родительской опекой оказался как между молотом и наковальней. Он поспешил укрыться за баррикадами своей вошедшей в поговорку доброты, он допускал, чтобы влюбленные виделись вне дома, но ни в коем случае не наедине и так, чтобы он об этом не знал. Дилия Кабальеро, его жена, не забывшая молодость, искусно плела те же сети уловок и хитростей, которыми когда-то вводила в заблуждение и усыпляла бдительность своих будущих свекра и свекрови. Габриэль и Луиса сначала встречались в домах друзей, но постепенно рискнули встречаться и в малолюдных общественных местах. В конце концов они осмеливались даже беседовать через окно, когда дяди Хуанито не было дома, невеста из зала, жених с улицы, верные распоряжению не видеться в доме. Казалось, большое, в человеческий рост окно с андалузской решеткой, обрамленное каймой вьюнов и жасмина, дурманящего в ночи, нарочно создано для любовных излияний. Дилия предусмотрела все, включая пособничество некоторых соседей, шифрованными свистками предупреждавших влюбленных о близкой опасности. Тем не менее однажды ночью страховки рухнули, и Хуан де Дьос был вынужден смириться с обстоятельствами. Дилия не упустила случая, пригласила влюбленных присесть в гостиной с окнами, распахнутыми для того, чтобы они разделили свою любовь со всем миром. Мать никогда не могла забыть вздоха брата: «Господи, какое облегчение!»
В те дни Габриэль Элихио получил официальное назначение в телеграф Риоачи. Расстроенная очередной разлукой, моя мать прибегла к посредничеству монсеньора Педро Эспехо, действующего викария епархии, в надежде, что он их обвенчает даже без благословения родителей. Непреложный авторитет и абсолютная безупречность монсеньора достигли такой высоты, что многие прихожане уже принимали его за святого, а некоторые являлись на его мессы только за тем, чтобы удостовериться, что в момент Поднятия святых даров он отрывается от грешной земли на несколько сантиметров и зависает в воздухе. Когда Луиса Сантьяга стала умолять его о помощи, он явил еще один пример тому, что ум – это единственное преимущество святости. Он отказался вмешиваться во внутренние дела семьи, столь ревностной в своей частной жизни, но все же дал понять, что окажет содействие, и через курию навел справки о семье Габриэля Элихио. Приходский священник предпочел умолчать о более чем свободных нравах Агремиры Гарсиа. В весьма доброжелательном тоне он ответил: «Речь идет о семье уважаемой, добропорядочной, хотя и не очень набожной». Монсеньор побеседовал тогда с влюбленными, вместе и по отдельности, очень откровенно, эти беседы можно было бы отнести к разряду исповедей, и написал письмо Николасу и Транкилине, в котором эмоционально выразил свою уверенность, что не в силах смертных разорвать столь крепкую любовь и что на все воля Божия. Мои бабушка с дедом, признав свое бессилие перед Богом, скрепя сердце согласились перевернуть скорбную для них страницу жизни и дали Хуану де Дьосу все необходимые полномочия на организацию свадьбы в Санта-Марте. Но они на ней не присутствовали, лишь послали в качестве посаженой матери Франсиску Симодосеа.
Они обвенчались 11 июня 1926 года в кафедральном соборе Санта-Марты с опозданием на сорок минут, потому что в голове счастливой невесты все спуталось и она проспала, разбудили ее лишь в восемь часов утра. Той же ночью они взошли на борт шхуны и отправились в Риоачу, чтобы Габриэль Элихио принял дела на телеграфе, и первая их брачная ночь на бурном море прошла в целомудренных страданиях от морской болезни.
Моя мать так тосковала по дому, где прошел медовый месяц, что мы, ее старшие дети, могли описать его комната за комнатой, как будто сами там жили, и во мне до сих пор жива иллюзия, что я очень хорошо его помню. Тем не менее, когда почти уже в шестьдесят лет я впервые отправился на полуостров Ла Гуахира, меня удивило, что дом, в котором расположен телеграф, не имеет ничего общего с домом из моих воспоминаний. И вся идиллическая Риоача, которую я носил с детства в своем сердце, из мира моих грез, ничего общего не имела с настоящей, с ее покрытыми селитрой улицами, которые спускаются к затянутому тиной мутному морю. Но и теперь, когда я познакомился с реальной Риоачей, мне все же не удается представить ее такой, какой она является на самом деле, я вижу ту, что была выстроена камень за камнем в моем воображении.
Два месяца спустя после свадьбы Хуан де Дьос получил телеграмму от моего отца с известием, что Луиса Сантьяга беременна. Сообщение потрясло до самого фундамента дом в Аракатаке, где Мина еще не пришла в себя от своего поражения, и они с полковником сложили оружие и согласились, чтобы молодожены вернулись к ним. Но все оказалось не так просто. После многомесячного упорства и пререканий не забывший обиды Габриэль Элихио все-таки согласился на то, чтобы его жена рожала в доме своих родителей.
Через некоторое время дед встретил его с поезда на станции фразой, которой суждено было быть вписанной золотом в историю семьи:
– Я готов к сатисфакции по всем вопросам, которые вас занимают.
Бабушка обновила спальню, которая до тех пор была ее собственной, и там устроила моих родителей. Через год Габриэль Элихио отказался от работы телеграфиста, решив полностью посвятить себя ремеслу не менее занимательному, в котором он также был самоучкой: гомеопатии. Дед, из признательности или угрызений совести, выхлопотал у властей, чтобы улица, на которой мы жили в Аракатаке, носила имя, которым назван и проспект, имя человека, возможно, сыгравшего главную роль в этой любовной истории, – Монсеньора Эспехо.
Там и родился первый из шести детей мужского пола и четырех женского, в воскресенье 6 марта 1927 года, в девять часов утра, под бурный ливень не по времени года, когда небо с созвездием Тельца сливалось с горизонтом. Он был едва не задушен собственной пуповиной, потому что семейной акушерке Сантос Вильеро в решающий момент изменило ее искусство. Но тетя Франсиска вообще впала в ажитацию, она добежала до входной двери, распахнула ее и завопила на всю улицу, как на пожаре:
– Мальчик! Мальчик! – И потом, будто звоня в набат: – Рому, рому, он задыхается!
Слава Богу, поняли, что ром нужен не для того, чтобы срочно отметить рождение, а дабы растереть тельце новорожденного. Сеньора Хуана де Фрейтес, которая по воле провидения в эту минуту вошла в спальню, мне потом много раз рассказывала, что смертельный риск представляла собой не столько удушавшая меня пуповина, сколько неправильная поза моей матери в постели. Она вовремя все исправила, но реанимировать меня было нелегко – спасла святая вода, которой в самый последний момент успела окропить меня тетя Франсиска.
Назвать меня должны были Олегарио, был как раз день этого святого, но ни у кого не оказалось под рукой святцев, так что мне дали первое имя моего отца и следом имя Хосе, плотника, в связи с тем, что он был покровителем Аракатаки и, кроме того, стоял его месяц март. Сеньора Хуана де Фрей-тес предложила еще и третье имя в память о всеобщем примирении, которое было достигнуто между семьями и друзьями с моим приходом в этот мир, но при совершении таинства крещения три года спустя его добавить забыли: Габриэль Хосе де ла Конкордиа.








