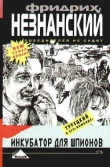Текст книги "Бубновый валет"
Автор книги: Фридрих Незнанский
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Иван согласился с доводами. Но в вечер после его ухода Марк обнаружил, что холстина исчезла. Марк пришел к нему домой, стал ругаться и требовать отдать семейное достояние. Иван заявил, что холстины не брал и чтобы Марк не смел к нему больше показываться, если ведет себя, как скотина горластая. «Уходи, – сказал, – некогда тут с тобой возиться. Не видишь, у меня ремонт!» И действительно, у него в коридоре стояли мешки с цементом. Грязно было, натоптано…
– Ремонт шел в ванной комнате?
– Я не заметил.
Так поссорились братья, и так получилось, что семейной картины Марк Ивану не простил.
– Это давно случилось?
– Ась?
– Давно, говорю, пропала картина?
– Лет пять… да что я говорю, когда Андрюшка-то умер? Года четыре, пожалуй, в этом сентябре исполнится.
– Марк Владимирович, – заинтересовался Агеев, – а у вас не сохранилось копии картины?
– Какой еще копии?
– Хотя бы фотографии…
– Есть одна старая карточка, где родители наши в своей лавке снимались: там вывеска отчетливо видна.
Марк Владимирович с удовольствием полез в семейный альбом в плюшевой обложке с медными уголками, попутно снабжая Агеева разными сведениями о характере матери, отца, теток и прочих, седьмая вода на киселе, родственников. Карточку он отыскал, но Агееву отказался отдать.
– Вот еще, – заявил он, – последнего напоминания лишиться!
– Но это в ваших интересах. Специалисты сделают заключение, какую ценность представляет ваша картина. Если она окажется ценной, мы будем ее искать. Неужели вы не хотите получить ее обратно?
– Вот приводи ко мне специалистов, пускай они на месте заключение делают.
Примирились они на среднем варианте: Марк Владимирович согласился прогуляться с Агеевым в Москву, где с исторической фотокарточки сделают ксерокопию. За услугу он требовал три тысячи рублей, Агеев, стесненный в оперативных расходах, настаивал на тысяче: в итоге хватило полутора кусков.
Зато, пока то да се, черемуховый чай остыл, что Агеева весьма порадовало.
Не радовало его только то, что дело Степанищева тоже оказывалось связано с искусством. Что за чума такая! А еще говорят, будто снаряд в одну воронку дважды не попадает. Впрочем, Агеев побывал на войне и знал, что это расхожее утверждение не соответствует действительности. Согласно словам мудрого Никитина, для снаряда, попадающего в воронку, существует ученое наименование «Закон парных случаев». Или, по-простецки: «Как только, так сразу». Стоило агентству «Глория» связаться с делом Шермана, как моментально подвалила фамильная картина лавки Степанищевых.
О том, что два дела окажутся связанными друг с другом, Агеев пока еще и не помышлял. Он мыслил оперативно и не любил фантазировать.
В целях научной достоверности, а скорее, для того, чтобы наметить хоть какой-нибудь план дальнейшей работы, Денис Грязнов и отправился к эксперту Николаю Будникову в Музей русского авангарда. Что заставило его признать «Дерево в солнечном свете» творением Шермана? Денис ждал четкого, ясного ответа. А нарвался на лекцию, которая скорее его запутала, чем что-то прояснила.
– Насколько я понимаю, вас волнует вопрос, не ошибся ли я и не является ли полотно Шермана подделкой? – напал на директора агентства «Глория» Будников. Разговор их происходил в подсобном помещении, полном ламп дневного света, оптических приборов вроде микроскопа, сверкающих, похожих на хирургические, мелких инструментов и прочего неизвестного Денису оснащения. Витавший в комнате запах то ли масляной краски, то ли олифы дополнительно воздействовал на психику, заставляя признавать себя полным профаном в присутствии специалиста.
– Ну, не то чтобы… – замялся Денис.
– Нет, вы совершенно правы. Я и сам тысячу раз себя об этом спрашивал. Иначе я не имел бы права называться экспертом. Но решение свое готов обосновать.
Николай вдохновенно и основательно заправил за ухо дужку очков: сегодня очки на нем были в позолоченной оправе.
– Вообще-то, должен признаться, в этом случае я нарушил правила своей профессии. Я выступал скорее как антикварный дилер или свободный эксперт, чем как музейщик… Как вы полагаете, Денис Андреевич, в чем разница между двумя понятиями?
Денис счел вопрос риторическим и промолчал.
– Музейный сотрудник и антикварный эксперт, – развивал свою мысль Будников, – суть две разные профессии. Цели у музея и рынка весьма различны. В первом случае – изучение и популяризация, выражаясь высоким штилем, просветительская деятельность, во втором – продажа. Во всем мире антиквар продает вещи «как есть», гарантируя их оценку и атрибуцию только своей репутацией, а значит, и коммерческим успехом. К консультациям музейщиков-специалистов прибегают только в случаях самых дорогих сделок, при этом специально оговаривают, что эта консультация в качестве аргумента при продаже использоваться не может…
– Простите, Николай, – вмешался в монолог Денис, – вы взялись за экспертизу этой картины из-за того, что Шестаков – ваш друг?
– Друг? Никогда мы не дружили. Кто это вам сказал?
– Он сам. По крайней мере, я так понял.
– Вы неправильно поняли. Когда-то давно соприкасались, а так – едва знакомы.
– А-а. Ну, извините.
– Вплоть до девятнадцатого века, – снова оседлал любимого конька Будников, – института экспертизы произведений искусства не существовало. Человек, покупающий картину, доверял собственному вкусу или тому, кто ему картину продавал. Наше время отмечено резкими изменениями. Во-первых, наука об искусстве стала настолько специальной, что торговец произведениями искусства, тоже специалист в своей области, не способен ее полноценно освоить. Во-вторых, подлинные, качественные произведения встречаются все реже, в то время как количество продавцов и агентов растет, вследствие этого обостряется конкуренция. Наконец, покупатель пошел уже не тот. Он неуверен, недоверчив, ему трудно самому вынести суждение. От сомнений спасает сертификат. Значение для него приобретают те ученые, чьи подписи он увидит в свидетельстве, а это преимущественно оптимисты, всегда говорящие «да». Торговцы, ориентированные на американских коллекционеров, естественно, заинтересованы представить своих экспертов авторитетами, чтобы всучить товар…
– А выводы? – вернул его ближе к делу Грязнов.
– Выводы? Я как будто бы нарушил границы своего ремесла, работая не на просветительство, а на бизнес. Но, с другой стороны, я считаю, что совершил важный поступок, открыв новую страницу истории русского авангарда. То, что Шерман творил в шестидесятые годы, меняет наши представления о…
– Нет, а все-таки, – не выдержал Денис, – почему вы так решили?
– Я мог бы привести вам массу данных, касающихся спектрального анализа красок, состава полотна, и вы покивали бы головой, но на самом деле это ничуть не убедительно. Все эти сведения, вместе взятые, доказывают только то, что картина неизвестного автора действительно была написана в шестидесятые годы минувшего века на грубой мешковине… кстати, судя по сохранившимся частицам, мешки были из-под сахара…
Денис занес в блокнот: «Мешки из-под сахара». Надо бы сообщить Турецкому, вдруг ему эти мешки зачем-то пригодятся.
– Все дело, как вы понимаете, в атрибуции, то есть в том, какой художник создал «Дерево в солнечном свете». Что убеждает меня в авторстве Шермана? И не только меня. Я консультировался с зарубежными экспертами по Шерману, с Мюллером, с Ковальчик, и все они подтвердили мои выводы. По-настоящему убедительно то, что эта картина невозможна. И тем не менее она существует.
Денис недоуменно заморгал.
– Ну, попытайтесь представить себе: вы хотите изготовить поддельное полотно Шермана. Что вы возьмете за образец? По всей вероятности, уже существующие его картины, с их мрачноватым колоритом, зловещим искажением действительности. Ничего яркого, радостного, наподобие «Дерева в солнечном свете», Шерман, насколько известно, не писал. Но это его линия, его пропорции, его манера обращения с цветом! Это Шерман, каким он стал в результате последовательного развития. То, что никогда не смог бы родить копиист: у него не хватило бы смелости. Вы меня понимаете?
– Мгм, – изрек Денис.
10
Из Львовской картинной галереи Турецкий и Грязнов отправились к Самойленко, обещавшему навести справки об уцелевших родственниках и соседях Мстислава Шермана. Улов нельзя было назвать сногсшибательным. Мстислав и его семья были уничтожены, соседи разбрелись по городам и весям, некоторые давно обретались в Польше или в еще более отдаленных заграницах. Очевидно, несмотря на прекрасную архитектуру Львова, не все считали его подходящим местом жительства.
– Ну ось, е тут одна жиночка, – вяло пробубнил Петро, чьи дружеские чувства заметно расхолаживала необходимость оказывать друзьям услуги без отрыва от работы. – В войну дивчинкою була, але це неважливо. А головне для вас, що вона усе життя де жила, там и живе. У доме, де Шерман жив!
Турецкий со значением взглянул на Грязнова, у которого не вызвало особого энтузиазма это замечание.
– А как ее зовут?
– Го… якась Голота. София.
– Вперед, Саня, – тяжело поднялся Слава. – Волка ноги кормят!
Пользуясь туристической картой и указаниями Самойленко, Турецкий и Грязнов добрались до дома, где жил Мстислав Шерман. До войны респектабельный невропатолог, гордость львовской медицины, занимал целый этаж и имел возможность щедро предоставить брату несколько комнат. Сейчас четыре этажа дома, который снаружи смотрелся шедевром архитектуры, украшенным статуями, гипсовыми венками и узорными завитушками, делились по отсекам квартир: как велел горсовет, не больше трех комнат на семью. Но и это временно. Как предупредил Петя Самойленко, по долгу службы находящийся в курсе всех городских планов и происшествий, жильцов скоро выселят, а дом изнутри переоборудуют, чтобы устроить в нем филиал банка. Очевидно, такие вещи происходят не только в Москве.
Вход в подъезд ограждал домофон. Все, как положено.
– Пани София Голота? – спросил Турецкий, нажав кнопку напротив нужной квартиры. – Моя фамилия Турецкий, я хотел бы побеседовать с вами о художнике Шермане…
– Заходьте, будьте ласка… то есть заходите, пожалуйста, – охотно, даже слишком охотно отозвался женский контральтовый голос, и домофон запищал сигналом, позволяя войти.
– А правильно все-таки, Сашка, – прокомментировал Грязнов, отмеривая ногами длинный пролет на лестнице, покорябанные перила которой поддерживались фигурными основами, – ввели на Украине это обращение: «пан», «пани». Ну, им легче: у них Польша под боком, а в Польше «панами» друг друга величали даже при социалистическом строе. А у нас, хоть тресни: «мужчина», «женщина»… Так, пожалуй, и не удастся нам с тобой при жизни побыть в России полноправными господами.
Откликаться на «мужчину» Турецкому тоже не нравилось, но он считал, что господином человека делает не обращение.
– Что такое, вот беда: все полезли в господа. И при этом ни один сам себе не господин, – процитировал он. – Это, Слав, какой-то немецкий классик написал, мне Нинка вслух прочитала…
У двери на четвертом этаже дискуссию о господах вынужденно прервали. В ответ на звонок дверь моментально распахнулась: пани Голота подкарауливала в прихожей. Она оказалась дамочкой лет шестидесяти с солидной комплекцией гоголевской Солохи и чрезмерно приветливой улыбкой на не по возрасту малиновых губах. Голота проводила гостей в комнату, заставленную всякими вазочками, шкатулочками, статуэточками, и там, усадив на старый кожаный диван, к которому они сейчас же прилипли брюками, принялась с удовольствием завзятой болтушки отвечать на их вопросы.
Пана Бруно Шермана она помнит. Помнит, как дразнили его во дворе дети: «Оврияш! Оврияш!» – и разбегались, стоило ему на них взглянуть своими белыми глазами. Оврияш – так называется великан в местных сказках. Бруно был высокий, и глаза уж очень пронзительные. Во время войны, в начале июля, его увели немцы, и вроде бы он пропал. А зимой 1941/42 года Любка, что сидела с ней в школе за одной партой, выдала секрет. Оказывается, он живет у ее матери, тети Фимы, пишет портрет жены коменданта. Только тс-с! Она бегала к Любке в гости, и там они подсмотрели… вот ужас! Картину, которую Бруно писал с комендантши. Такая страшная!
– Чем же она вас пугала? – невольно удивился Турецкий. – Обычный портрет женщины с детьми…
– А так вы про ту, что в музее? Та – нет, та не страшная. Но была и совсем другая картина.
– Какая? – уточнил Турецкий. Спина у него похолодела от предчувствия. Он ощутил, как рядом напрягся Грязнов.
– С адом и с ангелом. Самый настоящий ад, посредине гора… Что такое? Вам плохо? Принести воды?
– Нет, пустяки… Очень жарко… Да, если можно.
Воду Турецкий выглотнул единым махом, не разобрав, была она из-под крана или минеральная.
– Опишите, опишите эту картину! Где вы ее видели? Когда?
…В тот день девочек рано отпустили из школы: учительницу вызвали в комендатуру для заполнения каких-то документов. Маленькой Софке не хотелось идти домой, игры на свежем воздухе тоже исключались из-за того, что резко похолодало и в лицо хлестала снежная колючая крупа, поэтому она обрадовалась, когда одноклассница и подруга Любка позвала ее в гости. Тетя Фима, Любкина мама, позволила им играть в куклы возле печи.
«Только по дому не бегайте, – предупредила она. – Из комнаты ни шагу».
Любка подмигнула Софке, и та понимающе улыбнулась в ответ. Конечно, это из-за оврияша, который теперь снимает комнату у Любкиной матери.
Девочки сами не горели желанием встречаться с оврияшем. Их тряпичные дочки наряжались, ходили друг к другу в гости, церемонно пили чай из довоенного набора кукольной посуды. Тетя Фима, убедившись, что они тихо играют, ушла стирать белье. Тут Любке приспичило на двор. Возвратилась она с круглыми глазами.
«Софка, скорей! Там такое!»
Софка подумала, что подружка ее разыгрывает, но непритворное волнение Любки передалось и ей. Вдвоем они на цыпочках выбрались из комнаты и прокрались в конец коридора, где у тети Фимы был чулан…
– Кладовка со всякой всячиной? – уточнил Грязнов.
– Кладовка. Только не со всякой всячиной, а пустая. На полу кисти, банки с краской. Я даже не поняла, что Любка хочет мне показать, как она меня в бок ткнула: «Задери голову!» Я задрала, и у меня подкосились ноги…
…Это была непередаваемо страшная картина. Настолько страшная, что при первом взгляде невозможно было не зажмуриться. Но потом невозможно было не открыть глаза, и после этого смотреть уже на нее и смотреть, потому что она была прекрасна. Страшная и прекрасная, она впечатывалась в память на всю оставшуюся жизнь, и по сей день пани София не в состоянии забыть того, что было изображено на прикрепленном к потолку холсте.
Центральная часть представляла собой знаменитую львовскую гору, нарисованную одновременно условно и так, что девочки ее сразу узнали. По склонам горы спускались обнаженные, окутанные длинными черными волосами еврейские девушки. Страдание изуродовало их лица, превратило в обезьяньи мордочки – тем более человеческими и скорбными смотрелись огромные плачущие глаза. Вереницы девушек погружались в подземные области, похожие на ячейки сот, где пылали топки печей. И среди всего этого мрака и ужаса реял на фоне горы ангельский лик. Лицо белокурой женщины и одновременно лицо ангела. Рядом с ним два ангелочка поменьше, словно бы мальчик и девочка. Это была не просто картина, это было окно в другой, самостоятельный мир, и Софке показалось, что он сейчас обрушится на нее и раздавит.
Тут в коридоре раздались шаги оврияша. В панике девочки бросились бежать. Софке мерещилось, что оврияш, если догонит, сотворит с ними что-то жуткое, свернет шеи, как цыплятам, или утащит в нарисованный на потолке ад. Сейчас-то она понимает, что преследуемый еврей-художник должен был бояться этих детей больше, чем они его…
Турецкому не надо было сверяться с каталогом произведений Шермана, чтобы сообразить, что ничего подобного описанной картине нет ни в одной коллекции, ни в одном музее мира.
– И вы столько лет молчали об этом шедевре? – спросил он. – Не обращались ни в Львовскую картинную галерею, ни к специалистам?
– Позвольте, – возмущенно вздернула подведенные карандашом брови пани Голота, – я лишь недавно узнала, что нашего оврияша за рубежом признали великим художником. К тому же детские воспоминания… вы знаете, какие они расплывчатые! То ли было, то ли не было, не разберешь.
Повисло неловкое молчание. Пани Голота, исчерпав сведения, чего-то ждала.
– Ну, – первой прервала она затянувшуюся паузу, – какова ваша цена? Те, которые приходили перед вами, заплатили мне сто пятьдесят долларов.
– Перед нами? А кто к вам приходил? – дуэтом завопили Грязнов и Турецкий.
– Ну откуда же мне знать? Тоже двое мужчин. Назвались непримечательными русскими фамилиями, вроде бы Иванов и Петров. Документов своих не предъявляли, так же как и вы, панове…
– Как они выглядели?
– Совершенно разные. Один такой подтянутый, худощавый, интеллигентный. В очках с позолоченной оправой. Другой – ну вылитый бандит! Бритоголовый бандит. На лбу, вот тут, шрам треугольный, вроде как кожа была содрана.
– Во что одеты?
– Интеллигентный – во что-то серое, бритоголовый – в светлое… Нет, не помню! Я плохо разбираюсь в мужских модах.
– Когда они приходили?
– Вчера, с утра. Примерно в то же время, как вы.
– Слава, – сказал Турецкий, – возмести пани Софии текущие расходы.
– На всякий случай, – посоветовал Грязнов, отсчитывая деньги из командировочных, – не открывайте больше дверь всяким русским и нерусским мужчинам. И молчите про картину на потолке, как до сих пор молчали. Мало ли что.
Грязнов и Турецкий скатились с лестницы, будто за ними черти гнались.
– Куда мы бежим? – отдыхиваясь на ходу, спросил Слава. Генеральское брюшко и любовь к пиву не способствовали марафонским забегам.
– Домой, – не останавливаясь, просветил его более тренированный Турецкий. – То есть к Васильевне.
– Зачем?
– Выяснить, что случилось с картиной на потолке.
Марафонский бег на многолюдной львовской улице плавно перетек в ходьбу, правда для Славы Грязнова тоже достаточно марафонскую.
– Эта картина не значится ни в одном каталоге, – продолжал давать пояснения Турецкий, – а значит… значит, можно предположить, что она так до сих пор и висит на потолке, замазанная белилами.
– А все-таки зачем?
– Откуда мне знать, зачем? Может, художник хотел скрыть свое произведение.
– Нет, бежим-то мы зачем? Ну, висела она на потолке чулана лет сорок или сколько там, не может еще час или два повисеть?
– А затем, Слава, что нас опережают. Не исключено, что уже опередили. Неизвестные молодчики хотят захватить картину первыми. Не они ли вчера ломали кусты у бабки Васильевны?
– Мы же их спугнули.
– Не скажи, Слава. Их так просто не спугнешь.
11
Денис посмотрел на часы. Время приближалось к семи. А место, где он сейчас находился, располагалось не так уж далеко от коммунальной квартиры, где завязалась вся история. Заехать, что ли, к Семену Семеновичу? Тело требовало холодного душа и крепкого сна, но оно претендовало еще кое на что, и это кое-что могла ему дать проживающая в квартире Семена Семеновича Настя. В прошлый раз она показалась ему слишком робкой, не расположенной завязывать отношения с мужчинами. Так ведь она еще не распробовала фамильного грязновского обаяния! Тогда, на кухне, он, должно быть, много выпил: сидел и хлопал глазами. Ничего, в этот раз будет напористее.
Семен Семенович был много пожившим, мудрым человеком. Поэтому он сразу не поверил в то, что Дениска навестил его после напряженного рабочего дня только затем, чтобы скрасить его одиночество. Кивнув на дверь Настиной комнаты, Моисеев прошептал:
– Занимается. Чертит, кроит… Бог ее знает, что в ее профессии нужно! Иди, отвлеки ее.
– Зачем же я буду отвлекать? – застеснялся Денис.
– Затем, что девушкам нравится, когда их отвлекают. Иди, не манежься! – И, чтобы сгладить колебания, Семен Семенович сам постучал в дверь: – Настенька, это мы!
Настя подняла оленьи глаза. Атрибуты портняжного ремесла окружали ее, словно маскарадные принадлежности. Ворох разноцветных тряпок на кровати, манекен у окна, круглая коробка из-под леденцов, откуда сыпались иголки и булавки. На стене самодельный, написанный от руки плакат: «Ты должна работать!» А ниже – распечатанная на принтере картинка: полупроглоченная аистом лягушка душит его за длинную шею; подпись красными буквами: «Никогда не сдавайся!» А Настя, оказывается, барышня с характером… Денис забыл о своей напористости и опять смутился, что было для него крайне нетипично.
– А я вас пригласить зашел, – с разбега ляпнул он, думая, что его сейчас точно прогонят. Но Настя не только не прогнала, но и подбодрила:
– Пригласить? Очень рада…
– А может, чаю? – встрял Семен Семенович.
– Я собирался пригласить вас в кафе…
– Спасибо, – Настя повернулась к манекену. – Только можно завтра? А то у меня срочная работа для одной актрисы.
Семен Семенович, убедившись в том, что чая здесь не хотят, тактично испарился.
– А вы и для актрис шьете? – Денис обрадовался способу поддержать разговор. – А вот эту куклу тоже вы сшили? – поднял он со стола куклу с фарфоровой головой, чьи черные волосы и разрез темных глаз очень напоминали Настю.
– Нет, куклу мне подарили в ателье, куда я устроилась сразу, как приехала в Москву. На прощание…
– Вы оттуда ушли?
– Да, так получилось. И не только оттуда. Трудно найти перспективное место работы с моей профессией.
О начальнике, готовом превратить неперспективное место в перспективное, но с одним условием, Настя умолчала.
– В Москве везде не сахар, – дружески сказал Денис. – Мне-то помог дядя Слава, но и сам должен был доказать, что я на что-то гожусь. Вот, по сей день доказываю. У меня частное охранное предприятие «Глория».
– Вы сыщик?
– Вроде того.
– А я в детстве мечтала стать милиционером. Кем я только не мечтала стать! А стала модельером. И никому, видно, модельеры не нужны, особенно из Барнаула. В Москве своих девать некуда…
– Неправда, Настя! – горячо прервал ее Денис. – Я тоже думал: кому я тут сдался, парень из провинции? А теперь присмотрелся и понял: провинциалы Москве нужны. Они трудятся, как звери, они зубами вгрызаются в самые трудные задания. Москвичам все дано от рождения, поэтому они живут расслабленно, очень себя берегут. Провинциалу пробиться труднее, но ведь в этом и плюс! Пока пробьешься, столько усилий затратишь, что после уже ничего не страшно. Станете знаменитым модельером, Настя, вспомните мои слова. Сужу по своему опыту…
Денис рассказывал, сколько трудностей ему пришлось испытать, прежде чем он возглавил частное агентство «Глория». Настя не перебивала, в то время как ее быстрые тонкие руки с короткими ухоженными ногтями словно сами по себе резали ткань, измеряли, сшивали. В этих действиях не было невнимания к собеседнику, не было желания поскорее выпроводить его. Наоборот, Денис чувствовал себя так, словно очутился дома, где его слушают, занимаясь повседневными делами, и от этого все, что его тяготило, отступает, становится неважным и смешным. Мало ли что там было в прошлом! Дальше все обязано быть хорошо.
Семен Семенович за стеной старался тише шелестеть налоговыми декларациями, хотя ему было прекрасно известно, что старинные стены не пропускают случайных звуков: чтобы за стеной тебя услышали, надо опрокинуть шкаф или выстрелить из ружья. Однако слышимость через фанерную дверь была отличная, и прощание в широкой коммунальной прихожей от его ушей не ускользнуло.
– Значит, договорились. Завтра, в восемь вечера, ресторан «Вазисубани».
– Спасибо, Денис. Я приду обязательно.
– Это тебе спасибо. Только приходи, не обмани.
«Хорошие дети. Только бы друг друга не обманули», – точно заботливый дедушка, мысленно сказал Семен Семенович.
В течение четырех дней неутомимый Агеев взял в разработку всех московских антикваров, а также оценщиков в букинистических магазинах, где есть отдел искусства. От книжной пыли одолевал насморк, перед глазами мелькали фарфоровые пастушки в широкополых шляпах и с посохами, кивающие головами китайские болванчики и многорукие бронзовые индийские божества, похожие на вертикально поставленных крабов. Линия не сулила особых достижений: за четыре года оценивавший картину антиквар мог ее забыть, если только она не была особенно ценной, мог уйти на пенсию, умереть, мог просто расстаться с работой и исчезнуть. Задача осложнялась не только тем, что приходилось выяснять адреса покинувших свое место антикваров, но и тем, что некоторые магазины успели ликвидироваться или перекочевать. Но это была необходимая часть обычной работы, и Агеев делал ее, не жалуясь на усталость.
И ему улыбнулась удача. Однако на пути к ней его подстерегала неожиданность.
Нет, Агеев не страдал заблуждением, что антикваром должен быть пропахший пылью столетий субъект, постоянно употребляющий выражения вроде «Да-с, батенька». Впечатления ближайших дней исчерпывающе доказывали, что люди, чьей специальностью являются произведения искусства, могут иметь любую внешность, возраст и пол. И все-таки он был удивлен, когда, направляясь к свободному эксперту Калиниченко Е. А., услышал из-за двери тонкий, почти детский голосок: «Минутку, погодите, я открою». Послышался скрежет снимаемой цепочки, и в просторной прихожей, на фоне старинного овального настенного зеркала, ему предстала девочка лет двенадцати, в джинсах, обтягивающих ее тощие кривоватые ноги, в перепачканной яичным желтком пестрой маечке, прижимавшая к себе пухлого младенца. Из прихожей открывался вид на две комнаты, обставленные мебелью XIX века, и вход в еще одну комнату прятался в глубине второй.
– Калиниченко Елена Анатольевна – это я, – торопливо ответила хозяйка все тем же тоненьким голосом и сейчас же переключила внимание на младенца.
Отступив на шаг, Агеев понял, что освещение сыграло дурную шутку: перед ним, несомненно, была не девочка, а женщина, и даже, как доказывали морщинки вокруг глаз, не самая молодая. Но, очевидно, как мама она была молода и с гордостью демонстрировала миру свое новоявленное сокровище. Сыщик сделал младенцу «гули-гули», чем завоевал расположение Калиниченко.
Услышав, что привело к ней Агеева, Елена Анатольевна свела белесоватые бровки. Усадив гостя на стул, рядом с которым красовался ярко-оранжевый пластмассовый горшок, она долго рассматривала фотографию, где Степанищевы прежних лет щурились навстречу солнцу на фоне знаменитой вывески, которую Агеев, ни разу не увидев в оригинале, уже успел возненавидеть.
– Конечно, я помню это произведение искусства, – закричала Елена Анатольевна, стараясь своим слабеньким голосом перекрыть вопли ребенка, недовольного тем, что он выпал из центра внимания взрослых. – Такое нечасто встречается в нашей работе. Я спросила, есть ли у него документы на эту картину. Он сказал, что нет, что это семейное достояние. Предъявил свой паспорт… Гришенька, помолчи же ты, дядя ничего не слышит! Ай-ай-ай, как не стыдно мальчику… Подождите минутку, я его успокою.
– Елена Анатольевна, – Агееву было некогда ждать, кроме того, рев младенца крепчал, – насколько ценная эта вещь?
– Я затруднилась ее оценить, но было несомненно, что это произведение одного из мастеров русского авангарда. Выдающегося мастера! Надпись указывает на то, что эта вещь писалась на заказ, в соответствии со вкусом заказчика. Знаете, в свое время гении русского авангарда были небогаты и охотно подрабатывали такими мелочами, как реклама, вывески…
– Почему же мелочи? – возразил Агеев. – На рекламе сейчас мощняцкие бабки зашибают… Ох, извините, увлекся.
– Ничего-ничего, – любезно улыбнулась Елена Анатольевна, пробуя заткнуть младенцу рот соской. Соска явно не годилась на роль кляпа. – В то время картина стоила недорого. Зато сейчас за нее можно было бы получить от двадцати до ста тысяч долларов.
Агеев присвистнул.
– И это не предел, – Калиниченко осталась довольна его реакцией. – Все зависит от авторства. Фальк довольно часто встречается, Ларионов или Гончарова более редки, к тому же они были обеспеченными людьми и вряд ли стали бы тратить свой дар на подобные прикладные вещи. Но если…
– Погодите-ка, – перебил Агеев. Несмотря на неприязнь к делу русского авангарда, фамилии Фалька, Ларионова и Гончаровой навязли за последнее время у него в ушах. – Они все входили в «Бубновый валет», ведь правда?
– О, а вы, оказывается, разбираетесь в истории русского изобразительного искусства, – удивилась Калиниченко. – У вас все сыщики такие образованные? Сейчас, Гришунюшка, погоди, мой мальчик, дядя сейчас уйдет. Слышишь? Прекрати сейчас же! Маме нужно поговорить с дядей! А что еще вы хотели бы узнать?
– Вы направили человека, который принес вам эту картину, к кому-нибудь еще?
– Я сказала, что, если ему нужно проконсультироваться более точно, стоит обратиться в Музей русского авангарда. Там трудятся отличные специалисты, вооруженные современными методами исследования. Он поблагодарил за совет, заплатил, сколько положено, и удалился.
– И все?
– Больше мне добавить нечего. Гришенька, маленький, потерпи еще минуточку, дядя уйдет, и мы с тобой будем ням-ням. Сделай дяде ручкой. Дядя уходит, – повторила она, с намеком посмотрев на Агеева, и тому не оставалось ничего другого, как действительно уйти. Тем более он узнал все, что нужно.
Закрыв за ним дверь на два замка и щеколду, Елена Калиниченко поспешно сунула сына в кроватку, предоставив ему реветь, сколько заблагорассудится, сама же побежала к телефону на подзеркальном столике и набрала номер, который давно уже не набирала и по которому ей было сказано больше не звонить.
– Алло! Позовите, пожалуйста, господина Пескова. Скажите, что звонит Калиниченко… Ка-ли-ни-ченко, Елена Калиниченко. Алло, Евгений? Здравствуй, это я, Лена. Я по важному делу. Абрам ничего не передавал для меня?
Тем временем Агеев отправился в Музей русского авангарда. Не моргнув глазом проник сквозь стеклянные грани вестибюля, ненадолго задержался возле образцов современной скульптуры. Козыряя на всех этапах пути удостоверением, проник в служебные комнаты. Николай Алексеевич Будников занимался неслужебным делом: беседовал с братом. По крайней мере, Агееву в первый момент показалось, что эти худощавые, русоволосые, подтянутые мужчины очень похожи друг на друга, правда, один был в очках, а другой без очков. Тот, что в очках (именно он-то и был Будниковым), при виде нового гостя поспешно попрощался с предыдущим, который откланялся со словами: «Ну, до скорого, Коля, как-нибудь на днях срастемся». Когда он проходил мимо Агеева, тот отметил, что вблизи у этих двоих совершенно разные черты лица, но в общем облике есть что-то похожее. Ничего удивительного: мало ли на свете похожих людей!