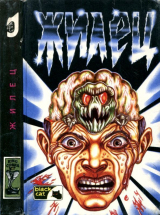
Текст книги "Мозговик. Жилец (Романы ужасов)"
Автор книги: Фредерик Браун
Соавторы: Роланд Топор
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Похоже, что консьержка поджидала его прихода. Как только он показался, она сразу же замахала ему рукой из окна своей комнаты. Видимо, не успокоившись на этом, она подняла оконную раму и громче, чем того требовала ситуация, позвала:
– Месье Трелковский!
Ей никогда не удавалось произнести в его фамилии звук «с» между «в» и «к», отчего получалось что-то вроде «Трелковкий». С приветливой улыбкой на лице он подошел к ее окну.
– Вы видели мадам Диоз? – требовательным тоном спросила женщина.
– Нет, а что? – в свою очередь спросил он, понятия не имея, кто такая мадам Диоз.
– Неважно. Я скажу ей, что вы вернулись. Она хотела поговорить с вами.
– О чем?
– Увидите, увидите.
Женщина захлопнула оконную раму, весьма решительным образом прервав их разговор, и энергично дернула головой вверх-вниз, что скорее напоминало жест выпроваживания, нежели прощания. После этого она снова отвернулась к кухонной плите, на которой готовилась какая-то еда, и больше не обращала на него ни малейшего внимания.
Трелковский поднялся к себе в квартиру, недоумевая, что все это может значить. Уронив плащ на кровать, он пододвинул к окну стул и присел. Так прошло примерно с полчаса. Он ничего не делал и ни о чем особо не думал, а просто перебирал в мозгу несущественные эпизоды минувшего дня, которые еще сохранились в памяти. Обрывки разговора, малозначительные действия, детали лиц людей в метро и на улицах.
Затем он встал и принялся ходить из одной комнаты в другую, пока ему в голову не пришла мысль остановиться перед зеркалом, которое он незадолго перед тем повесил на стену над раковиной умывальника. Некоторое время он с бесстрастным видом рассматривал собственное отражение, поворачивая голову сначала налево, потом направо, и наконец вверх, так что стали видны зияющие отверстия ноздрей. После этого он провел ладонью по всей поверхности лица – кончики пальцев выявили присутствие маленького жесткого волоска на самом кончике носа. Он чуть ли не вплотную придвинулся лицом к зеркалу и стал пристально всматриваться в него.
Подойдя к кровати, он вынул из кармана плаща спичечный коробок и тщательно выбрал из него две спички, у которых, как ему показалось, были самые острые и чистые концы. После этого он опять подошел к зеркалу и принялся выдергивать волос, действуя спичками на манер самодельного пинцета. Но спички то смещались друг относительно друга, то не могли как следует ухватить волос, и он в самое последнее мгновение проскальзывал между ними. Однако Трелковский сохранял терпение и в конце концов добился своего. Волос оказался длиннее, чем он предполагал.
Покончив с этим занятием, он принялся лениво выдавливать на лбу черные пятнышки, однако они его волновали значительно меньше. Наконец, он вытянулся на кровати и закрыл глаза, но так и не уснул.
Вместо этого Трелковский решил рассказать самому себе историю.
«Я еду верхом, возглавляя десятитысячное войско разъяренных запорожских казаков. Уже трое суток безумный топот лошадиных копыт раздается по безбрежной степи. Навстречу нам скачут десять тысяч вражеских всадников, с быстротой молнии надвигаясь на нас со стороны линии горизонта. Мы ни на дюйм не сворачиваем с нашего курса; грохот столкновения двух орд можно было слышать на целые мили. Я единственный, кому удалось удержаться в седле. Выхватив свой ятаган, я принялся пробивать себе дорогу сквозь толпы мечущихся подо мной человеческих тел. Я даже не смотрю, куда приходятся мои удары, – просто машу и рублю справа налево и слева направо.
Скоро вся равнина оказывается усеянной окровавленными телами. Я вонзаю шпоры в бока коня, и тот оглушительно ржет от пронзительной боли. Ветер, подобно тугому шлему, обжимает мне голову. У себя за спиной я слышу крики моих десяти тысяч казаков… Но нет, за собой я слышу… Нет, я иду по городской улице – ночью – и вижу женщину, которая пытается убежать от пьяного матроса. Он хватает ее за платье, разрывает его – женщина остается полуголой. Я бросаюсь на злодея и сбиваю его с ног одной лишь силой моего натиска. Он не может подняться. Женщина подходит ко мне… Нет, женщина убегает в темноту…
Нет. Метро в шесть часов вечера. Переполненное настолько, что просто шагу ступить некуда. На каждой станции в вагоны пытаются зайти все новые и новые люди. Они толкают и отпихивают уже находящихся внутри пассажиров, упираясь руками в двери и протискиваясь вперед. Но вот приближаюсь я и с неимоверной силой запихиваю в вагон свое тело. Целые толпы людей вываливаются через стены наружу и падают на рельсы – подъезжающий встречный поезд превращает их в сплошное кровавое месиво. Станцию он проезжает, наполовину погруженный в море человеческой крови…»
Кто-то постучал в дверь? Да, кто-то определенно стучит.
Наверное, это та самая загадочная мадам Диоз.
Стоявшая на лестничной площадке напротив его двери старуха представляла собой весьма мерзкое зрелище. Окаймленные темными кругами глаза налиты кровью, рот превратился в натянутую, безгубую линию, а кончик носа едва не касается выдающегося вперед подбородка.
– Мне надо поговорить с вами, – объявила она ясным и пронзительным голосом.
– Входите, мадам, – вежливо проговорил Трелковский.
Уверенным шагом она прошла к дверям второй комнаты, быстро скользнула взглядом по ее внутреннему убранству, явно желая убедиться, что в квартире больше никого нет. Не глядя на Трелковского, она протянула ему листок линованной бумаги. Тот глянул на него и увидел, что под ним уже стоят несколько подписей. На противоположной стороне красовался аккуратно написанный фиолетовыми чернилами небольшой текст, из которого следовало, что нижеподписавшиеся жильцы выражают официальный протест по поводу поведения некоей мадам Гадерян, которая после десяти часов вечера продолжает шуметь.
Вдоволь насмотревшись на обстановку в квартире Трелковского и, видимо, потеряв к ней всякий интерес, женщина вперила в него свой взгляд, явно пытаясь оценить реакцию хозяина квартиры.
– Итак, – проговорила она, – вы подпишете?
Трелковский чувствовал, как кровь медленно отливает у него от лица. Как они осмелились предложить ему подобное?! Хотят убедиться в том, что ему известно, какая судьба уготована ему самому? Намерены форсировать события и ради этого не останавливаются перед неприкрытым шантажом? Сначала какая-то неизвестная ему женщина, а потом уже он – он будет следующим; если же он вздумает отказаться поставить свою подпись, то окажется первым, кто пожалеет о последствиях такого отказа. Он поискал на листе подпись месье Зая – так и есть, красуется на самом видном месте.
– Кто такая эта мадам Гадерян, – наконец выдавил он из себя. – Я ее не знаю.
– Только ее вы и слышите после десяти часов! – разгневанным свистом прорвались из горла старухи слова. – Постоянно ходит из угла в угол, переставляет вещи, посреди ночи моет посуду! Всех перебудит! Она делает невыносимой жизнь всех остальных жильцов.
– Это та самая женщина, что живет с дочерью-калекой? – спросил Трелковский.
– Ничего подобного. У нее четырнадцатилетний сын. Лодырь и бездельник, который только тем и занят, что день-деньской прыгает по квартире на одной ноге!
– Вы в этом уверены? Вы в этом уверены – я хочу сказать, уверены, что у нее нет дочери-калеки?
– Конечно, уверена. Спросите консьержку. И любой в доме вам это подтвердит.
Трелковский выпрямился, расправил плечи.
– Извините, но я не могу этого подписать. Мне эта женщина никогда не причиняла никаких неудобств; я даже никогда не слышал о ее существовании. В какой квартире она живет?
Старуха уклонилась от ответа.
– Ну, как хотите, – разгневанно произнесла она. – Я вас ни к чему не принуждаю. Но если однажды ночью она вас разбудит, не приходите тогда ко мне за помощью. Сами же будете в этом виноваты!
– Мадам, прошу правильно меня понять, – с мольбой в голосе проговорил Трелковский. – Я понимаю, что у вас имеются свои собственные причины именно так поступать, и у меня нет ни малейшего намерения в чем-то мешать вам. Но я просто не могу этого подписать. Возможно, существуют какие-то причины, почему она занимается всем этим именно ночью.
– Причины – ха! – Старуха мерзко расхохоталась. – Ну да, разумеется, у нее есть на то причины – она сама тому причина. Она просто вредительница! Существуют люди, главная забота которых – терзать других. И если эти другие люди все это сносят и не защищаются, они в конце концов переступают через них. Ну, так вот, я никому не позволю переступать через меня, я этого не допущу! Я сразу обращусь к тому, кто может с этим что-то сделать. И если вы не хотите помочь нам – что ж, это ваше дело, но потом не приходите ко мне с жалобой. Отдайте бумагу!
Она выхватила свой бесценный листок из руки Трелковского, не говоря ни слова на прощание, направилась к двери и, ступив за порог, с грохотом захлопнула ее у себя за спиной.
«Негодяи! – в ярости подумал Трелковский. – Подонки! Какого черта они добиваются – чтобы все лежали и изображали из себя мертвецов?! Но им и этого окажется недостаточно! Негодяи!»
Он настолько разгневался, что буквально дрожал всем телом. Затем он спустился поужинать в ресторан, который регулярно посещал, и там постарался выкинуть все это из головы; однако как только вернулся к себе в квартиру, он обнаружил, что его все еще колотит от ярости. Спать он улегся, яростно стискивая зубы от бессильного гнева.
Следующим было то, что где-то незадолго до десяти часов вечера ему в дверь постучала та самая женщина с дочерью-инвалидом. На сей раз она не плакала. Глаза ее оставались жесткими и холодными, даже злобно поблескивающими, однако, увидев Трелковского, она, казалось, немного расслабилась.
– О, месье! – воскликнула гостья, – вы видите! Что я вам говорила! Так и есть – она подготовила петицию против меня! Она победила! Меня заставляют съехать с квартиры. Какая же злобная, мерзкая женщина! И они все подписали, все – кроме вас. И я пришла, чтобы поблагодарить вас. Вы хороший человек, месье.
Девушка пристально всматривалась в лицо Трелковского – точно так же, как и в тот, первый вечер; такое же напряженное лицо было и у матери, причем сейчас ее взгляд казался даже еще более яростным.
– Не нравится мне все это, – сбивчиво пробормотал он, смущенный и расстроенный тем, как они обе разглядывали его. – И мне не хотелось бы вмешиваться в это дело.
– Нет, нет, я не об этом, – женщина покачала головой, словно внезапно почувствовала сильную усталость. – Вы хороший человек, это видно по вашим глазам.
Она неожиданно выпрямилась и рассмеялась.
– Но я с ними расквиталась! Консьержка такая же тварь, как и все они, но я и с ней посчиталась!
Она оглянулась, явно желая убедиться в том, что их никто не слышит, после чего продолжила, понизив голос почти до шепота.
– Между жалобой и петицией они довели меня до такого состояния, что у меня начались колики. И вы знаете, что я сделала?
Девушка по-прежнему не отрывала взгляда от Трелковского. Он сделал слабый жест рукой, давая понять, что не знает, о чем идет речь.
– Я сделала это прямо на лестнице!
Женщина довольно бесстыдно рассмеялась, однако глаза ее продолжали пылать от кипевшей в ней злобы.
– Да, сделала, причем на каждом этаже, вдоль всей лестницы! Сами виноваты – это из-за них у меня начались колики. Но вход в вашу квартиру я не запачкала – мне не хотелось, чтобы у вас были неприятности.
Трелковский пришел в ужас: сначала от ее рассказа, а затем от внезапного осознания того, что, желая избавить его от «неприятностей» и не запачкав пол перед его дверью, она таким образом сделала все для того, чтобы подозрение пало именно на него.
– Как… когда это случилось? – сдавленно проговорил он.
Она счастливо расхохоталась.
– Только сейчас. Минуты две назад. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда завтра утром они это обнаружат! И консьержка тоже! – ведь ей же придется все это убирать и подтирать! Но ничего, они это заслужили, все разом!
Она хлопнула в ладоши. Трелковскому было слышно, как она спускается по лестнице, все так же восторженно похохатывая. Потом он перегнулся через перила, желая проверить, правду ли сказала эта женщина; оказалось, сущую правду. По ступенькам тянулся зигзагообразный желтоватый след с более темными вкраплениями. Он прижал ладони ко лбу.
– Ведь они же подумают, что это сделал я! Надо что-то предпринять – я просто обязан что-то предпринять! Немедленно!
Однако он был не в состоянии прямо сейчас взяться за дело, поскольку в любое время его мог заметить любой из жильцов. Потом он хотел было сделать то же самое перед своей дверью, но тут же понял, что просто не в силах со-вершить подобное, а кроме того, его неизбежно выдаст разница в цвете и консистенции экскрементов. Но должен же быть какой-то другой выход!
Подавляя чувство тошноты, он нашел в квартире кусок какой-то картонки и воспользовался им, чтобы собрать немного экскрементов со ступеней, ведущих на четвертый этаж. Сердце отчаянно колотилось о грудную клетку, он был весь объят страхом и отвращением, но продолжал заниматься уборкой. Покончив с этим делом, он вывалил содержимое картонки на лестничную площадку напротив своей двери, после чего бросился к туалету, чтобы избавиться от самой коробки.
Вернувшись назад в квартиру, он почувствовал, что буквально умирает. Будильник он поставил на более ранний час, нежели обычно, – у него не было никакого желания оказаться свидетелем сцены, которая неминуемо последует за обнаружением того, что произошло.
Однако на следующее утро на лестнице не осталось ни малейших следов случившегося. От все еще влажных ступеней лестницы исходил сильный запах какого-то дезинфицирующего средства.
В кафе напротив дома Трелковский выпил традиционную чашку шоколада и съел два сухих тоста.
Поскольку время было еще слишком раннее, на работу он решил отправиться пешком, и теперь не спеша брел по улицам, наблюдая за проходящей мимо толпой. Людские лица двигались ровными шеренгами, шагая почти в такт друг другу, как если бы их обладатели стояли на некоем подобии бесконечного движущегося тротуара. Лица с большими, выпученными, лягушачьими глазами; усталые, на-стороженные лица разочаровавшихся во всем людей; круглые и мягкие лица дебильных детей; бычьи шеи, рыбьи носы, хорьковые зубы…
Полуприкрыв глаза, он подумал о том, что на самом деле все это было одно-единственное лицо, меняющееся и смещающееся, подобно кусочкам стекла в калейдоскопе. Его поразило своеобразие всех этих лиц. Марсиане – все они были марсианами. Но они явно стыдились своей внешности и потому старались скрыть ее. Про себя они точно определили – раз и навсегда, – что вся эта чудовищная непропорциональность на самом деле являлась воплощением подлинной гармонии, а это непостижимое уродство – такой же непостижимой красотой. Они были чужаками на этой планете, хотя отказывались признавать данный факт и вели себя так, словно находились у себя дома.
В витрине магазина он увидел свое собственное отражение – оказывается, он ничем не отличался от них! Полная идентичность, абсолютное сходство со всеми этими чудищами. Он принадлежал к их роду, но по какой-то неведомой причине был лишен их общества. Они не доверяли ему. Все, чего они добивались от него, это подчинения их нелепым правилам и дурацким законам. Причем нелепым только для него одного, поскольку он никогда не мог понять их сложной, замысловатой утонченности.
Прямо перед ним трое молодых людей пытались заговорить с женщиной. Она что-то быстро и коротко им ответила, после чего поспешно пошла прочь. Мужчины расхохотались, возбужденно похлопывая друг друга по спинам.
Еще большее отвращение у него вызывала их подчеркнутая мужественность. Он никогда не мог понять этого вульгарного восхищения своим собственным телом, своим полом. Они, как боровы в брюках, хрюкали и перебирали ногами, но все равно оставались боровами. Но почему они смущались самих себя, почему вздумали прикрывать свои тела одеждой? К чему было скрывать всю эту вонь, исторгаемую их животами и железами? Он слабо улыбнулся.
«Интересно, что подумал бы человек, которому удалось бы прочитать мои мысли, находись он сейчас рядом со мной?» – пронеслось в мозгу Трелковского.
Он часто задавал себе этот вопрос; иногда даже специально создавал те или иные проблемы в надежде посмотреть, как какой-то чужой, неведомый ему разум, которому они вдруг станут известны, станет их решать. Он будет нашептывать ему всякие вещи; иногда даже говорить правду о нем самом, а в другие моменты просто грубить и оскорблять его. Потом, словно разговаривая по телефону, он внезапно делал паузу в своей речи в ожидании ответных реплик. Естественно, их не было.
Наверняка незнакомец подумает, что я гомосексуалист…
Однако он не был гомосексуалистом, поскольку его религиозное мировоззрение попросту не допускало подобного поведения. Ведь быть гомосексуалистом, – это значит претендовать на своего рода роль Христа. А Христос, по мнению Трелковского, был гомосексуалистом, глаза которого были больше, чем аппетиты его плоти. Люди подобного рода просто сгорают от желания истечь кровью ради человечества, а это всегда противно.
«Наверное, мне так кажется лишь потому, что я, в конце концов, мужчина. Бог знает, что бы я стал думать, если бы родился женщиной…»
Он громко рассмеялся. Но затем перед его взором в очередной раз возник образ лежащей на больничной койке Симоны Шуле, и смех застыл на его губах.
10. ЛихорадкаОн заболел. Уже несколько дней ему нездоровилось.
Он без конца зябко поводил плечами, вдоль спины пробегали ознобные судороги, нижняя челюсть слегка подрагивала, а лоб то полыхал, словно объятый пламенем, то покрывался ледяным потом. Поначалу Трелковский отказывался верить в то, что с ним что-то не в порядке, и продолжал вести себя так, как если бы ничего не случилось. Однако уже у себя в офисе он был вынужден сидеть за столом, обхватив голову ладонями, чтобы хоть отчасти заглушить непрекращающийся гул в ушах. Если ему приходилось подниматься по лестнице, причем неважно, сколь длинным был пролет, то, едва достигнув вершины, он оказывался в весьма плачевном состоянии. Так больше продолжаться просто не могло; он был болен, причем болен серьезно.
В организм ухитрилась пробраться какая-то нечисть, угрожавшая вконец разрушить его. Но что именно это было? Пылинка, образовавшая невидимое препятствие, которое, в свою очередь, нарушило нормальное функционирование двух взаимосвязанных колес? Коробка передач, которая почему-то перестала обеспечивать должное сцепление? Микроб?
Живший по соседству доктор так толком и не объяснил ему, в чем причина его недуга. При этом он ограничился тем, что в качестве меры предосторожности прописал ему незначительную дозу антибиотиков да еще какие-то маленькие желтые таблетки, принимать которые следовало дважды в день. Кроме того, он порекомендовал есть как можно больше йогурта. Это прозвучало, как шутка, однако доктор сопроводил свою рекомендацию энергичным кивком головы.
– Нет-нет, – заверил он пациента, – это именно так. Как можно больше йогурта. Это восстановит правильное функционирование вашего кишечника. А на следующей неделе загляните ко мне.
По пути домой Трелковский зашел в аптеку, которую покинул, набив карманы маленькими картонными коробочками, странным образом наполнившими его чувством уверенности.
Придя домой, он принялся открывать их, извлекать лежавшие внутри инструкции и рекомендации по применению лекарств, внимательно вчитываясь в их содержание, ибо ему казалось, что прописанные лекарства обладали некоей чудодейственной силой.
Тем не менее на следующий вечер желанное облегчение так и не наступило, и его осторожный оптимизм сменился глухим отчаянием. Теперь Трелковский понимал, что все эти лекарства отнюдь не были чудодейственным средством, а приложенные к ним бумажки оказались всего лишь рекламными писульками. В сущности, он с самого начала догадывался об этом и все же ему хотелось продолжать игру по всем правилам, покуда не обнаружилось, что правил этих попросту не существует.
Теперь он почти постоянно лежал в постели. В общем-то, ему было тепло, хотя временами и казалось, что вдруг ни с того ни с сего он начинает зябнуть. В какой-то момент Трелковский натянул верхнюю простыню до самого носа и ощутил прикосновение к коже ее влажного участка, образовавшегося от капавшей изо рта слюны. У него не было сил даже на то, чтобы моргать глазами, а потому он либо лежал, широко раскрыв их и глядя в никуда, либо же, когда страстная тоска по забытью становилась совсем уже невыносимой, он закрывал глаза и пытался уснуть. Но даже тогда, стоило ему повернуть голову в сторону окна, как приятный мрак тут же сменялся пурпурным свечением.
Он свернулся калачиком под одеялами, как никогда отчетливо осознавая собственное весьма плачевное состояние. Размеры буквально каждого участка его тела были ему хорошо знакомы. Прежде он провел столько часов, осматривая и перерисовывая контуры своего тела, что сейчас чувствовал, будто случайно встретился с давно знакомым, но хронически невезучим другом. Ему хотелось вжать себя в самый маленький объем, который был только возможен, чтобы вторгающиеся в него слабость и бессилие попросту не смогли найти себе плацдарм для высадки. Колени он почти подтянул к животу, икры плотно прижал к бедрам, а локти сильно притиснул к ребрам.
Но важнее всего было таким образом уложить голову на подушку, чтобы при этом не слышать несмолкающего биения собственного сердца. Он без конца ерзал, ворочался на постели, пока наконец не отыскал одну позу, в которой действительно наступало это желанное безмолвие. Ему было невыносимо слышать этот чудовищный звук, постоянно напоминавший о бренности и хрупкости его существования. Ему часто приходила в голову мысль о том, что каждому человеку от самого рождения отмеряно определенное количество сердечных ударов, и именно это определяло продолжительность его жизни.
Когда же Трелковский понял, что, несмотря на все свои усилия, все же различает неуверенные удары сердца о грудную клетку, он решил целиком скрыться под одеялом. Засунул голову под простыню и диким взором уставился на проступавшие во мраке контуры своего тела. При подобном освещении оно производило впечатление чего-то мощного, даже угрожающе-массивного. Резкий, глубоко проникающий животный запах, который оно при этом издавало, зачаровывал его. Как ни странно, он заметно успокоился. Напрягшись, он заставил себя выпустить газы из кишечника, чтобы запах стал еще сильнее, ярче – почти невыносимым. Так он находился под одеялом вплоть до тех пор, пока не стал задыхаться, однако как только голова снова оказалась на относительно свежем воздухе, он тут же почувствовал, что заметно окреп. Он как бы дополнительно уверился в своей способности преодолеть болезнь, и на место былой тоски и угнетенности пришла новая умиротворенность разума.
Ночью ему стало еще хуже. Когда он проснулся, простыни буквально промокли от пота, а зубы лихорадочно стучали. Жар настолько притупил все его чувства, что ему даже не было страшно. Он завернулся в одеяло и встал, чтобы вскипятить немного воды на маленькой электрической плитке, доставшейся ему от прежней жилички. Когда вода наконец закипела, он приготовил себе некое подобие горячего напитка, пропустив ее через ситечко, заполненное листами чая, оставшимися от предыдущих чаепитий. Проглотив жид-кость, он принял две таблетки аспирина и почувствовал себя немного лучше.
Затем Трелковский вернулся в постель, однако стоило ему выключить свет и оказаться в темноте, как его всего охватило чувство, что окружающая комната стала будто бы сжиматься, неуклонно уменьшаясь в размерах, покуда стены не образовали своего рода плотную капсулу, обрамляющую его тело. Он начал задыхаться. Отчаянно протянув руку к выключателю, он щелкнул им, и тотчас же комната восстановила свои прежние размеры. Глубоко вздохнув, он попытался было выровнять дыхание.
– Идиотизм какой-то, – пробормотал Трелковский.
Затем он выключил свет, и комната снова накинулась на него, словно это была эластичная лента, оттянутая в сторону и затем отпущенная. Она окружала его наподобие саркофага, придавливая грудь, поворачивая голову, сминая ее о заднюю часть шеи.
В момент наивысшего удушья, в самое последнее мгновение его пальцы каким-то образом смогли нащупать выключатель. И вновь, как и в первый раз, наступило неожиданное освобождение.
Спать он решил, не выключая света.
Однако это оказалось не так просто, как могло показаться сначала. На сей раз комната уже не меняла своих размеров, нет – теперь трансформировалась ее консистенция.
Точнее говоря, консистенция пустоты, заполнявшей пространство между мебелью.
Теперь ему казалось, что эти незримые емкости заполнены водой, которая затем превратилась в лед. Пространства между предметами в комнате внезапно стали прочными и жесткими, как айсберг, и он, Трелковский, сам стал одним из таких предметов. Он снова оказался взаперти, но на сей раз не в каменном заточении собственной комнаты, а в вакууме, бездне пространства. Он попытался было пошевелить своими членами, чтобы нарушить эту иллюзию, однако успеха так и не достиг.
Более часа он находился в положении пленника. Спать оказалось совершенно невозможно.
Неожиданно, без какой-либо видимой причины, ощущение это прошло; чары колдовского заклятья спали. Чтобы убедиться в этом, он прикрыл один глаз: действительно, он мог двигаться.
Но уже в следующее мгновение обнаружилась новая странная вещь.
Он закрыл левый глаз – так, очень хорошо однако, несмотря на то, что поле его зрения должно было вроде бы сократиться вдвое, он продолжал все видеть! Объекты в комнате просто сдвинулись вправо. После этого он закрыл правый глаз, по-прежнему не веря в происходящее, – предметы сразу же сместились влево. Это было невероятно! Тогда он выбрал на обоях два пятнышка, взяв их за своего рода ориентир, и быстро моргнул обоими глазами. Но, не двигая головой, он потерял те самые пятнышки, которые взял за точки отсчета, а если и припоминал, где находится один, то все равно не мог отыскать другой. Он упорно продолжал это занятие, но все было напрасно. К тому же в результате подобных манипуляций по закрыванию сначала то левого глаза, то правого у него страшно разболелась голова. Сейчас Трелковскому казалось, что его череп засунули под уличный каток. Он смежил веки, однако комната по-прежнему стояла перед глазами; он видел ее столь же отчетливо, как если бы веки были сделаны из стекла.
В конце концов и ночь, и сопровождавшие ее кошмары подошли к своему завершению. К нему все-таки пришел спасительный сон, не отпускавший его чуть ли не до следующего вечера.
Он слышал, как во внутреннем дворе что-то делают рабочие, ремонтирующие стеклянный навес. Ему хотелось встать, но он чувствовал, что слишком слаб для этого. Потом на ум пришла мысль о том, что он сильно проголодался.
Перед ним во всем ужасе предстало собственное одиночество.
Никто не присматривал за ним, не ухаживал, не прикасался прохладной ладонью ко лбу, не помогал измерить температуру. Он был один, абсолютно один, как если бы собирался умирать. А если это и в самом деле случится, сколько времени пройдет, прежде чем они обнаружат его труп? Неделя? А может, целый месяц? И кто первым переступит порог его гробницы?
Разумеется, соседи, а то и сам домовладелец. Сейчас он никого не интересовал, но все коренным образом изменится, как только настанет срок вносить квартплату. Даже в смерти его не оставят в покое в квартире, которая ему не принадлежит. Он попытался выбросить из головы столь мрачные мысли. «Я все преувеличиваю; на самом деле я отнюдь не так одинок. Я жалею себя, но знаю, что если немного задумаюсь над этим… А давай посмотрим…»
Он долго думал, искал какое-нибудь опровержение своим мыслям, но все-таки пришел к выводу, что одинок, причем более одинок, чем когда-либо. Именно тогда он осознал произошедшую в его жизни перемену. Но почему? Что случилось?
Ощущение того, что ответ на этот вопрос вертится на самом кончике языка, сильно огорчило его. Почему? Ведь должен существовать ответ. Он всегда был окружен друзьями, родственниками и всевозможными знакомыми; всех их он ревниво оберегал, поскольку знал, что могут настать такие времена, когда они ему очень понадобятся; а сейчас вдруг обнаружил, что остался совсем один – на пустынном острове в самом сердце пустыни!
Каким же слепым дураком он был! Разум отказывался даже узнавать себя самого.
Стук молотков рабочих во дворе вырвал его из пучины жалости к самому себе. Поскольку никто не думал и не заботился о Трелковском, Трелковский должен будет сам позаботиться о себе.
Первым делом надо было поесть.
Он оделся, толком не понимая, что именно напяливает на себя. Спуск по лестнице оказался неимоверно трудным делом. Поначалу он даже не вполне осознал эту проблему, но затем деревянные ступени лестницы каким-то образом преобразились в каменные полки – грубо отесанные, неплотно пригнанные друг к другу. Он спотыкался о невидимые препятствия, царапал тело об острые края и углы. А затем от основной лестницы у него под ногами стали ответвляться бесчисленные маленькие лесенки. Мучительные маленькие лесенки, джунгли лесенок с кустистыми ступенями; лесенки, которые выворачивались наизнанку, так что было совершенно невозможно определить, то ли вы спускаетесь по их внеш-ней стороне наружу, то ли поднимаетесь по внутренней стороне внутрь.
Он совершенно потерял ориентацию в этом лабиринте и потому часто сбивался с пути. Пройдя один лестничный пролет, он обнаружил, что тот внезапно вывернулся наизнанку и оказался на потолке. Там не было ни двери, ни какого-либо иного отверстия, через которое можно было бы идти дальше. Ничего – только гладкий потолок, заставлявший пригибать голову. Отказавшись от дальнейших попыток, он развернулся и пошел в противоположном направлении. Но лестница повела себя так, словно балансировала на невидимой оси, вроде детских качелей, и как только он достиг определенного места, эта ее сторона опустилась, а противоположная, напротив, поднялась. Таким образом, чтобы спуститься вниз, ему пришлось карабкаться вверх, и идти вниз, когда он знал, что надо подниматься вверх.
Трелковский ужасно устал. Сколько веков подряд он уже блуждает по этим адским коридорам? Этого он не знал, и лишь чувствовал, что просто обязан был продолжать начатое.
Изредка из стен высовывались человеческие головы, которые с любопытством поглядывали на него. Лица их были лишены какого-либо выражения, но до него доносились их смех и звуки произносимых насмешек. Головы не оставались подолгу на одном месте – они почти тотчас же исчезали, но чуть дальше откуда-то выползали другие, но, в сущности, точно такие же головы и также принимались разглядывать Трелковского. Ему хотелось побежать по этим стенам с гигантской бритвой в руке и отсечь все, что высовывалось из камня. Но у него, к сожалению, не было такой бритвы.








