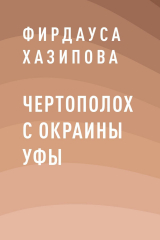
Текст книги "Чертополох с окраины Уфы"
Автор книги: Фирдауса Хазипова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Посвящается
школьным учителям: тем, кто предан был профессии и одарил теплотой и заботой в самую беззащитную пору нашу – в детстве.
Одноклассникам – нас не случайно собрала судьба в одном классе.
Студенческим преподавателям и однокурсникам Башкирского государственного педагогического института и Уфимского училища искусств – все непросто в мире, но и происходит все не просто так.
Родным, друзьям, сослуживцам, знакомым – пусть никогда не догонят вас запоздалые сожаления о том, что было, и что не успели сказать дорогим людям.
Ныне здравствующие! Будьте здоровы, любите жизнь, и пусть она любит вас.
«Чем далее уходит человек вперед по дороге своей жизни, тем сильнее пробуждается в нем желание приостановиться на этом пути и окинуть взглядом пройденное пространство. И чем короче становится доставшийся на его долю отрезок жизни, тем чаще он оглядывается назад, пробуя понять, зачем пройдено все то, что пройдено»
Эльмар Грин
Предисловие
Название книги сложилось сразу, как наитие. Чертополох, или татарник. Из каких ассоциаций выросло это определение? Например, синеголовник. Эти обаятельные кусты с колючими шариками сиреневатого цвета создают голубовато-сизое дымчатое облачко и растут сами по себе. Но синеголовник однообразно романтичен и весь колюч. Он недоступен для боли. Мне ближе чертополох с острыми зазубренными листьями и нежным волокном цветов. Он жестко колюч. Его листья могут поранить. Но розовато-сиреневые цветы, эти нежные шелковые волокна, повторяя своими очертаниями вертикально вытаращенные шипы на бутоне, красивы, и, увы, легко уязвимы.
Все это сорняки. Но их ценят за лечебные свойства. А знающие люди считают, что чертополох отпугивает нечистую силу и оберегает от сглаза и порчи. Какое это имеет отношение ко мне, трудно сказать. Хотя сходство, несомненно, есть. С детства сама по себе. Иногда колючая… Изгнание нечистой силы… Возможно, отсюда частые конфликты. Не выдерживает моего присутствия нечисть?
Город Уфа – так географически сложилось – одна длинная окраина. Стиснутая между двух рек Белой и Уфимкой, она тянется с юга на север неширокой полосой, своими очертаниями напоминая половник о двух концах: на юге – историческая часть города, на севере – бывший город Черниковск, присоединенный к Уфе. Но в какое бы место города ты ни приехал, оглянувшись по сторонам, заметишь, что вот она, совсем недалеко окраина.
Об исторической южной части говорить нет смысла – они во всех городах похожи. А вот северная часть столицы Башкирии формировалась в годы бурного строительства крупных заводов и годы массовых репрессий. Здесь было несколько лагерей для советских заключенных, военнопленных немцев, спецпереселенцев. В этих местах до сих пор стоят полуразрушенные бараки, которыми была застроена большая часть северных окраин.
Если рассматривать вопрос глобально, Уфа – это окраина Европы, место ссылки и в царское время, и в советские 30-40-е годы. Но если смотреть еще глобальнее, Башкирия – центр Евразии, поскольку здесь проходит граница между двумя континентами.
Предыстория рода
«Кровь татарская текла рекой»… На эту леденящую кровь историческую информацию я отреагировала совсем по-другому, когда, начиная поиски своей родословной, услышала от родственника Хамита Хисамова, что наши предки – мишары – в свое время бежали из Казани после разгрома ханства Иваном Грозным. «Кровь татарская текла рекой, трудно было пройти через множество валявшихся трупов. Ими были переполнены берега Казанки под кремлем, ямы, овраги, рвы оборонительных укреплений; местами их кучи доходили до высоты городских стен… Лишь незначительная часть казанцев смогла перейти Казанку и уйти в леса»1*.
Из этого месива, в котором, казалось, катастрофически угасает одна из многочисленных наций, выбрались или сохранились остатки татарского генофонда, что без преувеличения можно считать чудом.
Мои предки бежали в лесные районы Башкирии. Дальние корни мне неизвестны, а начало XX века ознаменовалось рождением нашей бабушки – Гальмии Гатиятулловны в д. Салихово Уфимского уезда Уфимской губернии (ныне Чишминский район Башкирии). В замужестве – Валеевой, затем Баталовой) – 15 апреля 1901 года. Ее прадед – Губайдулла, дед – Хисматулла, отец – Гатиятулла; мать, Гайния Ялалетдина-дочь. Брат Гатиятуллы Юмагужа с пятью детьми переехал на жительство в Караидельский, почти таежный район.
Гальмия до 17 лет жила в деревне, ухаживала за парализованной матерью. Из-за этого не могла учиться в школе, которая находилась в 7 км. Красивая, уверенная в себе, она шла по воду с коромыслом, и все оборачивались ей вслед. Такой увидел ее чапаевский боец и увез в Уфу.
Наш дед Хасан Валеев (по данным архива, Хасан Мухаметвалиев) родился в 1885-86 году. Его родители были середняки, мастера на все руки, как их деды-прадеды. Служил у Чапаева. После гражданской вернулся домой в деревню Уразбахтино Алкинского района. Хотя он любил другую девушку, по настоянию родителей женился на Гальмие. По воспоминаниям дочери Зайтуны, он занимал пост в СИЗО по ул. Достоевского, ездил на лошади с тарантасом, в семье был личный конюх, домработница. Хасану дали квартиру в двухэтажном кирпичном доме на улице Красина. Позднее ему выделили служебную машину. Затем работал на швейной фабрике «8 Марта» механиком и преподавал на курсах механиков (ныне в этом здании расположился Красинский рынок – Ф.Х.). Когда Хасан заболел чахоткой, семье из ведомственного дома пришлось переселиться в половину дома на улице Сталина, 1.
У Хасана и Гальмии родилось четверо детей: Зайтуна, Хамза, Халит и Рауза. По традиции они «обрусили» свои имена и стали Зоей, Мишей, Геной и Розой.
Да, от деда нанай видела много обидного. Он до конца дней продолжал встречаться с любовницей, которая жила около речки Сутолоки. Ее женская обида удвоилась, когда бабушка узнала, что муж, принарядив Зайтуну и Хамзу, повез их к той женщине, которая, больная чахоткой, захотела увидеть их.
В 1938 году деда не стало (версии конца разные. Говорили, что он был убит около Сутолоки; кто утверждает, что он умер от туберкулеза).
Когда Хасана не стало, благосостояние семьи резко ухудшилось. «Меня забрал к себе дядя Абдулла Хисматуллин в с. Ермекеево. Я прожила у них три года, заканчивала школу, занималась комсомольской работой. Оттуда ушла на фронт», – пишет Зайтуна.
К началу войны на руках у нанай остались трое несовершеннолетних детей. В уфимском оперном театре разместился госпиталь, и Нанай стирала солдатское белье. Затем была, по ее словам, костюмершей. В театре работал гармонистом Баталов, наш дальний родственник. Уходя на войну капитаном, он предложил нанай пожениться с тем, чтобы она по аттестату офицера получала продукты. Так бабушка стала Баталовой. Состав, в котором ее фиктивный муж ехал на войну, до места назначения не доехал: его разбомбили.
После войны у нанай был гражданский муж Газим, вместе они прожили около пятнадцати лет. «Он был хорошим человеком: в войну, говорят, за 30 км ходил к себе в деревню за продуктами, вез их на санках, чтобы кормить детей», – из письма т. Зои.
У нанай появилось десять внучек: у Зайтуны – три дочери, у Хамзы – Венера, у Халита (д. Гены) – Альфия и Гузель, у Раузы – Фирдауса, Альмира, Альбина и Рамиля.
Часть 1. Время яркой большой Луны (50-е годы)
Ясные звезды жестко светили прямо в глаза и цинично перемигивались между собой, глядя на меня. Таких жестоких звезд я не припомню больше.
Глава 1. Детство в Уфе
Жили мы на высоком крутом берегу реки Белой в Архиерейке на улице К. Либкнехта.
Чтобы попасть туда, надо по ул. Ленина дойти до железных ворот парка имени Матросова, заплатить 10 копеек и пройти его по прямой: мимо читальни в белом деревянном кружеве и с верандой, где допоздна играли в шахматы; мимо летнего кинотеатра и цирка-шапито к противоположному выходу. Там город начинает резко спускаться вниз. Двухэтажные деревянные, потемневшие от времени дома, кособочатся, цепляясь за неровную поверхность почвы, улицы петляют между домами, и спускаться приходится где бегом, где мелко семеня.
Это была прекрасная окраина в историческом центре города: наверху здание завода им. Кирова, впереди внизу река Белая, на противоположном берегу которой уже начинался пригород, так называемая Цыганская поляна.
Лачуга, в которой селились нанай, ее дети с семьями, стояла на самом краю плато, которое стекало вниз домиками, огородами и тропками к реке Белой. Со стороны улицы был вход в маленькую темную комнату. В другой половине лачуги была большая светлая, как бы сейчас назвали, студия. Чтобы перейти на вторую половину хибары, надо было пройти по узкой тропинке, прилепившейся к стене дома и обрывающейся вниз крутым оврагом. Деревянный туалет и огород почти сползли вниз. Зато сколько неба и как красива река внизу!
Родилась я в роддоме на Советской площади в самую середину золотой осени, когда природа разноцветна и торжественна. Когда по мокрому асфальту мелкими золотыми монетами рассыпаются листья берез. Но уже через неделю стылые ветра срывают листву с деревьев, воробьи и одна-две синицы скачут по бурым, издающим жестяной звук, листьям среди клочьев зеленой травы. Тянутся к небу черные промозглые ветви. И скоро миллиарды снежинок срываются с небес, укутывают озябшие ножки деревьев. Так на стыке переменчивых погод и стылого ожидания на ветру началось мое существование на земле.
Мой новорожденный крик разогнал мужчин из дома: от бабушки ушел ее гражданский муж, от мамы – мой отец. Поэтому появление темнокудрого младенца было омрачено удвоенной женской обидой. Фраза «разогнал всех мужчин», конечно, не более чем метафора. Не в младенце было дело. Мои родители поженились молодыми: отец работал на моторостроительном заводе в Черниковке, мама оканчивала полиграфическое училище. Оба танцевали в ансамбле. Им было не до детей. Но природа так устроена, что зародыш завязывает свой жизненный узелок, не спрашивая никого: вовремя или не вовремя. Ну и насчет того, что семья «потеряла» двух мужчин… Это случилось позднее и, конечно, не из-за меня.
Нашей семье дали комнату в Черниковке в двухэтажном желтом доме с жестяной звездой, венчающей шпиль. Мама вышла на работу переплетчицей в городскую типографию № 1, а я продолжала как-то расти, кто-то меня все время смотрел. Кличка у меня в детстве была Ленин. Видимо, мои крутые кудри напоминали лицо с октябрятского значка. Но, несмотря на дом под звездой и кличку, ортодоксальным коммунистом я никогда не была, как, впрочем, и диссидентом.
(Примечание: в том же году в Черниковку переехала семья Маканиных из Орска: Семена Степановича перевели сюда на строительство завода синтетического спирта, Анна Ивановна начала учительствовать в школе №85, их сыновья Владимир и Геннадий, погодки, учились в школе, а Павел пошел в детсад. В Черниковке поселилась и Софья Захаровна Болховских. Через несколько лет я буду учиться у Анны Ивановны и Софьи Захаровны, и они сыграют большую роль в моей жизни).
В мои три года отец ушел из семьи. Я росла, как придется. И нанайка поняла, что без нее я пропаду.
Хотя нанай хозяйкой была никакой (сказались благополучные годы жизни с Хасаном), в ней было достаточно энергии и решимости, чтобы поддерживать детей и внуков. Когда лачуга в Архиерейке стала мала для разросшейся семьи, бабушка решительно направилась из центра Уфы в Черниковск на колхозные картофельные поля, куда уже наступал город, и поставила крепкую избу на ул. Суворова (сейчас на этом месте стоит школа). Этот дом был настоящим муравейником: столько народу там жило, не сосчитать. Когда его снесли в начале семидесятых, все оказались с жильем.
Мне все время казалось, что в жилах бабушки текла голубая кровь. Ну не похожа она была на крестьянку! Более органично она смотрелась бы в великосветском обществе, на балах, за богато сервированным столом в блестящем окружении. Когда она сидела за столом в темноватой тесноватой комнатке частного дома среди гостей и была в ударе, ее большие серые глаза загорались веселым живым огнем. Речь блистала юмором, энергией. В ней была заметна та сдержанность и в то же время внутренняя свобода, свойственные истинным аристократам. Обыденная жизнь ее тяготила порой, нелюбовь к домашней работе и скученность народа выводила из себя. Тогда она раздражалась, крыла ругательствами все и вся. И при этом тоже была прекрасна.
Духовный переворот случился с ней после свадьбы моих родителей. Ей стало плохо, открылось кровотечение желудка. После этого нанай обратилась к религии: читала коран, намаз, соблюдала рамазан, питалась только деревенской пищей с рынка.
Ей было за 80 лет, когда сзади к ней обратился молодой мужчина: «Девушка, давайте познакомимся». Нанай обернулась, и он опешил, увидев ее озорные смеющиеся глаза, тонкие черты лица, высокие скулы и морщины. Так он извинялся потом … и любовался еще больше.
В мои пять лет появился отчим Самат. Я буквально прилипла к нему. Маленькой бегала по типографии, длинному деревянному бараку. Мне нравился грязный шумный процесс. В маминой комнате везде, где возможно, валялись книги, которые ждали переплета. Пахло клеем, бумагой, типографской мазучей краской. А потом я неслась в печатный цех. Там на высоком помосте за шумным, но опрятным агрегатом стоял подтянутый белокурый отчим. Печатный цех казался мне оплотом гармонии машины и человека…
Жизнь в коммуналке была разной. Вспоминается, как мы в своей светлой комнате лепим пельмени. Отчим и мама радостные, оживленные. Мама смеется и говорит, залепляя врата пельменя: «Кому достанется этот с перцем, будет счастливым». И я мечтаю об этом пельмешке, потому что хочу, чтобы наша семья была хорошей. К тому времени отчим перешел на работу в милицию. Если приходил нетрезвым, прямо в милицейской форме начинал дебоширить, срывать непонятную агрессию на маме и всем окружающем. Мы прятались у соседей.
Отрывочные воспоминания… Мама, довольная, наводит уют в комнате. Она любила красивую посуду, мебель, одевалась хорошо. Когда я почти через четверть века стала еженедельно появляться в типографии в качестве корреспондента, затем редактора многотиражной газеты, тетя Шура, которая помнила мою маму, укоризненно говаривала: «Роза всегда была модницей: золотые часики, платье из панбархата. А ты одеваешься, как попало»…
Так вот в комнате уютно, богато, сверкает хрусталь в серванте, и сервизы парадно поблескивают. Приходит пьяный отчим. Телевизор – на пол, сервант со всем содержимым – на пол. Грохот, крики, плач. Бабушка кричит, размахивая табуреткой, мама прячется за нее, мы, дети, выбегаем на улицу – зима ли, лето ли. Потом после бури, грома, криков я оказываюсь на руках у нанайки и сверху сочувственно дую на кровавую рану на голове, в которой кровь смешалась с седыми волосами.
На другой день из осколков посуды мы делаем в огороде красивые «секретики» – в ямке создаем узоры из битой посуды и присыпаем землей. Я думала, что это нормальная жизнь. Рядом с нами в доме отец двух дочерей тоже пил и дрался. Через дорогу – та же история. Однажды к соседу, живущему на углу, приехала скорая помощь. Ребята на улице говорили, что он проглотил вилку. Я пыталась представить, как это возможно, но фантазии не хватало.
У нанайки всегда жили родственники или квартиранты. Помню, двое квартирантов стоят перед бабушкой, я, видимо, сижу рядом с ней. Нанай отчитывает его: он жестоко избивал жену. Я смотрю на эту пару и удивляюсь про себя. Она, безвольно опустив руки вдоль тела, уныло опустила голову, похожая на овцу, которая устала сопротивляться. Он ниже ее на полторы головы, крепко сбитый, с бегающими по сторонам маленькими глазками, в которых полыхает еле сдерживаемая злоба. Тело его напряженно, кулаки сжаты, и, кажется, он вот-вот со звоном отпустит пружину и, как бешеный пес, порвет всех вокруг.
– Ей же достаточно сверху положить руку на его голову, слегка придавить, и от него мокрое место останется, – с недоумением думала я.
Тогда я не знала, что побеждает в драке не рост и не сила. Побеждает тот, в ком больше беспощадности и злости, в ком нет сострадания и человечности…
Часто думаю, как мне повезло, что росла большей частью в доме на почти деревенской улочке. Веселый огонь в печке, сугробы выше окна, огород. Посреди улочки проходила желтая пыльная дорога, по которой ездил разбитый кособокий автобус № 8. Вдали виднеется Курочкина гора, до нее добраться можно через большое картофельное поле, остатки колхозного наследия. На противоположной стороне дороги мечта любой детворы – пустыри, где ничем не сдерживаемый мяч летел в любом направлении без опаски разбить стекло. Дома нас практически не видели. Нас не могли дозваться поесть. Самая популярная пища была белая булка с маслом и сахарным песком. В дни всенародных праздников мы устраивали мини-демонстрации. Детишки шли строем вдоль деревянных заборов с барабаном и подобием флага, запевая песню. Играли в магазин, «расплачиваясь» яркими конфетными фантиками, играли в «глухой» телефон. Мы никогда не ломали голову: чем бы заняться. Игр мы знали много, и оставалось только выбирать. Мы росли вольно, как чертополох, и у взрослых с нами были только разбираловки по поводу того, что к кому-то залезли в огород. У всех в огородах росло почти все, но за чужими заборами почему-то все было вкуснее.
Страшненькое тоже было в жизни. Одно время мы, ребятня, шарахались от каждой легковой машины. «Наши футболисты проиграли матч, за это они воруют детей, затаскивают в машины и убивают», – шептали мы друг другу.
Здесь висела самая яркая и большая луна на свете, и мы видели в ее желтом круге силуэт девушки с коромыслом. Здесь светили самые яркие звезды, и были споры, есть ли жизнь на Марсе, какие диковины есть на свете.
В 1957 году Черниковку присоединили к Уфе. Но в те годы, да и по сию пору, этот район отличается от центра. Он засажен тополями. Их никогда не подрезали, они росли вольно, как и мы, и стали большими и пушистыми. Много было зеленых сквериков, деревьев вдоль дорог и тротуаров, за заборами пьянил запах яблонь, сирени и черемух.
Глава 2. Город Сибай
Мы переехали жить в г. Сибай, маленький степной захудалый городок на юге Башкирии. Мы въехали в двухкомнатную квартиру в серо-кирпичный дом рядом с кинотеатром «Мир». Наш длинный дом и кинотеатр были одной стороной квадрата, напротив виднелось преуютнейшее белое здание с колоннами в греческом стиле. Как ни странно, это была баня. Рядом с ним – строение, которое визуально не помню, но внутри находилось премилое заведение с красной дорожкой – музыкальная школа, куда меня привели на прослушивание, и тут же находилась типография, куда устроились работать мама и отчим. По бокам квадрата стояли частные дома. А в середине большого пустого пространства среди взрыхленной земли стояла новенькая школа, куда я позже пошла в первый класс. Неподалеку от нас в типичном экстерьере предыдущих десятилетий – желтые двухэтажные дома по обе стороны улицы с односторонним движением, которое разделяет аллея с деревьями, – жила семья тети Зои и три ее дочери Луиза, Альфия, Неля.
Наши блага объяснялись просто: наш родственник Абдулла Хисматуллин был немаленькой шишкой в городе.
В Сибае у нас была идеальная семья. Помню, мама, беременная третьей дочерью, сидит на диване и весело командует Саматом: «Получше мой полы. Углы тоже не забывай». Он, озорно блестя глазами, поглядывает на нас, тщательно протирая пол. Дверь в санузел открывалась из кухни. Но на этом маленьком пространстве мама умудрялась накрывать два стола: для взрослых и для детей. Обед был по всем правилам из трех блюд. Опять комната радовала уютом и признаками советского благополучия. Ничего здесь не грохотало, никто ничего не обрушивал, никто не дрался. Потому что после первой же попытки вернуться к дебошу наш высокопоставленный родственник вызвал Самата к себе и сказал:
– Здесь тебе не Уфа. Будешь так себя вести, в 24 часа вылетишь из Сибая…
Как я пошла в первый класс, не помню. Помнится только запах краски и молодая учительница.
Целый день мы, ребятня, проводили на улице. Большой залитый солнцем двор. У сестренки Альмиры пошла носом кровь (было ей годика 3, мне 7). Кто-то из детишек сказал, что надо закапать йод. Кто-то сбегал домой за ним, кто-то прямо из пузырька пробует «покапать» ей в нос и заливает Альмире йодом пол-лица…
Мы в открытом грузовике с типографскими работниками едем за лесными ягодами…
В крохотном магазинчике мне поручили держать очередь за молоком. Мне стало плохо, и я вышла на улицу. Пришел Самат, высоко поднял меня на руки. Мужчина, стоящий почти у прилавка, закричал, что я стояла впереди него. Держа меня над толпой, Самат продвигался к прилавку. Я плыла над людским морем, внизу меня круглились разные головы. Я с благодарностью думала о мужике, который меня запомнил, потому что еще раз выстоять такую очередь я была не в силах.
Помню январский морозный день, мы с отчимом стоим под окнами роддома, и мама показывает крохотный белый кулек. Альбина, ребенок, рожденный в пору теплых семейных отношений.
… На улице морозная темень. Я собираю в школьный портфель свое имущество, туда же кладу самодельную тряпичную куклу. Беру за руку Альмиру. Альбина спит на руках отца. Мы возвращаемся самолетом в Уфу. Насовсем.
Часть 2. Время жемчужно-серебристых снегов
(60-е годы)
Учителя, как никто, знают цену быстротечности времени. Знают цену той секундной заминке или ошибке, которая может круто повернуть жизнь, порой необратимо.
Глава 1. «Детство, как шарик пластмассовый»
Тонкой змейкой тянется деревенская улица на окраине большого города. Кособокие частные домишки приветливо смотрят из-за зелени своих садов. Яблони сгибают ветви до земли, предлагая душистые, пахнущие медом плоды свои, вишни лукаво поглядывают блестящими глазенками и шаловливо прячутся в густой листве. Кричат петухи, тонко-тонко переливаются голоса ребятишек в звончатом воздухе, из раскрытых окон звучат популярные песни. Проникновенные голоса Зыкиной, Кристалинской органично вписываются в тишину улицы, теряются в верхушках деревьев.
Я проснулась, когда прокричали петухи. Солнце играет на металлических ярко начищенных шариках железной кровати. Отдернула ситцевую занавеску и открыла деревянную слегка истлевшую раму окна. По пыльной желтой колее проехал городской рейсовый автобус, толстобокий, весь в пыли. «Все ждала и верила, сердцу вопреки», – подпевая Кристалинской, выскочила во двор. Осколки солнца сверкают на стрелках молодого лука, стройными рядами выстроившегося на грядке, листьях яблонь, смородины, редиса. И весь мир, казалось, сверкает, обещая бесконечное и безоговорочное счастье на все времена…
Я поливала лук, когда услышала голос нанайки:
– Балакаем (деточка – с тат.), сходи за керосином. Сегодня печку топить не будем, дрова закончились.
Я надела стоптанные сандалеты, но осталась в линялом ситцевом платье. Взяла матово-серый весь в царапинах помятый алюминиевый бидон и, выйдя из калитки, свернула направо.
Я шла по улице вдоль деревянных крашеных заборов, по тополиной аллее, мимо двухэтажных домов. Слева остались почта, квартал пятиэтажных домов. Там на асфальтовой площадке благоухает сиренью скверик. Вдоль стены углового дома вьется очередь за хлебом и молоком. Вчера мы с сестренкой покупали здесь брикеты какао, который надо варить, но мы сгрызали его и так. А еще любили зефир прямоугольной формы. А в огороде высились две раскидистые яблони. На одной росли золотые китайские яблочки, прозрачные от разлитой под кожицей спелостью. Вторая приносила твердые темно-бордовые плоды. Мы с размаху швыряли их об дверь. Потом эти яблоки с помятыми сладко-медовыми боками легко откусывались и съедались без остатка. В теплое время года мы чаевничали в огороде. Как-то сестренке прямо в чай упало яблочко, обрызгав ее. Хорошо, что он был остывший…
Мы опять жили на ул. Суворова. Я думаю, бабушка собрала детей с семьями по той причине, что дома шли под снос. Перемены с каждым годом становились ощутимыми: на частные дома и огороды все ближе наступали новые пятиэтажные здания (но дом снесли через 10 лет).
Бревенчатую избу расширили, пристроив к южной стороне большую комнату, в которой поселились Валеевы Бикя-апа (мы называли ее Бикушкой) с детьми Альфией и Гузель с яркими зелеными глазами, переехавшие сюда из Архиерейки. Сюда переселились моя мама с тремя детьми и мужем. Здесь жили Венера и Фикус с сыном, молодые родственники из Караидельского района потомки Юмагужи Хамит и Альфира Хисамовы.
Всего в доме собралось 14-16 человек, в том числе семеро детей. Было шумно, беспокойно. На язык почти все были не воздержаны, и это никого не коробило: выдерживать проделки такой оравы было тягомотно. Нанай часто срывалась и смачно, от всей души лепила ругательства по-татарски. Честно сказать, материлась по-черному. Кстати о родном языке… Видимо, до поры я лепетала только на татарском языке. Но воспитательница детского сада сказала Нанайке:
– Хотите испортить ребенку жизнь, продолжайте говорить на татарском.
И бабушку с мамой просто заклинило. До конца дней своих они общались между собой на родном языке. Но как только дети оказывались рядом или вступали в разговор, они автоматически переходили на русский…
Я любила, когда в доме все сидели за большим круглым столом, пили чай из угольного самовара и вели неспешную беседу. Я прижималась к нанайке, голоса постепенно уходили в резонирующую пустоту, и я засыпала. Еще обожала, когда она пела. У бабушки был прекрасный голос. Я часто просила спеть мою любимую «Идель» (недавно ее исполняли под названием «Вдоль реки»). Мелодичность, душевность, красивые мелизмы – это ли привлекало меня? До сих пор эту песню слушаю с невероятным душевным трепетом.
Были семейные торжества, когда каждый искрился радостью. Бикя-апа – остроумная, разбитная, всегда с шутками-прибаутками и заразительным смехом порой была вместе с нанай душой компании. Гадиля-апа, наигрывая на махонькой саратовской гармошке с колокольчиками, озорно блестя глазами, пела задорные частушки. Патефон, шипя от натуги, играл цыганскую мелодию, и все дружно просили Хамзу-абы и дядю Гену: «Цыганочку. С выходом!» Дом ходил ходуном от безудержного веселья и смеха…
Мы часто бегали играть на «Пятый квартал», он был более просторный, асфальтированный и благоустроенный.
Иногда там появлялся дурачок. Мы стайкой собирались вокруг него и, показывая на тополиный пух, говорили: "Ой, холодно, снег идет". Он зябко ежился в рваной телогрейке, глядя на нас своими огромными карими глазами. От его взгляда становилось не по себе – казалось, он идет из глубины веков и дурачок знает то, чего никогда не узнаем мы. Боялись, чтобы безумие не коснулось нашей души, как зараза. Что-то древнее, дикое было в его взгляде – так смотрел, наверно, поселянин, глядя на смертельную схватку древних варягов. Кони ржут, вытаптывая клочок земли, засеянный зерном, лязг копий – а он смотрит большими карими глазами, серьезно и безнадежно. И кутается в рваную телогрейку…
В детстве я часто приезжала с бабушкой в Архиерейку, где еще жил Хамза-абы с Гадилей-апа. Погостив на плато, где прилепилась, как ласточкино гнездо, хибара, мы спускались ниже на берег реки Белой к бабушкиной двоюродной сестре Майсуре-апа. Мне нравилось у них бывать. Это была патриархальная татарская семья – с большим дворовым хозяйством, множеством аккуратных подушечек, накрытых красивой тюлью и снимаемыми на ночь наволочками. Неизменно шумел угольный самовар, и всегда красовалось на столе самое для меня лакомое – хворост, или я его называла чак-чак. Он светло-желтым кружевом стоял в вазах и манил неповторимым вкусом тонкого ноздреватого теста, заверченного на палочке и заморенного в топленом масле. Мне нравились тишина, неспешная беседа, дед в тюбетейке, тихо снующий по хозяйству. Попив чаю, я забивалась куда-нибудь в угол, захватив чтиво, погружалась в яркий богатый мир. Там впервые я прочитала книги А.Рыбакова "Кортик" и "Бронзовая птица", и они остались для меня в числе любимых.
Дома у нас книг отродясь не водилось, кроме бабушкиного Корана.
Неподалеку несла свои воды река Белая. Казалось потрясением, что можно жить на берегу большой реки, где во дворах днищем вверх стоят лодки. И воздух пахнет иначе, чем в сухопутной Черниковке. Когда шли ребятишки с удочками и свежепойманной рыбой, это воспринималось как нечто нереальное, из гриновских книг…
До 3 класса я с утра пешком или на автобусе преодолевала четыре остановки и сначала забрасывала Альмиру в детский сад. Потом сворачивала налево во дворы пятиэтажек и шла в школу №55 на ул. Интернациональной. Это был деревянный барак. А если пройти еще дальше, а потом еще дальше через железнодорожные пути, можно было попасть в деревянный барак такой же конструкции в типографию №1. Но мои родители там уже не работали… Мама устроилась продавцом в овощной киоск напротив общежитий моторостроительного завода. Мой путь в школу пролегал направо, мимо Пятого квартала, мимо общежитий, детского сада и поликлиники. А была другая, параллельная этой, – целый ряд домов частного сектора тянулся почти до школы. Там в полуподвале я покупала керосин для примуса.
Вечером забирала Альмиру из детсада, и мы шли по «культурной» улице с асфальтом, большими деревьями вдоль тротуара. Иногда мы озорничали, завидев фифу в капроновых чулках и на высоких каблуках. Мы нарочно шлепали по луже, чтобы забрызгать эту «буржуйку». Во мне жила какая-то классовая недоброжелательность к «воображалам». Заглядывали к маме на работу. Сначала она торговала овощами в сетчатом павильоне, потом устроилась рядом в киоск, где были сладости – шоколад, конфеты. У нас в семье до сих пор к сладкому равнодушны. У нее часто пропадали деньги. Когда снесли киоск, нашли купюры, обгрызенные крысами…
А дома… ругань, толкотня. Ни о каком режиме дня разговора не было. Из-за тесноты уроки приходилось учить за круглым столом, на котором прямо перед глазами стоял черно-белый телевизор.
– Учи уроки, нечего смотреть кино, – дергали меня.
Только как ребенку можно не смотреть на экран, когда на расстоянии вытянутой руки в лесу кто-то кого-то ловит или партизаны пробираются в тыл к врагу.
Для ребенка такая нагрузка была серьезной. И со здоровьем у меня были проблемы. Иногда бабушка договаривалась с соседями насчет бани. Помню, я потеряла там сознание. Очнулась на улице. Мама за шкирку волоком тащила меня по снежной тропинке. Снег скрипел под ее ногами, по бокам стояли высокие сугробы. Ясные звезды жестко светили прямо в глаза и цинично перемигивались между собой, глядя на меня. Таких жестоких звезд я не припомню больше.








