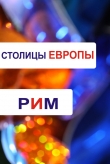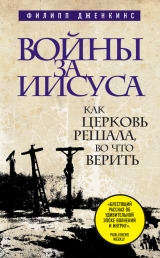
Текст книги "Войны за Иисуса. Как церковь решала, во что верить"
Автор книги: Филипп Дженкинс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Это изменение географии христианства неимоверно усилило власть и престиж римских пап и подавило развитие центров, обладавших таким же или более высоким статусом. Халкидон и его последствия освятили власть церкви Рима и низвергли ее потенциальных соперников, из которых на первом месте стояла церковь Александрии. Фактически именно Халкидон положил реальное начало средневековому папству.
Политическая победа веры, созданной в Риме, означала, что развивающееся христианство Европы будет существовать в тесной связи с Римской империей и с западными государствами, ставшими ее преемниками, а не вернется в катакомбы (как это сделал Восток). Вследствие этого в церквях Европы сохранялась идея христианской империи, тесного союза между церковью и государством. Поэтому эти церкви постоянно пытались воплотить в политической жизни идею Града Божьего. Мысль о христианской империи настолько глубоко проникла в душу западных людей, что когда настоящая Римская империя утратила свое влияние, папы создали новую структуру в виде империи франков Карла Великого. Последствия этого решения окрашивали жизнь Европы в течение тысячелетия[31].
Разрыв отношений с древним христианством позволил внешним силам – сначала персам, а затем мусульманам – использовать разделения между христианами для своих целей. Без этого великого раскола невозможно было бы представить себе подъем ислама. Если бы не этот религиозный кризис, ислам не смог бы заполнить собой тот политический вакуум, который возник в VII веке, в империи, большинство восточных подданных которой – монофизиты и несториане – отвергли своих ортодоксально-кафолических императоров. Христианские диссиденты настолько глубоко были отчуждены от империи, что почти не были готовы сопротивляться мусульманским завоевателям, которые обещали (и демонстрировали это на практике) терпимое отношение к различным христианским сектам. На своих первых этапах эта новая религия обещала начисто приостановить исторический цикл насилия и гонений, который так сильно изуродовал жизнь христианства в поздней античности. Ислам нес с собой веротерпимость, мир и желанное отделение церкви от государства[32].
Ислам нес христианским диссидентам веротерпимость, мир и желанное отделение церкви от государства
Современный наблюдатель может увидеть в этой истории грозное предупреждение о тех опасностях, которые несет с собой смешение церкви и государства. Христиане могли наслаждаться взаимным миром только тогда, когда правительство не интересовалось созданием и введением религиозной ортодоксии и с одинаковым презрением относилось к различным соперничающим одна с другой церквям. Но оказалось, что свобода от контроля со стороны ортодоксальных христиан обошлась отколовшимся церквям слишком дорого. Вопреки ожиданиям новая мусульманская власть несла совершенно иные ценности и преследовала свои цели, которые она энергично осуществляла.
Хотя этот процесс занял не одно столетие, в итоге христианство стало увядать под властью ислама. Чтобы дать читателю представление о масштабе разрушения древних церквей, напомним, что в V веке происходила борьба за господство между престолами Рима, Александрии, Антиохии и Константинополя и что в этой борьбе были свои победители и побежденные. Однако сегодня последние три города находятся в странах, где господствуют мусульмане и традиции ислама, а христиане составляют скромное меньшинство. Сам Эфес ныне находится в восточной части мусульманской страны, которую мы называем Турцией, где христиан почти не осталось. Халкидон и его последствия настолько разделили христианский Восток, что его разрушение стало почти неизбежным[33].
Современные верующие могут вынести из этого исторического опыта самые разные уроки, которые, разумеется, не сводятся к примитивной мысли о мусульманской угрозе. Когда общины слишком глубоко погружаются в свои междоусобицы, они рискуют забыть о том, что у них общего, и не заметить более серьезной внешней угрозы по своей близорукости.
Воображаемая альтернатива
То, что в итоге было официально признано христианской ортодоксией, медленно и постепенно выковывалось в мучениях и иногда не без кровопролития. Это была череда схваток, заговоров и переворотов и иногда открытых боевых действий, занявшая не одно столетие. Нам несложно представить иной исход, в результате которого так называемые ортодоксы были бы объявлены еретиками, что повлияло бы на ход всей политической истории, не говоря уже о развитии христианского мышления и благочестия.
Мы даже могли бы сказать, что ход истории христианства зависел даже не от какого-то человека, но от одной определенной лошади – той, которая споткнулась в 450 году, что стало причиной смерти императора Феодосия II, поддерживавшего монофизитов. Он умер в сорок девять лет, то есть вполне мог бы управлять империей на протяжении последующих двух десятилетий. Это «мог бы» притягивает наше воображение, потому что, если бы он не погиб, история мира могла бы стать совершенно иной. Если бы Феодосий не погиб, не было бы и Халкидона, и в этом случае западная, европейская, кафолическая часть империи могла бы в течение последующего столетия оказаться отколовшейся. В то время казалось, что ход событий будет именно таковым[34].
Ход истории христианства зависел даже не от какого-то человека, но отодной определенной лошади – той, которая споткнулась в 450 году
Мы можем себе вообразить альтернативную вселенную, где раскол между Римом и Востоком произошел не в XI, а в V веке и где папский Рим так и не смог восстановиться после череды набегов варваров. К 450 году большая часть бывшей западной империи оказалась бы под политической властью варварских военачальников, которые преимущественно исповедовали арианство, а не веру кафоликов. Институт папства мог бы пережить арианские гонения и культурное давление, а мог бы и исчезнуть. А тем временем на Востоке Римская империя, исповедующая монофизитство, получила бы прочнейшее основание в виде единого и верного восточного региона, простиравшегося от Египта до Кавказа, от Сирии до Балкан. Такой крепкий христианский мир дал бы могучий отпор только что появившимся на сцене мусульманским захватчикам и смог бы надежно охранять свои границы.
Позднейшие христианские богословы знали бы основные языки вероучения – греческий, коптский и сирийский, – и это дало бы им доступ к богатым сокровищам веры, сохранившимся на этих языках. В то же время латынь была бы понятна только горстке ученых, которые не поленились изучить этот маргинальный язык с его причудливым алфавитом. И только эти отважные специалисты могли бы вспомнить о таких незначимых героях христианской древности, как Блаженный Августин или Патрик. Зато каждый образованный человек смог бы назвать таких главных героев христианской истории, как Севир Антиохийский или авва Шенуда из Египта[35]. Этот альтернативный мир считал бы решающим событием церковной истории не Халкидон, но Второй Эфесский собор (который мы сегодня называем «Разбойничьим» и считаем как бы небывшим). Там учение об одной природе восторжествовало над злостными заблуждениями диофизитов, еретиков, учивших о двух природах.
Если эта картина с легкостью могла бы стать реальностью, из этого следует, что споры середины V века следует считать критически важным моментом для всей истории христианства. В последнее время исследователи говорят о предшествовавшем этому Никейском соборе (325 год) как о критическом моменте, определившем ход христианства, который стал разграничительной линией между древним и средневековым христианством. На самом же деле борьба за определения основ веры растянулась на многие века и породила несколько иных Великих соборов, где в каждом случае события могли бы привести к иному исходу.
Сегодня появилось также немало трудов, где церковная история представлена как постепенное движение к вере «не от мира сего», где Христос из пророка или пропитанного мистикой социального учителя превращается в небесного искупителя. Так, например, по мнению Элайн Пэджелс, этот процесс отражается в том, что на смену таинственному Евангелию Фомы пришел текст о воплощении евангелиста Иоанна («В начале было Слово»). Фома, полагает она, обращен к искателям и тем, кто интересуется мистическим, тогда как Иоанн пишет для благочестивых верующих, лишенных сомнений. Как думают некоторые исследователи, жесткий канон Нового Завета создавался из стремления поддержать это постепенное возвышение Иисуса до уровня божества. По их мнению, демократичное, эгалитарное и исполненное Духа движение Иисуса ранних времен выродилось в репрессивную кафолическую церковь Средних веков: Христос pantokratorзаслонил человека Иисуса. Многие авторы видят в Никее трагическое завершение славной эпохи в истории христианства и начало мрачного периода[36].
В V и VI веках решался куда более мучительный вопрос: как сделать, чтобы Иисус не осталсянавсегда исключительно Богом. В этих спорах были потери: многожизней и по меньшей мере однаимперия
Однако чем пристальнее мы вглядываемся в события двух столетий послеНикеи, тем больше сомнений у нас вызывают подобные мнения. Несомненно, Никейский собор IV века был тем моментом, «когда Иисус стал Богом» (по формулировке Ричарда Рубинстейна) – но не это было самым весомым событием в истории церкви. В V и VI веках решался куда более мучительный вопрос: как сделать, чтобы Иисус не остался навсегда исключительно Богом. В этих спорах были потери: много жизней и по меньшей мере одна империя[37].
Какой властью?
Войны за Иисуса красноречиво демонстрируют нам развитие христианства с течением времени и по аналогии говорят о том, как могут развиваться иные мировые религии при столкновении с новыми обстоятельствами. Многие поднятые там темы остаются актуальными всегда, не в последнюю очередь это касается вопроса о том, как церкви определяют приемлемые рамки христианского учения.
Допустим, среди христиан возникают разногласия о предметах, которые кажутся им существенными, – как они в этом случае должны решать, кто прав, то есть кто точнее отражает ум Бога? Как церковь созидает свое собственное слишком человеческое сознание? Общества меняются, меняются обстоятельства жизни и идеологии – особенно это касается вселенской церкви, куда входят люди разных культур и политических традиций и которая постоянно сталкивается с иными верами. Когда церковь живет в определенном обществе, она естественным образом склонна перенимать распространенные стандарты окружающих, касаются ли они пола и сексуальности, собственности и рабства, войны и мира, религиозной терпимости или фанатизма. В какой-то части мира христианство развивается под влиянием стандартов тогдашнего общества, а в это время верующие из других стран начинают опасаться, что это недопустимое искажение веры. С течением времени церкви разных народов и континентов неизбежно становятся все менее похожими одна на другую.
Каким же образом церковь добивается следования общим нормам – хотя бы в той степени, чтобы церкви одних регионов могли полностью признавать другие церкви? Этот вопрос постоянно звучит и сегодня в спорах о поле и сексуальности внутри разных деноминаций: и в англиканском сообществе, и среди католиков, лютеран, методистов и пресвитериан.
Современным людям, которые уже привыкли к многообразию религий и терпимости, стремление к общим нормам может показаться излишним. Сегодня всем кажется очевидным, что, когда две стороны не могут достичь согласия, им лучше по-дружески разойтись в стороны. Каждая группа может мирно создать собственную деноминацию со своими особенностями и жить во взаимном уважении с другими. Но такой подход был недоступен церкви первых веков, и не просто потому, что тогдашние христиане в каком-либо смысле отставали от своих потомков в нравственном отношении. В христианском мышлении – идет ли речь о кафоликах, монофизитах или несторианах – центральное место занимало представление о церкви как неделимом теле Христовом. Если в теле нет единства, оно искажено, увечно и несовершенно, но эти слова просто невозможно приложить к телу Христову.
Евхаристия была зримым символом или таинством этого единого тела. Как бы ни отличались формы поклонения Богу в разных частях мира, – а здесь наблюдалось поразительное многообразие, – христианин мог причащаться вместе с другими братьями и сестрами, но лишь в том случае, если они придерживаются правильных представлений о Христе и о ключевых богословских истинах. Если же они отклоняются от этих представлений, их предают анафеме, то есть проклинают, и затем исключают из евхаристического общения. Слово анафемаизначально обладало мощным смыслом, в нем даже звучало насилие. Это греческий перевод ветхозаветного термина, который описывал полное проклятие или уничтожение города, например Иерихона, где Бог велел израильтянам предать смерти «все, что дышит». Человек, преданный анафеме, был отторгнут как от церкви, так и от гражданского общества.
Слово «анафема» изначально обладало мощным смыслом, в нем даже звучало насилие
Быть «в общении» означало разделять некоторые ключевые предпосылки, которые определяли границы между истинными членами тела Христова и теми, кто к нему непринадлежит. Этот вопрос постоянно поднимается и сегодня, когда многие либеральные христиане готовы принимать причастие в любой церкви как знак расположения и братских отношений, но с изумлением наталкиваются на жесткость правил в некоторых церквях. Эти правила нередко омрачают католические похороны, на которых либеральные священники приглашают всех участников подойти к причастию, но это вызывает ужас у некоторых ортодоксальных верующих. Но в этом вопросе именно церкви с жесткими правилами больше соответствуют древней церкви, которая видела в причастии священный символ принадлежности и единства. Ты есть тот, с кем ты вкушаешь хлеб[38].
Церковный разум
Когда империя в IV веке официально признала церковь, потребность в единомыслии среди христиан стала еще сильнее. Как разные члены и органы составляют единое тело, так должен существовать единый организм церкви с единой иерархией, где все поместные церкви действуют в гармонии и находятся в евхаристическом общении одна с другой – по крайней мере так это виделось в теории. Однако время от времени во вселенской церкви возникали споры и подымались новые вопросы, так что необходимо было развивать доктрину, чтобы отдельные фракции не проклинали других христиан как вероотступников.
* * *
Ни один человек сам по себе и ни одна отдельная группа не имели власти разрешать эти споры, никакой вождь церкви или патриарх не обладал вселенским авторитетом. Конфликты, вовлекавшие широкие группы христиан, необходимо было решать сообща всей церковью на соборах, впервые подобное произошло на собрании апостолов в Иерусалиме, описанном в Деяниях. Если церковь была телом, то эти соборы, даже если они были несовершенны, исполняли роль ее разума.
В первые века христианства местные соборы на уровне епархии и региона происходили регулярно, но к IV веку впервые начали проходить собрания, представлявшие всю церковь, то есть Вселенские соборы. Организация такого рода собрания была нелегкой задачей. Если в первые дни существования церкви было бы несложно собрать всех христиан мира в одном месте для решения важного вопроса, то теперь их стало несколько миллионов. Так что пришлось собирать епископов и высокопоставленных клириков всех церквей в качестве представителей разных частей христианского мира. Это чем-то напоминает принцип опросов или изучения общественного мнения, хотя здесь он получал сверхъестественные санкции. Соборы представляли голос церкви, ведомой Святым Духом, и после того как собрание высказывало то или иное определение по вопросу, его решение имело абсолютный авторитет[39].
Соборы представляли голос церкви, ведомой Святым Духом, и после того как собрание высказывало то или иное определение по вопросу, его решение имело абсолютный авторитет.В реальности эти соборы малопоходили на образцы коллективнойсвятости
В реальности эти соборы мало походили на образцы коллективной святости, но скорее напоминали худшего рода съезды политических партий в Америке. Напрасно историк искал бы в соборах той эпохи проявления таких вещей, как христианское милосердие, сдержанность, общечеловеческие правила хорошего тона, готовность прощать старые обиды или стремление подставить другую щеку. Ничего этого не было заметно в ходе всех важнейших споров. Но там звучали обидные оскорбления, практиковались разговоры за спиной (в переносном и буквальном смысле), бесчестные интриги и создание секретных групп, а также постоянные запугивания[40].
Если оставить в стороне соображения о человеческой греховности, существовало несколько конкретных факторов, из-за которых эти соборы были столь хаотичными и жестокими и в итоге порождали разделения среди христиан. Одна проблема структурного характера заключалась в том, что не существовало общепринятого правила о том, кто должен и кто не должен участвовать в работе собора или какой епископ вправе на нем заседать. Даже если такие правила действовали, они обессмысливались из-за того, что соборы собирались редко, а положение дел в империи менялось, так что отдельные регионы набирали или теряли свое влияние. Между 325 и 680 годами состоялось только шесть соборов, которые были признаны Вселенскими, то есть обладающими авторитетом для всей церкви, – эти редкие и нерегулярные собрания не могли остаться в памяти любой группы христиан как некая устойчивая практика[41].
Собор должен был быть достаточно представительным, то есть включать в себя по меньшей мере несколько сотен участников – так, принято считать, что в Никее собралось 318 епископов, – но не существовало письменного устава, который бы обозначил минимальное число участников или хотя бы критерии их отбора. Никто даже не знал, сколько епископов управляют церковью в данный момент. По приблизительным подсчетам, в 440-х годах на территории Римской империи существовало 1200 епископов; это число использовали в риторических вопросах вроде: «Как дерзаешь ты один противопоставлять себя 1200?» Но в некоторых регионах, например в Северной Африке, существовало чрезвычайно много епископов относительно всего населения, так что, быть может, эта цифра преуменьшена. Сюда также не вошли епископы церквей за пределами Римской империи, например Эфиопии или Персии. Можно ли считать легитимным собор из 200 участников? Из 150? А что, если их будет 50? Здесь не существовало официального кворума. Должны ли были заседать на соборе представители всех регионов, где есть христианство, или только те люди, которые могли добраться до места назначения? Этот фактор был вполне весомым в эпоху, когда на дорогах и в море путешественники натыкались на разбойников из варваров – гуннов, вандалов и готов.
Не существовало также официального объяснения того, каким образом Святой Дух оповещает о своем решении через голоса епископов. Идея голосования и подсчета большинства голосов была в V веке не менее известна, чем сегодня, но голосование обыкновенно принимало здесь форму шумных восклицаний. Группы участников кричали, чтобы поддержать то или иное решение, вероятно, произнося лозунги и распевая песнопения, заранее заготовленные для этого случая. Принципиально собор церкви мало чем отличался от уличной демонстрации. Более того, никогда не был ясным вопрос о том, что определяет окончательные христологические формулировки: большинство голосов или подавляющее большинство голосов. И даже после окончания судьбоносного голосования собор ожидал ратификации со стороны императора, а это открывало новые лазейки для лоббирования и дальнейших переговоров.
Это вопиющее отсутствие ясных правил объясняет хаотичность собраний, на которых каждая партия старалась опереться на поддержку многочисленных сторонников и показать, что делегации их противников не вправе подавать голоса. И даже когда собор голосовал за определенное решение, недовольное меньшинство могло собрать свой собственный собор, подать на нем свои голоса за иное решение и отослать результаты на утверждение императору. Обычно эти решения включали в себя проклятия соперникам и предание их анафеме, так что после некоторых соборов – особенно Первого Эфесского – наблюдателю было трудно запомнить, кто кого предал анафеме или низложил.
Такая процедура – или, точнее, отсутствие процедуры – давала семье императора и его чиновникам власть не меньше той, что имели патриархи и епископы. Любой рассказ о битвах за Иисуса следовало бы начать с великих патриархов или с таких важных деятелей церкви, как Лев Великий или Кирилл Александрийский, и подобных им мужей из Антиохии и Константинополя, однако окончательное решение здесь принимали императоры: Феодосий II и Маркиан. Кроме них сюда внесли не менее важный вклад тогдашние императрицы и дочери императора. Здесь прежде всего уместно вспомнить императрицу Пульхерию, которой удавалось заключать союзы с варварскими военачальниками и благодаря этому на протяжении тридцати лет поддерживать порядок в восточной части империи, в то время как Галла Плацидия управляла западной ее частью. Не менее важна здесь роль Евдокии, поэтессы и великого мастера риторики, которая поддерживала монофизитов после их поражения на Халкидонском соборе. Без поддержки этих и других благородных женщин ни одна из сторон не смогла бы долго просуществовать или бороться с противниками. Пульхерия прежде всего сыграла важную роль в том, что определенные формулировки стали христианской ортодоксией. Без ее постоянного личного вмешательства Первый Эфесский и Халкидонский соборы имели бы иной исход. И церковь просто воздала ей должное, канонизировав ее как святую. С другой же стороны, отделившаяся монофизитская церковь не выжила бы без покровительства Феодоры, императрицы VI века[42].
На всех Великих соборах шла борьба между великими патриаршими престолами, представлявшие их духовныелица после этого становились либо великими святыми и отцамицеркви, либо проклятыми еретиками
Решения по любому богословскому вопросу имели огромные политические последствия. На всех Великих соборах шла борьба между великими патриаршими престолами, представлявшие их духовные лица после этого становились либо великими святыми и отцами церкви, либо проклятыми еретиками. Некоторые из этих вождей церкви представляли также определенные традиции политической власти и монархии. Когда Римская империя начала разрушаться, снова ожили более древние представления о власти, так что александрийские патриархи, такие, как Кирилл, считали себя – в буквальном смысле – чуть ли не древними фараонами или богами-царями из династии Птоломеев и вели себя соответствующим образом. Лев и другие римские папы считали себя преемниками римских императоров, константинопольские патриархи видели себя вождями христианской теократии. За богословскими спорами стояло столкновение таких представлений, здесь прошлые и будущие монархии пытались доказать, что именно они суть законные наследники увядших режимов и потому должны первенствовать среди прочих. В Эфесе и Халкидоне шли бои за политическое будущее, а не только за вечную истину.
Вера и насилие
Епископы на соборах спорили о богословии в наполненных кадильным дымом залах, но их решения влияли на жизнь улицы и селений, где рядовые миряне искренне думали, что сама суть христианской веры оказалась под угрозой. За такие вещи, которые кажутся нам философскими тонкостями, обычные люди убивали, пытали или изгоняли своих соседей. Склонность к насилию и гонениям появилась у христиан намного раньше, чем принято думать, явно еще на раннем этапе развития церкви, до наступления Средневековья. Соборы вызывали ужасающие вспышки насилия во многих частях империи – от народных восстаний и переворотов до массовых убийств и гонений. Силам империи было трудно контролировать то, что происходило на ее огромной территории, особенно в таких процветающих, но недовольных странах, как Египет и Сирия[43].
За такие вещи, которые кажутся нам философскими тонкостями, обычные люди убивали, пыталиили изгоняли своих соседей
Христиане применяли насилие не только против других христиан. Историки нередко говорят о том, что церковь стала более нетерпимой после того, как она получила официальное признание в империи, и это проявлялось во враждебном отношении к еретикам, язычникам и иудеям. Но в годы Великих соборов, между 410 и 460-м, уровень нетерпимости стал пугающе высоким. И это было прямым и естественным последствием богословских сражений. Пульхерия, спасшая ортодоксию в 451 году, одновременно возглавляла кампанию по насильственной борьбе с иудеями, которая предвосхищала антисемитские гонения в средневековой Европе. Привкус «Средневековья» во всем этом – в религиозном насилии и нетерпимости, антисемитизме и фанатизме – усиливает тот факт, что правящая династия эпохи Эфеса и Халкидона, включая Пульхерию, имела испанские корни. Разумеется, здесь не следует думать об этническом детерминизме, тем не менее, любопытно отметить, что христианский мир V века во многом походил на эпоху печально известного великого инквизитора Торквемады[44].
Описывая бурные события, последовавшие за Халкидонским собором, историк Эдуард Гиббон недоумевает: как может «метафизический спор» вызвать подобные вспышки насилия? Но современные люди часто не понимают, что в древности насилие казалось законным, и это выходит за рамки метафизики. Кроме того, здесь нет смысла отделять религиозные мотивы от нерелигиозных. Большинство людей того времени, будь они образованными или простыми, верили в господство провидения в мире. По их мнению, дурное поведение или еретические верования вызывали гнев Бога, который мог выражаться во вполне материальных вещах: землетрясениях и пожарах, нашествиях и военных поражениях, голоде и эпидемии. Если не связать руки злодеям и еретикам, общество может просто погибнуть. Активисты, пытаясь уничтожить группы злонамеренных людей, использовали методы, которые кажутся вполне земными, политическими и циничными, но мы не можем отделить эти действия от стоящих за ними мотивов сверхъестественного характера. Хотя историки используют этот термин, никакой «секулярной жизни», не зависящей от церкви и религии, просто не существовало, и Римская империя – и в языческий, и в христианский периоды – никогда не была секулярной в современном смысле слова. Не существовало там и такой вещи, как «просто политика».
Монополия на насилие
Даже когда верующих глубоко возмущают те или иные чужеродные религиозные представления, это само по себе не обязательно порождает насилие – это касается и тогдашнего, и нынешнего мира. Насилие возникает тогда, когда у государства нет желания или возможности обуздать деятельность частных групп с сильной мотивацией. Такое бывает при слабости государства и падении общественных институтов или тогда, когда государство сознательно заключает союз с частными группами. В любом случае государство здесь утрачивает монополию на насилие (знаменитый термин социолога Макса Вебера), вследствие чего политическая стабильность оказывается под угрозой. Насилие порождает насилие, если его не сдерживает какая-либо внешняя сила.
Именно это произошло в V веке, когда церковь и государство все еще плохо понимали, где лежат пределы их власти. Разумеется, империя стала христианской и руководители церкви обладали высоким статусом и пользовались привилегиями. Но где кончалась их власть в сфере борьбы с язычеством или религиозными соперниками? К 400 году императоры все еще плохо понимали, что можно позволить церковным властям, которые служили агентами правительства и потому получали от него право использовать принуждение и грубую силу. Как ни старались благонамеренные государственные чиновники сохранить мир на соборах, они не смогли выполнить своей задачи, когда императорский двор отказался поддерживать их решения[45].
Тем временем новые религиозные течения изменили представления об основах власти, благодаря чему неимоверно возрос авторитет харизматических религиозных вождей. Среди христиан стала популярной идея о том, что избранные верующие, отказавшиеся от сексуальности и материального мира, получают от Бога сверхъестественную власть, особые дары, которые проявляются в видениях и чудесных исцелениях. Эта сила по своей природе превосходит любые силы светского мира. Тысячи монахов и отшельников, покинувших этот мир, стали героями, а их поступки – ролевыми моделями для тех, кто не мог во всей полноте принести такие жертвы. И мирские лидеры не ставили под вопрос этот особый мир духовной власти, но скорее пытались его имитировать. Даже императорская семья теперь вдохновлялась идеями об отвержении мира и целомудрии и прислушивалась к предсказаниям святых и визионеров.
К V веку создалось такое положение, когда епископы и другие христианские вожди могли поднять на защиту своих интересов великую силу, и это делало их важными политическими игроками. Церковь стала не государством внутри государства, но скорее параллельным государственным аппаратом. Епископы требовали абсолютной лояльности от своих клириков и последователей, подобно земным владыкам и аристократам, которые могли рассчитывать на преданность своих клиентов. Монахи играли особую роль частной армии и священных боевиков, которые по приказу харизматического епископа могли громить языческие храмы, избивать или убивать оппонентов и запугивать соперничающих богословов. Это были не какие-то мерзавцы, совершавшие злоупотребления, но преданные церкви монахи и клирики, которые делали именно то, что от них ожидалось, кроме их практики молитвы, размышления и исцелений. Когда город или какой-то край разделялся вокруг богословского вопроса, враждующие епископы и монахи в буквальном смысле сражались за истину на холмах и на улицах[46].
Разжигали экстремизм представления о чести. На протяжении многих веков вопрос о чести был неизбежным компонентом религиозных конфликтов, в том числе и в христианстве. Некоторые церковные институты того времени, по иронии судьбы, чем-то напоминают нам современные преступные или террористические организации – временами александрийский патриархат вел себя как члены клана Сопрано. И это сравнение более весомо, чем может показаться, поскольку и в древние, и в нынешние времена в средиземноморских сообществах действуют одни и те же культурные феномены: отношения патрона и клиента, честь и месть, преданность своей семье или клану. В различных регионах Римской империи социальные отношения определяли семья и честь, а в экстремальных условиях люди защищали эти ценности с помощью силы. Повседневная жизнь людей во многом представляла собой непрерывный цикл событий, в которых честь ставилась под вопрос, защитник чести совершал ответный ход и добивался победы над соперниками. Люди стояли за честь своей группы и, что не менее важно, старались покрыть бесчестием противников. Если нам трудно понять ритуалы кровной мести и родовой вражды, мы никогда не поймем жизнь средиземноморских и ближневосточных сообществ ни в V, ни в XXI веках.