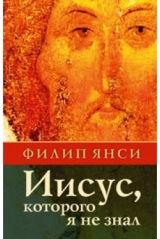
Текст книги "Иисус, которого я не знал"
Автор книги: Филип Янси
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Мартин Лютер интерпретировал Нагорную проповедь в свете формулы Иисуса «кесарю кесарево, а Богу Божье». Христиане имеют двойное гражданство: одно в Царстве Христа, а другое в земном царстве. Крайности Нагорной проповеди относятся исключительно к Царству Христа, а не к земному царству. Возьмем заповеди «возлюби врага своего» и «не противься злому»; конечно, это не соответствует реальности! С целью предотвращения анархии, государство должно противостоять злу и защищаться от врагов. Поэтому христианин должен научиться отличать общественное от личного: то есть христианский солдат, например, должен выполнять приказ сражаться и убивать, даже если он в своем сердце следует закону любви по отношению к врагу.
Во времена Лютера различные анабаптистские движения занимали совершенно противоположную позицию. Все подобные попытки приземления однозначных заповедей Иисуса являются заблуждением, говорят они. Разве ранняя церковь в первые четыре века своего существования не цитировала заповедь Христа «любите врагов ваших» чаще других? Просто прочитайте Нагорную проповедь. Иисус не проводит различия между советами и наставлениями или между служебным и личным. Он говорит: не противься злому человеку, не клянись, подай нуждающемуся, люби врагов своих. Мы должны следовать его заповедям как можно буквальнее. С этой целью некоторые группировки предлагали отказаться от частной собственности. Другие, например квакеры, отказывались давать клятвы или снимать шляпу во время общественных мероприятий и не желали иметь армию и даже полицию. Как следствие этого, тысячи анабаптистов были убиты в Европе, Англии и России; многие из тех, кто выжил, сбежали за океан в Америку, где они попытались организовать коммуны, основанные на принципах Нагорной проповеди [9 – В ответ анабаптистам Лютер с издевкой писал о христианине, который позволял блохам скакать по нему, поскольку он не мог убить паразита, рискуя таким образом нарушить заповедь «не противься злому».].
В девятнадцатом столетии в Америке поднялась новая волна теологического движения, связанная с Нагорной проповедью. Диспенсационализм объяснил ее как последний отголосок эпохи закона, сменившейся после смерти Иисуса и его воскрешения эпохой благодати. Поэтому нам не нужно следовать этим строгим требованиям. Популярная Библия Скоуфилда описала проповедь как «закон в чистом виде», но содержащий «замечательное обращение к морали христианина».
Еще одна интерпретация принадлежит Альберту Швайцеру, который видел в Нагорной проповеди набор временных требований, пригодных для военного времени. Убежденный в том, что мир скоро закончит свое существование в апокалипсисе, Иисус приводил в исполнение подобие «военного трибунала». Пока миру не пришел конец, мы можем по–разному относиться к его инструкциям.
Я прилежно изучил все эти направления, пытаясь понять Нагорную проповедь с их точки зрения – и, я должен признать, также пытаясь найти способ освободиться из под их строгих требований. Каждая школа мысли вносила важные идеи, однако также каждая из них имела белые пятна. Подобно разъяснениям большинства добрых докторов, введенные Фомой Аквинским категории наставлений и советов обладали крепким здравым смыслом, но это не были те определения, которые давал Иисус. Иисус, видимо, скорее уравнивал наставление «не прелюбодействуй» с советом «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Решение этого вопроса Лютером казалось оригинальным и мудрым, но Вторая мировая война продемонстрировала те шизофренические последствия, которые это может за собой повлечь. Многие лютеране служили в армии Гитлера, будучи четко убежденными в том, что они «просто выполняют приказы», они несли службу в государстве, сохраняя внутреннюю приверженность Христу.
Что касается анабаптистов и других приверженцев буквального следования заповедям, их ненасильственное восприятие гонений остается одним из самых блестящих моментов в истории Церкви. Хотя они сами признавали, что ошибались, дословно исполняя каждую заповедь Нагорной проповеди. Квакеры, к примеру, находили способы обойти правила, чтобы помочь делу Американской Революции. А как же быть с бескомпромиссными утверждениями Иисуса по поводу гнева и похоти? Много веков назад Ориген воспринял предупреждение против похоти буквально, но Церковь, ужаснувшись, некоторое время спустя отвергла его решение подвергнуть себя кастрации.
Тот, кто буквально следовал заповедям и верил в апокалипсис, тот находил нетривиальные пути уклонения от наиболее строгих требований проповеди Иисуса, но для меня они все равно оставались тем, чем и были: путями уклонения. Сам Иисус не подавал никакого знака, который мог бы быть истолкован таким образом, что его заповеди действительны только в течение какого–то короткого периода или в особых обстоятельствах. Он провозглашал их со всем авторитетом («Говорю вам…») и строгостью («Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном…»).
Не имеет значения то, насколько тяжелыми были мои попытки, я не искал легкого обходного пути в трактовке Нагорной проповеди. Подобно легкому приступу депрессии, диссонанс моего восприятия слов Иисуса держал меня в состоянии постоянного душевного напряжения. Я пришел к выводу, что если Нагорная проповедь утверждает Божий стандарт святости, то я могу отказаться от него с самого начала. Нагорная проповедь не послужила моему улучшению; она просто продемонстрировала мне те пути, которых я не знал.
В конечном итоге, я нашел ключ к пониманию Нагорной проповеди не в трудах больших теологов, а в совершенно другом месте: в произведениях двух русских романистов девятнадцатого века. Благодаря им я обрел свое собственное видение Нагорной проповеди и ее мозаики закона и милости, видение, которое я обрел благодаря Толстому и Достоевскому [10 – В начале семидесятых годов Малкольм Магериг был удивлен, услышав, что люди, принадлежащие к интеллектуальной элите в Советском Союзе, находились в состоянии духовного возрождения. Анатолий Кузнецов, живущий в эмиграции в Англии, сказал ему, что в СССР вряд ли найдется хоть один писатель, или художник, или музыкант, который не занимался бы вопросами духа. Магериг сказал: «Я спросил у него [у Кузнецова]: как это может происходить при наличии такой огромной работы по антирелигиозной промывке мозгов, проведенной над гражданами, и при отсутствии любой христианской литературы, включая Евангелие. Его ответ был запоминающимся; власти, сказал он, забыли изъять произведения Толстого и Достоевского, самые совершенные проявления христианской веры нашего времени».].
У Толстого я научился глубокому уважению к непреклонности Бога, к абсолютному идеалу. Нравственные идеалы, которые Толстой нашел в Евангелии, захватили его, подобно пламени, хотя его попытки жить по этим идеалам и закончились, в конечном итоге, неудачей. Как и анабаптисты, Толстой стремился к буквальному следованию Нагорной проповеди, и его рвение вскоре заставило его самого и его семью чувствовать себя жертвами этих поисков святости. Например, прочитав то, как Иисус велел богатому человеку отдать все, что у него было, Толстой решил освободить слуг, отказаться от авторских прав на свои произведения и от распоряжения своей собственностью. Он носил одежду крестьян, сам шил себе обувь и начал работать в поле. Его жена, Софья, видя, как рушится финансовое положения семьи, резко протестовала против этого, пока он немного не одумался.
Когда я читаю дневники Толстого, я вижу отражение моего собственного стремления к совершенству. Дневники содержат описание множества ссор между Толстым и его семьей, но гораздо больше между Толстым и им самим. Пытаясь достичь совершенства, он постоянно изобретал новые списки правил. Он бросил охотиться, курить, пить и отказался от мяса. Он разработал «Правила для развития эмоциональной воли, Правила для развития возвышенных чувств и вытеснения низменных». Однако он никогда не мог достичь необходимой самодисциплины, чтобы следовать этим правилам. Не один раз Толстой публично клялся хранить целомудрие и требовал отдельную спальню. Он никогда не мог долго держать свою клятву, и, к его большому стыду, слухи о шестнадцати беременностях Софьи, распространившиеся по миру, стали тому подтверждением.
Иногда Толстому удавалось совершать серьезные добрые дела. Например, после большого перерыва, он написал последний роман «Воскресение» в возрасте семидесяти одного года в поддержку духоборов, анабаптистской группы, подвергавшейся преследованию со стороны царского правительства, пожертвовав всю выручку на финансовое обеспечение их эмиграции в Канаду. И, как я упоминал, философия ненасилия Толстого, восходящая напрямую к Нагорной проповеди, дала обильные плоды и возродилась, пережив своего создателя, в таких идеологических диссидентах, как Ганди и доктор Мартин Лютер Кинг.
Однако таким людям, как Ганди, воодушевленным подобными возвышенными идеалами, стоит прислушаться к критикам или биографам, которые были удивлены тем, какими жалкими были попытки Толстого соответствовать этим идеалам. Если быть совершенно откровенным, ему не удалось воплотить в жизнь то, что он проповедовал. Его жена хорошо сказала об этом (выразив явно пристрастное мнение):
В нем так мало неподдельной теплоты; его доброта исходит не из его сердца, а, скорее, из его принципов. Его биографы будут рассказывать о том, как он помогал рабочим носить ведра с водой, но никто никогда не узнает, что он не давал жене никакого отдыха и ни разу – за все эти тридцать два года – не подал своему ребенку глоток воды и не посидел у его постели, чтобы дать мне возможность отдохнуть немного от всех моих трудов.
Горячее стремление Толстого к совершенству ни разу не принесло ему никакого подобия мира или душевного покоя. До самой смерти он в своих письмах и дневниках постоянно возвращался к печальной теме своего поражения. Когда он писал о своей религиозной вере или пытался преодолеть эту веру, антагонизм между реальностью и идеалом преследовал его по пятам. Он был слишком честен для самообмана, он не мог успокоить мучившую его совесть, поскольку, честно говоря, он знал, что лежит на его совести.
Лев Толстой был глубоко несчастным человеком. Он осуждал коррумпированную Православную Церковь его времени, за что и был отлучен от Церкви. Все его попытки самоутверждения потерпели поражение. Ему пришлось спрятать все веревки в своем поместье и убрать все ружья, чтобы избежать искушения самоубийством. В конце концов, Толстой бежал от своей славы, от своей семьи, от своего положения, от себя самого; он умер как бродяга на одном сельском железнодорожном полустанке.
Чему же тогда я научился из трагической жизни Толстого? Я прочитал много его религиозных трудов, и я, безусловно, был воодушевлен его проницательным пониманием Божественного Идеала. Я понял, что хотя некоторые видят в Библии решение наших проблем в различных областях – проблемы справедливости, проблемы нашего отношения к деньгам, расовой проблемы, – на самом деле, Евангелие утяжеляет наше бремя. Толстой видел это и никогда не принижал идеалы Евангелия. Трудно не обратить внимание на человека, который соглашается освободить своих слуг и отказаться от своих страстей, просто подчиняясь заповедям Христа. Если бы он только смог жить в соответствии с этими идеалами – если бы только я мог сделать это.
Своим критикам Толстой отвечал, что не следует судить о святых идеалах по его неспособности им соответствовать. Не судите о Христе по тем из нас, кто несовершенно несет его имя. Один отрывок, взятый из личного письма, особенно хорошо показывает, как Толстой отвечал на подобную критику в свой адрес до конца своей жизни. Это некий итог его духовной жизни, одновременно и звучное признание истины, в которую он верил всем сердцем, и воззвание с тоской в голосе к той благодати, которую он так никогда полностью и не реализовал.
«Что насчет Вас, Лев Николаевич, Вы очень хорошо проповедуете, но живете ли Вы сами так, как проповедуете?» Это самый естественный из вопросов, который все время мне задают; обычно это говорится триумфальным тоном, как будто это способно закрыть мне рот. «Вы проповедуете, но как Вы сами живете?» И я отвечаю, что я не учу тому, чему не в состоянии учить, хотя мне страстно этого хочется. Я могу учить только посредством моих поступков, а мои поступки низки… И я отвечаю, что я виновен, и низок, и достоин презрения за мою неспособность исправить их. В то же самое время, не с целью оправдаться, а для того, чтобы объяснить, почему мне не достает последовательности, я говорю: «Посмотрите на мою нынешнюю жизнь, а затем на мою прошлую жизнь, и вы увидите, что я пытаюсь выполнять их. Это правда, что я не выполнил и тысячной доли их [христианских заповедей], и я стыжусь этого, но мне не удалось их выполнить не потому, что я не хотел этого, а потому, что не мог. Научите меня, как выбраться из окружающих меня сетей искушений, помогите мне, и я их выполню; даже и без посторонней помощи я хочу жить по ним и надеюсь, что мне это удастся.
Критикуйте меня, я сам это делаю, но критикуйте меня, а не тот путь, которому я следую и который я указываю всем, кто спрашивает меня, где он, по моему мнению, пролегает. Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяным, становится ли этот путь менее правильным оттого, что я шатаюсь из стороны в сторону! Если это неправильный путь, то покажите мне другой; но если я колеблюсь и сбиваюсь с пути, вы должны помочь мне, вы должны показать мне верный путь так же, как я готов поддержать вас. Не сбивайте меня с пути, не радуйтесь тому, что я потерялся, не восклицайте радостно: «Посмотрите на него! Он говорил, что идет домой, а сам направляется в сторону болота!» Нет, не злорадствуйте, а окажите мне помощь и поддержку.
Мне было грустно, когда я читал религиозные сочинения Толстого. Видение человеческого сердца, подобное рентгеновским лучам, сделавшее из него великого романиста, также превратило его в мучимого христианина. Как лосось на нерест, он всю жизнь пробирался против течения, в конце концов обессилев от морального истощения.
Однако я также чувствую благодарность по отношению к Толстому. Поскольку его неотступное следование собственной вере произвело на меня неизгладимое впечатление. Я впервые столкнулся с его романами в тот период моей жизни, когда я страдал от длительных последствий «жестокого обращения с детьми по–библейски». В тех церквях, которые я посещал в детстве, было слишком много обмана, или, по крайней мере, мне так это виделось сквозь призму высокомерия молодости. Когда я наблюдал огромный разрыв между идеалами Евангелия и ошибками его последователей, у меня появлялось сильное искушение отказаться от этих идеалов как от безнадежно недостижимых.
Тогда я открыл для себя Толстого. Он был первым писателем, который, по моему мнению, выполнил эту одну из самых непростых задач: сделать добро таким же правдоподобным и привлекательным, как зло. В его романах, повестях и рассказах я нашел потенциал моральной силы, подобный вулкану Везувию. Несомненно, он изменил мою точку зрения.
Э. Н. Уилсон, биограф Толстого, отмечает, что Толстой страдал от «абсолютной теологической неспособности понять Воплощение. Его религия была построена исключительно на Законе, а не на Благодати, была, скорее, способом улучшить человека, а не видением Бога, сошедшего в падший мир». С кристальной ясностью Толстой видел свою собственную неадекватность в свете Божественного идеала. Но ему не удалось сделать следующий шаг и позволить Божественной благодати преодолеть эту неадекватность.
Вскоре после знакомства с Толстым я открыл для себя его соотечественника Федора Достоевского. Два этих наиболее знаменитых и совершенных из русских писателей жили и творили в один и тот же период истории. Странно, что они никогда не встречались, и, возможно, это было к лучшему – они были антагонистами во всех смыслах. В то время как Толстой писал светлые и радостные романы, Достоевский писал темные и мрачные романы. В то время как Толстой разрабатывал аскетические пути самосовершенствования, Достоевский периодически подрывал свое здоровье алкоголем и испытывал свою удачу в азартных играх. Достоевский сделал много ошибок, но в одном он был прав: его романы говорят о милости и прощении с толстовской силой.
Еще в молодости Достоевский пережил настоящее воскрешение. Он был арестован за принадлежность к группе, обвиненной в мятеже во времена царя Николая Первого, который, чтобы показать молодым неформальным радикалам тяжесть их ошибок, приговорил их к смерти и имитировал процесс казни. Заговорщики были одеты в белые саваны и приведены на лобное место, где их ждала расстрельная команда. С завязанными глазами в погребальных одеждах, с крепко связанными за спиной руками, их поставили перед толпой зевак, а затем привязали к столбам. В самый последний момент, когда прозвучал приказ: «Готовсь! Целься!» и винтовки были приведены в боевую готовность и подняты, галопом прискакал всадник с заранее подготовленным посланием от царя: он смягчает наказание и заменяет смертную казнь каторжными работами.
Достоевский никогда впоследствии не забывал этого опыта. Он смотрел в глаза смерти, и с этого момента жизнь приобрела для него ни с чем не сравнимую ценность. «Теперь моя жизнь изменится, – сказал он, – я буду рожден заново в новой форме». Когда он сел на арестантский поезд, идущий в Сибирь, одна набожная женщина протянула ему Новый Завет, единственную книгу, которую разрешалось иметь в тюрьме. Веря в то, что Господь дал ему еще один шанс последовать его зову, Достоевский пристально изучал этот Новый Завет в течение всех лет своего заключения. Через десять лет он вернулся из изгнания, обладая непоколебимыми христианскими убеждениями, как говорится в одном из известных фрагментов: «Если бы кто–нибудь доказал мне, что истина и Иисус не одно и то же… то я бы предпочел остаться с Иисусом, а не с истиной».
Тюрьма предоставила Достоевскому еще одну возможность. Он был вынужден жить бок о бок с ворами, убийцами и крестьянами–пьяницами. То, что он жил одной жизнью с этими людьми, позволило ему позднее с несравненной достоверностью изображать героев в своих романах, таких, как убийца Раскольников в «Преступлении и наказании». Идеалистические взгляды Достоевского на врожденную доброту человеческой натуры потерпели фиаско в столкновении с неискоренимым злом, которое он нашел в своих сокамерниках. Однако со временем он также заметил искру Божию даже в самых безнадежных заключенных. Он пришел к вере, что только будучи любимым, человеческое существо способно само испытывать любовь; «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
В романах Достоевского я столкнулся с благодатью. «Преступление и наказание» изображает жалкого человека, совершающего жалкое преступление. Однако благодать все–таки входит в жизнь Раскольникова, благодаря обратившейся проститутке Соне, которая следует за ним до самой Сибири и ведет его к раскаянию. «Братья Карамазовы», возможно, величайший из романов, которые когда–либо были написаны, построен на антитезе между блестящим агностицизмом Ивана и набожностью его брата Алеши. Иван в состоянии критиковать неудачи человеческого рода и каждую политическую систему, отмеченную этими неудачами, но он не может предложить никакого решения. У Алеши нет ответов на те интеллектуальные вопросы, которые затрагивает Иван, но у него есть свой ответ человечеству: любовь. «У меня нет ответа на проблему зла, – сказал Алеша, – но я знаю любовь». В конечном итоге, в чудесном романе «Идиот»
Достоевский представляет фигуру Христа в образе князя, страдающего эпилепсией. Спокойный, таинственный, князь Мышкин вращается в высших кругах русского общества, обличая их лицемерие и озаряя жизни этих людей добром и истиной.
Оба этих русских писателя стали моими духовными наставниками в трудное время моего христианского паломничества. Они помогли мне найти подходящие выражения для основного парадокса христианской жизни. Толстой научил меня необходимости смотреть внутрь себя, в Царство Божие, которое находится во мне. Я понял, насколько ничтожны были мои попытки соответствовать высоким идеалам Евангелия. А Достоевский научил меня всеобъятности благодати. Не только Царство Божие существует во мне; сам Христос тоже пребывает там. «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Есть только один путь для каждого из нас, как преодолеть разрыв между высокими идеалами Евангелия и удручающей реальностью нашего душевного состояния: признать тот факт, что мы не соответствуем этим идеалам, но мы и не должны им соответствовать. Нас осуждает праведность Иисуса, который живет в нас, а не наша собственная. Толстой наполовину понимал это: все, что позволяет мне чувствовать себя комфортно по сравнению с божественным моральным идеалом, все, что позволяет мне считать: «В конце концов, я достиг», – все это есть жестокий обман. Вторую половину понял Достоевский: все, что заставляет меня сомневаться во всепрощающей любви Божией, также есть жестокий обман. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу», – это пророчество Лев Толстой никак не мог понять.
Абсолютные идеалы и абсолютная благодать: после того, как я узнал об этом дуалистическом учении от русских романистов, я вернулся к Иисусу и нашел, что оно полностью соответствует учению, содержащемуся в Евангелиях и особенно в Нагорной проповеди. В своем ответе богатому молодому человеку, в его притче о добром самаритянине, в его комментариях по поводу развода, денег или по поводу любой другой моральной проблемы, Иисус никогда не принижал Божественные идеалы. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», – сказал он. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим». Ни Толстой, ни Франциск Ассизский, ни мать Тереза – никто полностью не исполнил эти заповеди.
Однако тот же самый Иисус с любовью предлагал абсолютную благодать. Иисус простил падшую женщину, преступника на кресте, ученика, который отрицал, что вообще был знаком с ним. Он выбрал этого неверного ученика, Петра, чтобы тот основал его церковь, а в другом случае обратился к человеку по имени Сава, который был известен тем, что преследовал христиан. Благодать Божия абсолютна, непреклонна и всеобъемлюща. Она распространяется даже на тех, кто прибивал Иисуса гвоздями к кресту: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают», – это были последние слова, произнесенные Иисусом на земле.
Много лет назад я чувствовал себя столь недостойным в свете абсолютных идеалов Нагорной проповеди, что я не замечал в них ни тени благодати. Но несмотря ни на что, однажды я понял двойственность их значения, я вернулся к Нагорной проповеди и нашел, что вся эта речь пронизана духом благодати. Этот дух ощущается уже в заповедях блаженства – блаженны нищие духом, гонимые, плачущие; блаженны отчаявшиеся – и продолжает присутствовать там вплоть до молитвы «Отче Наш»: «Прости нам долги наши… и избави нас от лукавого». Иисус начал эту великую проповедь словами, обращенными к тем, кто пребывает в нужде, и закончил молитвой, которая стала прототипом для всех групп социальной реабилитации. «Однажды, в один прекрасный день», – говорят участники группы анонимных алкоголиков; «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», – говорят христиане. Благодать Божия снисходит на отчаявшихся, на нуждающихся, на сломавшихся, на тех, кто не способен принять самостоятельное решение. Благодать Божия доступна нам всем.
Много лет назад я думал о Нагорной проповеди как с примере человеческого поведения, которому никто не может следовать. Перечитывая ее снова и снова, я понял, что Иисус произнес эти слова не для того, чтобы создать для нас трудности, а для того, чтобы рассказать, каков Бог. Подтекстом Нагорной проповеди является образ Бога. Почему нам следует любить врагов наших? Потому что солнце нашего милосердного Отца встает как над добрыми, так и над злыми. Зачем быть совершенным? Потому что Бог совершенен. Чем так привлекательно Царство Небесное? Тем, что Отец наш живет там, и он щедро вознаградит нас. Почему можно жить без страха и забот? Потому что тот же самый Бог, который создал цветы лилии и траву на лугу, обещал заботиться о нас. Зачем молиться? Если земной отец дает сыну хлеба или рыбы, то насколько больше прекрасных даров может дать Отец Небесный тем, кто его об этом просит.
Как я мог упустить это из вида? Иисус читал Нагорную проповедь не для того, чтобы мы, подобно Толстому, пахали или копошились в отчаянии в своих ошибках с целью достичь совершенства. Он прочитал эту проповедь для того, чтобы донести до нас Божественный Идеал, к которому мы никогда не должны прекращать стремиться, но также и для того, чтобы показать, что никто из нас никогда не достигнет этого Идеала. Нагорная проповедь побуждает нас понять ту огромную дистанцию, которая существует между нами и Богом, и любая попытка сократить эту дистанцию, каким–либо образом изменив свое поведение, обречена на неудачу.
Самой большой трагедией было бы превратить Нагорную проповедь в очередную форму законничества; она скорее исключает любое законничество. Законничество, равно как и фарисейство, всегда будет в проигрыше, не потому, что оно слишком строго, а потому, что оно недостаточно строго. Громогласно, бесспорно доказывает Нагорная проповедь, что мы стоим на низшем уровне по сравнению с Богом: убийцы и святотатцы, грешники и прелюбодеи, грабители и воры. Мы отчаявшиеся, и это, в действительности, единственное состояние, в котором подобает находиться человеческому существу, которое хочет познать Бога. Сорвавшись с высот абсолютного Идеала, нам негде приземлиться, кроме как в спасительные сети абсолютной благодати.
8
Миссия: революция благодати
У милосердия нет строгой сути. Оно, как легкий дождь, струится с неба… Земная сила выглядит как сила Бога, Коль милосердие смягчает правосудие
Шекспир, Венецианский купец
Когда я со своими учениками в Чикаго читал Евангелия и смотрел фильмы о жизни Иисуса, то мы заметили строгую закономерность: чем более отталкивающим выглядит персонаж, тем лучще он чувствует себя в обществе Иисуса. Такие люди находили Иисуса привлекательным: самаритяне, считавшиеся социальными отбросами, военачальник армии тирана Ирода, предатель–мытарь, одержимая семью демонами.
У более респектабельных типов Иисус, напротив, находил сухой прием. Ханжи фарисеи находили его неотесанным и мирским человеком, богатый молодой человек ушел, качая головой, и даже Никодим, человек широких взглядов, предпочел встречу под покровом ночи.
Я обратил внимание учеников в классе на то, как странно стала выглядеть эта закономерность теперь, когда христианская церковь привлекает людей респектабельных, которые очень напоминают тех, кому Иисус казался самым подозрительным человеком на земле. Что такого произошло, благодаря чему закономерность, существовавшая во времена Иисуса, превратилась в свою противоположность? Почему грешникам не нравится находиться среди нас?
Я рассказал историю, которую услышал от одного друга, работающего в Чикаго с людьми, опустившимися на дно общества. К нему пришла проститутка, попавшая в беду, бездомная, с подорванным здоровьем, у которой не было денег, чтобы купить еды для ее двухлетней дочери. Со слезами на глазах она призналась, что продавала свою дочь – двух лет от роду! – мужчинам, занимающимся извращенным сексом, чтобы иметь возможность употреблять наркотики. Мой друг с трудом выслушал омерзительные детали ее истории. Он сидел молча, не зная, что сказать. В конце концов, он спросил ее, не думала ли она обратиться в церковь за помощью. «Я никогда не забуду выражение абсолютного наивного потрясения на ее лице», – рассказывал он мне впоследствии. «Церковь! – воскликнула она. – Что бы это дало мне? Эти люди только заставили бы меня чувствовать себя еще хуже, чем сейчас!»
Каким–то образом мы превратили церковь в сообщество респектабельных людей, сказал я своему классу. Люди, принадлежащие к низшим слоям общества, которые приходили к Иисусу, когда он жил на земле, больше не чувствуют себя желанными гостями. Как Иисусу, самому совершенному человеку в истории, удавалось привлекать людей, печально известных своим несовершенством? И что мешает нам следовать по его стопам сегодня?
Кто–то из, учеников предположил, что законничество в церкви создало барьеры из жестких правил, которые заставили нехристиан чувствовать себя некомфортно. Дискуссия в классе неожиданно приняла новое направление, когда те, кто пережил пребывание в Библейском колледже и в фундаменталистской церкви, принялись рассказывать свои истории. Я рассказал о том, как я сам в начале семидесятых был ошеломлен, когда в неком сомнительном Библейском Институте Муди, расположенном через несколько домов от нашей церкви, запретили студентам мужского пола носить бороды, усы и иметь любой волосяной покров ниже ушей – хотя студенты каждый день проходили мимо портрета Дуайта Л. Муди, косматого нарушителя всех этих трех запретов.
Все засмеялись. Все, кроме Грега, который ерзал на своем месте и постепенно «закипал». Я заметил, как его лицо покраснело, затем побледнело от гнева. Наконец, Грег поднял руку, и вся злоба и негодование выплеснулись из него. «Я хочу уйти из этого места, – сказал он, и в комнате воцарилось молчание. – Вы критикуете других за то, что они ведут себя как фарисеи. Я скажу вам, кто здесь настоящие фарисеи. Это Вы [он указал на меня] и все остальные, находящиеся в этом классе. Вы думаете, что Вы выше всех, Вы сильны и зрелы. Я стал христианином, благодаря Церкви Муди. Вы находите себе козлов отпущения, чтобы смотреть на них свысока, чувствовать себя более духовными, чем они, и вы говорите о них за их спиной. Так поступают фарисеи. Вы все фарисеи».
Все посмотрели на меня в ожидании ответа, но мне было нечего сказать. Грег застал нас врасплох. В порыве духовного высокомерия мы смотрели свысока на других людей, считая, что они фарисействуют. Я взглянул на часы в надежде на отсрочку. Такая удача мне не была предоставлена: часы показывали, что от начала урока прошло пятнадцать минут. Я подождал прилива вдохновения, но его не было. Молчание становилось все тягостней. Я почувствовал себя смущенным и загнанным в угол.
Тогда Боб поднял руку. Боб был в классе новичком, и я буду ему благодарен до самой смерти за то, что он спас меня. Он начал обезоруживающе мягко: «Я рад, что ты не ушел, Грег. Ты нам нужен здесь. Я рад, что ты с нами, и я хотел бы рассказать тебе, зачем я пришел в эту церковь.








