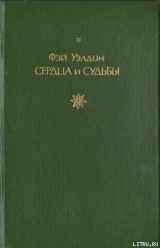
Текст книги "Сердца и судьбы"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Важнейшие компоненты «женского удела» – материнство, любовь-страсть, работа – в книгах Уэлдон обычно разведены, рассмотрены писательницей как варианты судеб разных женщин. И хотя мораль рассказанных ею историй прямо не декларируется, она подводит читателя к мысли о том, что женская судьба, лишенная хотя бы одного из этих элементов, становится ущербной, неполноценной. В святочной истории «Сердца и судьбы» романистка попыталась воссоздать желанную цельность и гармонию бытия, соединив в образе Хелен Вексфорд разные ипостаси «женского удела». Несмотря на заданную жанром условность – героиня романа запрограммированно приближается к обретению счастья и полноты существования, – Хелен отнюдь не идиллическая, надуманная конструкция благополучной женщины, напротив, это живой и полнокровный образ, один из наиболее удачных портретов современной женщины из всей созданной Уэлдон галереи. На протяжении двадцати лет, которые охватывает действие романа, Хелен переживает процесс духовного становления: из юной, раскованной, обладающей удивительным шармом, но в духовном плане довольно-таки бесцветной «дочери багетчика» Хелен превращается в творчески одаренную личность.
Важным художественным принципом Уэлдон является ее стремление к поляризации в романах общественных сил – пустая грызня наверху из-за сытости и кружка для подаяния внизу, дамы в меховых манто и разутые дети, богатство и бедность. В романе «Сердца и судьбы» писательница подчеркнула: «…если безнравственность существует, то заключается именно в том, что имущие имеют в этом мире так много, а неимущие – так мало». Уэлдон, при всей склонности обличить или посмеяться над безнравственностью, никогда не встает в позу морального превосходства над своими героями, а, напротив, стремится быть сопричастной судьбам и страстям своих современников, сохранить теплую и живую человечность, не отделяя тем самым свои наблюдения над ними от наблюдений над собой. Ее кредо может быть выражено следующим образом: «Наблюдая себя, наблюдаю тебя». Слово «наблюдаю», удачно вынесенное в заглавие первой опубликованной Уэлдон подборки рассказов, по сути, выявляет творческую устремленность автора, ее подход к изображаемому. Писательница действительно выступает превосходным наблюдателем самых разнообразных нравов и обычаев, то трезво отстраненным, то по-доброму подсмеивающимся, то взывающим к сопереживанию и сочувствию.
Стоит заметить особо, что поиски Уэлдон в «малом жанре» оказались чрезвычайно плодотворными. Ей свойствен талант воссоздавать с помощью емких, фактурных деталей атмосферу времени, психологический настрой, четкий профиль характера. В рассказе как таковом эти свойства повествовательной манеры Уэлдон раскрылись особенно ярко. Но талант рассказчицы, мастера лаконичных портретов и характеристик присущ Уэлдон и в «большой форме», которая может быть рассмотрена как специфическое сочетание, сплав имеющих порой самостоятельное значение главок-эпизодов, главок-ретроспекций. Чувствуется, что Уэлдон пригодился опыт работы на телевидении в качестве драматурга и сценариста. Структура повествования у Уэлдон очень гибкая – авторский рассказ, прямая речь, монологи и диалоги. Частая смена планов, монтаж параллельных сюжетных линий рождают ощущение кинематографичности ее прозы. Словно становясь на время режиссером, Ф. Уэлдон устанавливает камеру, обводит телеглазом приметы внешнего пространства, затем включает микрофон, и читатель становится свидетелем диалогов, происходящих в студии и порой откровенно расписанных «по ролям». Зачастую Уэлдон прямо обращается к читателю, приглашая его прислушаться к той или иной беседе. В 70-е годы Уэлдон очень увлекалась документализмом, может быть, такие поиски писательницы в области формы объясняются тягой к популярной в литературе целого ряда стран традиции, согласно которой автор выступает как хроникер, бесстрастно протоколирующий события.
Фронтальное наступление документализма со временем не могло, видимо, не вызвать и обратной реакции – поворота литературы к вымыслу, повышения доли фантастического в романе, тяги к драматизации. В своих интервью начала 80-х годов Уэлдон подчеркивала, что ее все больше привлекает создание напряженной интриги, повороты человеческих судеб. Сказанное Уэлдон во многом проясняет то новое, что появилось в ее творчестве последнего десятилетия. Переосмысливая эстетические задачи, писательница широко использует возможности жанров детектива, триллера («Гриб-дождевик», «Дитя президента», «Жизнь и любовь дьяволицы»), научной фантастики («Правила жизни»), антиутопии («Академия Г. Шрапнеля»). Эти книги свидетельствовали о начавшемся движении Уэлдон к популярной литературе, к формированию в ее прозе довольно своеобразного синтеза «серьезности» и «развлекательности», документальности и чистого вымысла.
Роман «Жизнь и любовь дьяволицы» дает наглядное представление о том зыбком равновесии между чистой занимательностью и серьезным, правдивым показом реальности, которое проявилось в ее романах 80-х годов. Временами он откровенно развлекателен – с неослабевающим вниманием следишь за интригой, в центре которой полуфантастическое превращение ординарной, некрасивой женщины по имени Руфь, жены и матери, в равнодушную к людским счастью и горю дьяволицу. Читая роман, трудно избавиться от мысли, что в этом превращении есть что-то жутковатое, ибо оно происходит отнюдь не в метафорическом смысле, а прямо-таки физически. Писательница в своих интервью предпочитает называть роман притчей о превращении – о нем мечтают многие женщины, задавленные жизнью, бытом, страдающие от отсутствия любви. Книжные ассоциации вызывает и имя героини – Руфь, – подобно своему библейскому прототипу, она трудолюбива, верна, стоически переносит все лишения, выпавшие на ее долю. Но до поры до времени. Узнав о страсти, охватившей ее мужа Боббо к богатой, красивой, удачливой Мэри Фишер, автору пустых сентиментальных романов, Руфь решает им отомстить. В результате предпринятых Руфью дьявольски хитроумных действий Боббо, обвиненный в мошенничестве, оказывается в тюрьме, а Мэри, истерзанная обрушившимися на нее бытовыми и прочими проблемами, заболевает неизлечимой болезнью и гибнет. Сама же Руфь, с помощью пластических операций полностью изменившая свой облик и ставшая похожей как две капли воды на Мэри Фишер, вселяется в принадлежавший Мэри роскошный дом-башню на побережье и даже сочиняет роман в духе своей соперницы.
Сконструированный Уэлдон сюжет – одновременно многоликая, сделанная рукой мастера картина нравов. И это определенно наиболее сильная сторона книги. Писательница помещает свою героиню то в бедняцкие районы Лондона, то в дом престарелых, то в женскую коммуну, то в респектабельный дом известного судьи. Все эти эпизоды социологически точны, психологически выверены, но, безусловно, не могут смягчить впечатления незначительности жизненных усилий самой Руфи: ее скитания по «земным пределам» свелись к мелкому итогу – богатому дому, поддельной красоте, дарующей власть над людьми, сочинительству пошлых историй, словом, к существованию, лишенному подлинных ценностей.
Одновременно с книгами, в которых писательница добивалась откровенной развлекательности, в творчестве Уэлдон 80-х годов появилась антивоенная проблематика.
Проблема войны и мира возникла в романах и рассказах писательницы закономерно, как следствие уже развивавшихся в ее предыдущих книгах (прежде всего в романе «Дитя президента») концепций. Ее появление обусловлено, по всей видимости, и изменениями в самом женском движении, к которым Уэлдон-художник не могла остаться равнодушной. Пикеты, митинги, демонстрации, лагеря мира, организуемые женскими организациями у военных баз НАТО, свидетельствуют о том, что движение женщин все активнее вливается в борьбу за мир против войны. Число же сторонниц «абсолютной свободы» – от семьи, от обязанностей материнства – значительно поубавилось и в самом женском движении, и в литературе, его отражающей. Писательница спорила с подобной «точкой зрения» уже в 1985 году, когда появился рассказ «Полярис» из одноименного сборника, героиня которого агрессивно отстаивает свое право на уютную семейную замкнутость, пока не убеждается, что ее муж, работающий на военной базе, – один из тех, кто угрожает мирному существованию их семьи и сотен тысяч ей подобных. Впрочем, рассказ «Полярис» все же был исключением – в тематическом плане – в творчестве Уэлдон до романа «Академия Г. Шрапнеля», в котором идея борьбы с военной угрозой, противостояния милитаризму становится доминирующей. Роман «Академия Г. Шрапнеля» – антивоенный роман, впитавший элементы жанра антиутопии. Несмотря на имеющиеся в нем противоречия, в частности, Уэлдон предлагает довольно традиционный, неоднократно предлагавшийся мыслителями и писателями и, увы, не давший больших результатов способ спасения от войны – самосовершенствование, Уэлдон создала смелое и яркое произведение, открыто отвергающее войну как варварский и бесчеловечный способ решения конфликтов, он, как и другие произведения писательницы, бесспорно укрепляет гуманистическую традицию английской литературы.
Сами идеи рождественской истории, которую с таким вдохновением поведала Фэй Уэлдон в романе «Сердца и судьбы», не столь уж и далеки, как это может показаться на первый взгляд, от прямо декларируемых и социально заостренных принципов ее антивоенных произведений: защита гуманности, необходимость нравственного совершенствования, приверженность общечеловеческим ценностям, хотя и погруженные в иную художественную реальность, не становятся от этого менее значимыми. Приятие рождественского жанра, в природе которого неизбежность поражения зла, торжество примиряющего начала, побуждает к размышлениям над благостностью обретения мира, не только гражданского, социального, но и мира в душе, мира с самим собой и другими представителями рода человеческого. Сказка, в том числе современная, по самой своей сути содержит и «намек» и «урок», непременно светлый и добрый: человек не может ощущать себя человеком без стремления к счастью, без поисков истины, без поклонения красоте.
* * *
Та всеведущая и остроумная особа, которая на протяжении всего публикуемого романа незримо сопровождает читателя и делится с ним всем, что ей известно о приключениях крошки Нелл, Клиффорда и Хелен, шаловливо признается: «Читатель, вы ненавидите сюрпризы? Я ненавижу, я люблю знать, что будет дальше». Быть может, знакомство с предваряющим словом о творчестве Фэй Уэлдон и сочиненном ею романе и впрямь позволит избежать совершенных сюрпризов. Во всяком случае, автор предисловия пыталась выявить талантливость Уэлдон, ее владение искусством слова, мастерство иронии, человечность. Ну а вообще-то в рождественской сказке, хотя бы и современной, должны быть неожиданности, – убеждена, они будут приятными, ведь не случайно писательница на протяжении всей книги призывает довериться судьбе, вершительнице судеб. Итак, вперед, читатель, в руках у вас книжка, в которой воцаряется благополучие и веселье, книжка со счастливым концом.
Я. Конева
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Читатель, я поведаю вам историю Клиффорда, Хелен и крошки Нелл. Клиффорд и Хелен желали для крошки Нелл всего самого-самого, желали так горячо и исступленно, что дочь их чуть было не осталась вообще без чего бы то ни было, – и даже жизни. Если хочешь многого для себя, естественно желать того же и для своих детей, но, увы, это не всегда совместимо.
Любовь с первого взгляда – какая седая старина! Хелен и Клиффорд встретились глазами на приеме давным-давно в шестидесятых, между ними возникла колдовская вибрация и, на радость ли, на горе ли, стала быть Нелл. Дух сотворил плоть, плоть от их плоти, любовь от их любви, и к счастью (хоть и вопреки им обоим), в конце концов – на радость. Ну вот! Теперь вам уже известно, что финал у истории счастливый. Впрочем, сейчас Рождество. Так отчего бы и нет?
Давным давно, в шестидесятых… Ах, какое было время! Все хотели всего и верили, что непременно получат. И по праву, по праву! Брак и свобода в браке. Секс без младенцев. Революция без нищеты. Карьеры без эгоизма. Искусство без усилий. Знания без учения, без штудирования. Иными словами, обед без мытья посуды. «Почему, собственно, не делать все походя?» – восклицали они. А действительно, почему?
О, какие это были дни! Битлы заполонили радиоволны, а взглянув вниз, вы обнаруживали, что в руках у вас пластиковая сумка вся в цветах, а не бурая, и туфли на вас зеленые или розовые, а вовсе не коричневые или черные, какие носили ваши предки обоего пола. Девушка утром глотала пилюлю, чтобы без трепета бросаться в сексуальные приключения, какие мог ниспослать день, а юноша закуривал сигарету без мысли о раке и увлекал девушку в постель, не опасаясь чего-нибудь похуже. Сливки густой струей текли на boeuf en daube,[1]1
Говядина на рашпере (фр.).
[Закрыть] а про безжировую низкобелковую диету никто слыхом не слыхал, и никому в голову не приходило показывать по телевизору умирающих от голода младенцев, и вопреки всем поговоркам можно было и иметь пирог и вкушать его.
Те годы, когда мир из преданности идеалам вывалился в легкомысленную беспечность, были удивительно приятными для Клиффорда и Хелен, но, как оказалось, не для крошки Нелл. Ангелам серьезности и решимости надо бы непременно витать над колыбелью новорожденного младенца, и уж тем более, если колыбель эта укрыта атласом бешеной расцветки, вместо практичной белой хлопчатобумажной ткани, которую можно и стирать и гладить. На деле же, боюсь, дозваться ангелов было бы не так просто – они рассеялись по другим частям света: в ужасе кружили над Вьетнамом, Биафрой, Голанскими высотами – даже если бы Клиффорд и Хелен догадались отправить им приглашения, о чем они, естественно, и не подумали.
Люди вроде Клиффорда и Хелен любят создавать хаос в каждом десятилетии, в каждом столетии, в каждом уголке земного шара, а дети влюбленных в любую эпоху в любом месте с тем же успехом могут рождаться сиротами – столько им уделяется внимания и забот.
Шестидесятые! Первая половина шестого десятилетия двадцатого века – вот когда родилась Нелл. На приеме, устроенном «Леонардо», где Клиффорд впервые увидел Хелен в другом конце переполненного зала, а Нелл стала быть, подавали икру и лососину.
«Леонардо», как вам, быть может, известно, – это фирма в духе «Сотби» и «Кристи», покупающая и продающая сокровища мирового искусства. Они там знают, что есть что, а когда дело доходит до Рембрандта или Питера Блейка, то и почем. Они умеют отличить стул работы Чиппендейла от стула удручающе искусного флорентийского краснодеревщика, работающего под Чиппендейла. Однако в противоположность «Сотби» и «Кристи» у «Леонардо» есть свои собственные большие выставочные залы, где отчасти для собственного удовольствия и прибыли, а отчасти для пользы широкой публики фирма устраивает грандиозные художественные выставки, за каковые она (через Совет по искусствам) получает солидную долю государственной субсидии на поддержание искусств – по мнению одних слишком большую, по мнению других далеко не достаточную, но так ведь бывает всегда. Если вы знаете Лондон, то должны знать и «Леонардо» – мини-Букингемский дворец, украшающий угол Гросвенор-сквер и Эллитон-Плейс. Нынче у фирмы есть филиалы во всех крупнейших городах мира, но в шестидесятых лондонский «Леонардо» пребывал в гордом и величавом одиночестве, а этот прием был устроен в честь открытия первой по-настоящему грандиозной выставки – полотен Хиеронимуса Босха, любезно предоставленных музеями и коллекционерами со всего мира. Подготовка обошлась в колоссальную сумму, и сэр Ларри Пэтт, чьим блистательным молодым помощником был Клиффорд Вексфорд, терзался тревогой, будет ли она иметь успех.
И совершенно зря. Это же были шестидесятые. Придумай что-нибудь новенькое, и дело в шляпе.
Коктейли с шампанским, взбитые волосы (хотя несколько «пчелиных ульев» все еще раскачивали люстры), невероятно короткие юбки, весьма кружевные рубашки и длинные волосы мужчин на переднем краю авангарда. По стенам извивались в муках фигуры, привидевшиеся художнику – в аду, в совокуплении, все едино. А под ними общались великие, прославленные, талантливые, красивые, а репортеры светской хроники записывали, записывали. Иску-у-усство! Дивный был прием, можете мне поверить. Оплачен налогоплательщиками, и никто не подверг сомнению счет. Я была там с моим первым мужем.
Клиффорду было 35, когда он увидел Хелен, и он уже принадлежал к великим и прославленным, не говоря уж о талантливых, красивых и достойных заметки в светской хронике. Он чувствовал, что исчерпал холостяцкую жизнь. И присматривал себе жену. Или просто ощущал, что ему подошло время давать званые обеды и производить впечатление на влиятельных людей. А для этого мужчине нужна жена. Дворецкий, конечно, высший шик, но жена подразумевает солидность. Да, ему требовалась жена. Он полагал, что Анджи, богатая наследница из Южной Африки, ему, пожалуй, подойдет, и с прохладцей ухаживал за бедной девочкой. Он явился на прием (собственно говоря, свой прием) под руку с Анджи, а ушел с Хелен. Разве так поступают?
Хелен было 22, когда она увидела Клиффорда. Даже теперь, когда ей под пятьдесят, она еще достаточно сногсшибательна и вполне способна ввергать в хаос сердца и судьбы мужчин (хотя полагаю и уповаю, что она поняла, насколько полезно воздерживаться от этого). Но тогда! Если бы вы видели ее тогда!
– Кто это? – спросил Клиффорд у Анджи, глядя на Хелен через кишащий людьми зал. Бедная Анджи!
Правду сказать, Хелен отнюдь не выглядела идеальной красавицей шестидесятых (ну, помните? Круглое кукольное личико, продырявленное знойными глазами Кармен), но тем не менее была сногсшибательной чаровницей 5 футов 7 дюймов роста, размер 10, пышнейшие каштановые кудри – вот только ей их цвет представлялся мышиным, величайшим проклятием ее жизни, и она в дальнейшем их осветляла, тонировала и вообще всячески мучила, пока в продаже не появилась хна и не разрешила все ее трудности. Глаза у нее были сияющими и умными, она выглядела нежной, хрупкой, отчаянно кокетливой и «да как вы смеете!» – причем одновременно. Она была самостоятельной и, как и Клиффорд, не старалась нравиться, а просто нравилась. Иначе у нее не получалось. Она никогда не кричала на слуг и не выговаривала парикмахерам – хотя в то время, о котором я рассказываю, ей для этого поводов не представлялось: она была бедна и жила скромно. Приспосабливалась.
– Это? – сказала Анджи. – Да, по-моему, никто. И в любом случае она не умеет одеваться.
На Хелен было чуть слишком тонкое, чуть слишком простое, чуть слишком хорошо выстиранное хлопчатобумажное платье, бело-розовое, туманного струящегося солнечного фасона, опередившее моду на пять лет. Под ласковой тканью ее груди казались нагими, маленькими и беззащитными. Спина у нее была длинная, плавно сужающаяся к талии, и вся она – точно лебедь, как поется в песне.
Ну а Анджи, мультимиллионерша Анджи! На Анджи было жесткое платье из золотой парчи с большим бантом из красного атласа на спине, с нелепо низким вырезом при почти полном отсутствии бюста. Она напоминала рождественскую хлопушку, но без подарка под оберткой. Три портнихи по очереди рыдали над этим платьем, все три лишились заказа, но никакие жертвы не могли принудить это платье стать ей к лицу.
Бедная Анджи! Анджи любила Клиффорда. Отец Анджи владел шестью золотыми приисками, и потому она считала, что Клиффорду следует платить ей взаимностью. Но что, в конце-то концов, могла она предложить кроме остренького ума, пяти миллионов долларов и своей тридцатидвухлетней все еще незамужней особы? У нее было сухое тельце и тусклая кожа (хорошая кожа придает привлекательность самой невзрачной девушке, но у Анджи она хорошей не была: боюсь, ей недоставало внутреннего света) и не было матери, а был отец, который давал ей все, чего бы она ни захотела, кроме ласки и внимания. Все это сделало ее алчной, бестактной и брюзгливой. Причем Анджи знала, что она такая, но ничего с этим поделать не могла. Ну а Клиффорд прекрасно отдавал себе отчет, что жениться на Анджи было бы практично (как отдавали себе в этом отчет немало мужчин до него), а Клиффорд был практичен, но почему-то ему просто не хотелось на ней жениться (как прежде им). А тех немногих, кто все-таки делал ей предложение – богатой женщины совсем уж без претендентов на ее руку быть не может, – Анджи презирала и отвергала. Тот, кто способен любить меня, вычисляло ее подсознание, не стоит моей любви. Она, как вы можете заключить, оказалась в безвыходной эмоциональной ловушке. Теперь она восхотела Клиффорда, и чем больше он не хотел ее, тем больше она хотела его.
– Анджи, – сказал Клиффорд, – мне необходимо знать точно, кто она такая.
И знаете, Анджи отправилась выяснять. Ей бы дать Клиффорду пощечину, но тогда не возникла бы эта история. Ну, совсем нет. Клиффорд вел себя скверно, Анджи смирилась, и вот из такого-то крохотного желудя и вырос многоветвистый дуб последующих событий. Впрочем, весь мир полон всяких «должно было бы», «не должно было бы», не правда ли? Ах, если бы то! Ах, если бы се! Где этому конец?
Пожалуй, мне следует описать вам Клиффорда. Он все еще подвизается на лондонской сцене – время от времени вы видите его фотографии в «Арт Уорлд» и в «Коннуасере», хотя, увы, не столь часто, как прежде, ибо время сводит на нет все наши драмы и скандалы. Но взгляд просто по многолетней привычке немедленно обращается к его фотографии, а все, что Клиффорд находит сказать о том, «куда идет искусство» или «откуда пришел постсюрреализм», еще достаточно интересно, хотя уже и не совсем крамольно. Он высокий, плотный, тупоносый мужчина с сильным подбородком, широким лицом и частыми улыбками (вот только улыбается он вам или по вашему адресу?), которые озаряют его глаза, такие же темно-голубые, как у Гарольда Вильсона (а те глаза очень, очень темно-голубые, я видела их лицом к лицу, и уж я-то знаю!). У него широкие плечи, узкие бедра, густые прямые волосы – в те дни настолько светлые, что казались седыми. Он и теперь, хотя ему должно быть под шестьдесят, обладает вполне пристойной шевелюрой. Его враги (а их у него все еще много) развлекаются рассказами, будто он хранит на чердаке свой портрет, который день за днем все больше толстеет и лысеет. Клиффорд был – и остается – энергичным, жизнерадостным, интересным, обаятельным и безжалостным. Естественно, Анджи хотела выйти за него. А кто не захотел бы?
Взлет карьеры Клиффорда Вексфорда был не столько метеоритным (ведь метеориты как-никак падают, а не взлетают, верно?), сколько ракетным, ибо заключал в себе всю энергию и мощь «Поларис», взмывающей из моря. Другими словами, Клиффорд Вексфорд жужжал вокруг своего патрона сэра Ларри Пэтта, как пчела, твердо решившая проникнуть в горшочек с медом. Идея устроить выставку Босха озарила Клиффорда. Если она удастся, то честь достанется Клиффорду, а если провалится, вина и убытки падут на «Леонардо» и сэра Ларри Пэтта. Вот так действовал Клиффорд тогда, как и теперь. В отличие от поколения сэра Ларри, он понимал всю силу рекламы – что блеск и шум стоят столько же, если не больше, чем истинные ценности, что надо тратить деньги, если хочешь нажить деньги, что неважно, насколько хороша картина или скульптура – если никто не знает, что она хороша, то с тем же успехом она может быть скверной. Клиффорд протолкнул «Леонардо» из первой половины века во вторую и свирепо запустил фирму в следующий век; он был ключом к успехам, ожидавшим «Леонардо» на протяжении следующих двадцати пяти лет, и сэр Ларри понял это в день открытия выставки Босха, хотя и без всякого удовольствия.
Анджи пробралась назад к Клиффорду сквозь сверкающую, сплетничающую толпу, которая хлебала оплаченные из общественных фондов коктейли с шампанским (кусок сахара, апельсиновый сок, шампанское, коньяк) под снедаемыми адом фигурами из видений Босха, и сказала:
– Ее зовут Хелен. Дочка какого-то багетчика.
Анджи надеялась, что это поставит жирную точку. Уж конечно, багетчики – низшие из низших в Мире Искусства, не стоящие даже беглой мысли. Анджи предполагала, что Клиффорд, когда встанет вопрос о браке, клюнет не на внешность избранницы, но на ее происхождение и богатство. И была к нему несправедлива. Клиффорд, как всякий другой, хотел истинной любви. Он, собственно говоря, вовсю старался полюбить Анджи, но только у него ничего не выходило. Ее претензии и мелочный снобизм не казались ему милыми причудами. Он думал, что во многих отношениях существование ее мужа окажется не из приятных. Она будет кричать на слуг, по-детски злиться на женщин, которых он сочтет достойными восхищения, и закатывать сцены по поводу того, сего и этого.
– Под «каким-то багетчиком» ты, полагаю, – сказал Клиффорд, – подразумеваешь Джона Лалли? Это гений. Я доверил ему всю экспозицию.
И бедная Анджи поняла, что вновь она выдала свое невежество и сказала типичное не то. Багетчики, оказывается, подлежат восхищению и уважению. Отчасти Анджи было трудно с Клиффордом именно из-за его непоследовательности в том (во всяком случае, по ее понятиям), чем он восхищался и что презирал. Успех, который Анджи признавала только за богатыми и (или) красивыми и (или) знаменитыми, Клиффорд приписывал самым разным и несуразным людям – почти нищим и даже искалеченным поэтам, дряхлым писателям с щетиной на подбородке и трясущимися руками, художникам в жутких балахонах, ну, словом, такой шушере, какую Анджи в жизни не пригласила бы на обед, даже если бы неделя состояла из сплошных субботних вечеров.
«Но что в них такого?» – вопрошала она.
«Они войдут в будущее, – отвечал он, – пусть настоящее их не замечает».
Ну откуда мог он знать? Однако словно бы знал.
Если Анджи хотела угодить Клиффорду, ей приходилось сначала думать, а уж потом говорить. Он убивал непосредственность. Она это знала и все равно хотела его – во веки веков на завтрак, обед, чай и ужин. Это и есть любовь. Бедная Анджи! Пожалеем ее. Она была очень несимпатичной, но заслуживает жалости, как всякая женщина, влюбленная в мужчину, который ее не любит, но взвешивает, жениться на ней или нет, и тянет, и тянет, тем временем вынуждая ее покорно прыгать сквозь всякие непотребные обручи.
– Ну-ну, – сказал Клиффорд, – так значит она дочка Джона Лалли! – И к большому удивлению и полному расстройству чувств Анджи, тут же покинул ее и направился через зал туда, где стояла Хелен.
Джон Лалли этого не видел. И к лучшему. Он угрюмо злобился в углу у бара – дикий взгляд, дикая шевелюра, глубоко посаженные глаза, полные подозрительности, губы, сверхподвижные и расшлепанные непреходящей яростью и протестом, – а на роду ему написано в течение двадцати ближайших лет стать ведущим художником страны, хотя тогда никто (кроме Клиффорда) этого не знал. У меня, правда, было смутное предчувствие. Мне принадлежит маленький рисунок Лалли: тушь, перо, – сова расклевывает ежа. Купила я его за 10 шиллингов 6 пенсов, заметно переплатив. Теперь он стоит 1100 фунтов и цена все растет.
Хелен подняла глаза на Клиффорда и увидела, что он смотрит на нее, не отрываясь. Если он воодушевлялся, цвет его глаз становился более глубоким, а воодушевлялся он чаще всего, когда ему удавалось совершить нечто редкостное – например, приобрести для «Леонардо» золотую маску Тутанхамона или эльгинский мрамор, слывший утерянным. И теперь они стали совсем синими.
«Какие у него синие глаза! – подумала Хелен. – Будто маслом написаны…»
И тут она вдруг вообще перестала думать, охваченная испугом. Она стояла беззащитная (как могло показаться), совсем одна среди болтающей толпы, искушенной в последних криках моды – все заметно старше нее, все знают совершенно точно, как лучше всего думать, чувствовать, поступать. В отличие от нее. А может быть, когда она подняла взгляд и увидела синие-синие глаза, в них отразилось ее будущее, отчего она и перепугалась.
А может быть, она увидела в них будущее Нелл. Любовь с первого взгляда – вещь вполне реальная. Она вспыхивает и между самыми несочетаемыми людьми. В драме Нелл, по-моему, Клиффорд и Хелен были актерами на выходных ролях, а вовсе не премьерами, какими они, естественно, себя почитали – подобно нам всем. И повторю: я твердо верю, что Нелл стала быть именно в то мгновение, когда Хелен и Клиффорд просто смотрели друг другу в глаза: Хелен – в страхе, Клиффорд – полный решимости, оба – сознавая свою судьбу. А судьба их была любить и ненавидеть друг друга до конца своих дней. Слияние плоти с плотью, каким бы ошеломляющим оно ни оказалось, в каком-то смысле ни малейшего значения не имело. Нелл обрела существование в любви, но трансмутация нематериального в материальное происходит сама собой в том полуосознанном, полубессознательном действе, которое мы называем половым актом, и Хелен с Клиффордом, глядя друг на друга, знали об этом сужденном им чуде лишь одно: чем скорее они окажутся в постели и в объятиях друг друга, тем лучше. Ну что же, так оно и бывает у счастливейших среди нас.
Но, разумеется, жизнь не так проста, даже для Клиффорда, который обладал тем преимуществом, что всегда четко знал, чего хочет, а потому обычно обретал желаемое. Однако прежде следовало удовлетворить богов политеса и общепринятого.
– Как кажется, вы дочь Джона Лалли, – сказал он. – А кто я, вы знаете?
– Нет, – ответила она.
Но, читатель, она знала. Естественно, знала. И солгала. Она достаточно часто видела фотографии Клиффорда Вексфорда на газетных страницах. Она созерцала его на телевизионном экране – Надежду Британского Мира Искусства, как его величали некоторые, или же горький симптом конца оного Мира, как утверждали другие. Не говоря уж о том, что она выросла под взрывы бешеных проклятий, которыми ее отец осыпал Клиффорда Вексфорда, своего нанимателя и мецената. (Некоторые считали, что ненависть Джона Лалли к Клиффорду Вексфорду граничит с паранойей; нет, говорили другие, такое чувство в таких обстоятельствах вполне извинительно и понятно.) И Хелен сказала «нет», потому что самодовольство Клиффорда ее задело, пусть даже она была околдована его внешностью. Она сказала «нет», читатель, потому что, боюсь, она легко лгала, если ложь ее устраивала. Она сказала «нет», потому что испуг ее проходил, и ей хотелось вызвать между собой и им frisson[2]2
Дрожь (фр.).
[Закрыть] какого-нибудь чувства – раздражения у него, досады у нее, и еще потому, что его интерес к ней вызвал у нее восторженное возбуждение, а восторженное возбуждение чревато опрометчивостью. Во всяком случае, она сказала «нет» отнюдь не из лояльности к отцу. Отнюдь, отнюдь.








