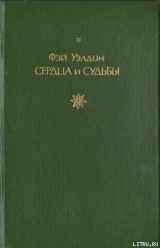
Текст книги "Сердца и судьбы"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
ТРИУМФ!
Клиффорд, Хелен и Эдвард вели счастливую жизнь в особнячке на Орм-сквер в ожидании развода. К тому времени «живут вместе» уже пришло на смену «живут во грехе», и никто бровей не поднимал – сетовала только матушка няни. Она-то надеялась, что ее дипломированная няня-дочь (какая квалификация! Какие расходы!) в лучшем случае кончит местом в штате члена королевской фамилии, а в худшем – в семье банкира, а что вышло, вы только подумайте! Однако няня Энн любила Эдварда, а Эдвард любил няню Энн, – и к лучшему, если вы еще не забыли мои слова о том, что дети влюбленных всегда сироты. Подрастая, Эдвард становился все более похожим на Саймона, чего и Хелен, и Клиффорд старались не замечать – впрочем, няня Энн, к счастью, решительно утверждала, что он вырастет очень высоким, а упомянутая выше квалификация делала ее предсказание неопровержимым.
Клиффорд и Хелен по ночам лежали, переплетясь, в своей предбрачной постели, словно опасаясь, что внезапно появится какой-нибудь демон, расплетет их и снова разлучит. Однако над кроватью, видимо, витали одни ангелы и рассыпали благословения.
Случилось нечто невероятное. Вот таким образом. Клиффорд проходил по Кэмден-Пассидж мимо магазинчика Роуча, торговавшего всяким хламом, и увидел в витрине картину, зажатую между довольно милым бело-голубым старинным кувшином и поддельно ремесленным оловянным подсвечником (только подумать, что вы могли в те годы приобрести за горсточку пенни! Впрочем, деньги с тех пор изменились, шиллинги и пенсы исчезли, а с ними и серебряные трехпенсовики, которые запекались в рождественские пудинги). Картина была без рамки, примерно 24 дюйма на 18, и до того грязная, что на ней почти ничего нельзя было различить. Клиффорд вошел, несколько минут торговался с владельцем из-за оловянного подсвечника и купил его за 4 фунта, заплатив вдвое больше, чем Билл Роуч (выпускник Итона, который пристрастился к ЛСД, бросил заниматься вычислением налогов и взялся за торговлю старыми вещами) рассчитывал за него получить. Затем небрежно спросил, что это за картина. Роуч, который постиг все приемы и ухищрения с полнотой, доступной только члену банкирского рода, тотчас насторожился.
– Пожалуй, я не так уж склонен с ней расстаться, – сказал Роуч, извлекая ее из витрины без особых церемоний и ожидая короткого вздоха, который выдал бы знатока, заинтересовавшегося отнюдь не просто так.
– Пожалуй, я не так уж склонен ее приобрести, – сказал Клиффорд. – Вряд ли на нее найдется покупатель. А чья она? Художник известен?
Роуч потер правый нижний угол холста. Ногти у него были элегантно наманикюренными, пальцы грязными. Из-под въевшейся копоти выступило В, затем И, затем НСЕ, а затем HT.
– Винсент, – сказал Роуч.
– Винсент? Не знаю такого, – сказал Клиффорд, а поскольку Роуч не был с ним знаком, откуда ему было знать, что его голос стал на два тона выше обычного. – Какой-нибудь дилетант, надо полагать. А что тут, собственно, изображено? Цветы? Взгляните на вот эту линию – на изгиб лепестка – очень примитивно.
Ну а если кто-то скажет вам категорически, что линия примитивна, вы поверите, пусть даже вы и выпускник Итона.
– Сейчас поищем, – сказал Роуч, доставая своего Бенозе – руководство для торговцев картинами.
– Только понапрасну теряете время, – сказал Клиффорд. – Но, разумеется, проверьте. Винсент, значит на «В». Не самая богатая буква.
Роуч проглядел все фамилии на «В», но Винсента не обнаружил.
– Право, не знаю, – сказал Клиффорд. – Мне же придется еще потратиться на рамку. Пару фунтов я, пожалуй, дам. (Опасно предлагать цену выше – Роуч уже насторожился.)
– Так ведь она старинная, и это уже чего-то стоит. Да и вообще я же сказал, что не хочу с ней расставаться. Она мне нравится.
– Пять, – сказал Клиффорд. – Видимо, я свихнулся.
Деньги перешли из рук в руки.
– Откуда она у вас? – спросил Клиффорд, когда картина оказалась в безопасности у него под мышкой.
– Разбирал чердак в Блэкхите у одной старушки, – ответил Роуч, и сердце Клиффорда екнуло: Винсент Ван Гог имел обыкновение прогуливаться пешком из Рамсгета в Блэкхит (и не считать это расстоянием!) в первые годы своего житья в Англии.
– И другие там были? – спросил Клиффорд, но нет, среди кип старой одежды и останков латунной кровати эта картина была единственной. Он купил все оптом за 3,5 фунта и уже выручил 30 фунтов. А теперь эта сумма выросла до 35 фунтов. Недурной процент.
– Но ничего особенного? – нервно спросил Роуч, когда Клиффорд повернулся к двери. Ему стало тревожно – что-то было не так. Никакой торговец не любит оставаться в дураках. Потеря лица много хуже потери денег.
– Всего лишь Ван Гог, – ответил Клиффорд, и Роуч подумал было подать на него в суд, но не подал. Не только он задаром отдал картину, стоящую 35 тысяч фунтов, но и должен был смириться с этим. Он извлек колоссальную прибыль из невежества старушки, а Клиффорд извлек колоссальную прибыль из его невежества. Он не поделился этой прибылью со старушкой и не ждал, что Клиффорд поделится с ним. Клиффорд и не поделился. Сейчас картина эта, естественно, стоит десять миллионов. Что тут скажешь!
Это дало массу материала для газетных шапок. Как и следовало ожидать. «Фантастическая находка вундеркинда от искусства!», «Гений в хламе». И для множества статей в престижных журналах. Все, кто был кем-то, узнали про это! Потрясен был и мир антиквариата и подержанных вещей. Все забытые груды старых грязных картин (а тогда в стране их были сотни и сотни, не то что теперь) были перебраны, очищены – но ни один ВИНСЕНТ больше не материализовался. Разумеется, нет. Для такого требовалась клиффордская удача.
Клиффордская удача! Именно это и тешило Хелен и Клиффорда – чистейшая игра случая, ну и предопределенность, доказательство его способности отличить истинное от мишуры: пальцы Клиффорда, уверенно и точно наложенные на великую пульсирующую артерию Искусства. И все это каким-то образом смешивалось с властью любви, восторгами постели, их повторным обретением друг друга – ах, триумф их был неисчерпаем. Картину они не продали – естественно, нет, – а повесили над мраморным камином, и она пылала, она пылала. Нет, конечно, не подсолнухи – но маки.
Джон Лалли, едва узнав, сказал, что Клиффорд заключил союз с дьяволом. Но ведь это известно давно, так почему столько шума?
Хелен сказала Эвелин при тайном свидании – естественно, двери «Яблоневого коттеджа» вновь перед ней захлопнулись – мамочка, если нужны деньги, но Эвелин сказала, что нет. Она выглядит утомленной, подумала Хелен. Эвелин любила малютку Эдварда. Она говорила, что он – вылитый Джон.
Анджи позвонила из Южной Африки и поздравила Клиффорда с его находкой. Она говорила так, словно была искренне за него рада. Видимо, ему придется устроить возрождение импрессионистов. Она дала ему десять лет, чтобы поднять цену винсентовских «Маков» до миллиона. И это минимум. Она выразила надежду, что картина подошла к занавескам Хелен.
Синтия сказала Отто:
– Вероятно, теперь мы будем реже видеть нашего сына.
– Отлично, – сказал Отто и поспешил прибавить: – Что он вернулся к Хелен и счастлив.
Но, по правде говоря, он очень ценил воскресную тишину и покой, которые теперь не нарушались болтовней Клиффорда. Волнения и шум из-за картины Ван Гога он находил вульгарными. Ван Гог жил и умер в нищете и безвестности: если последующие поколения отзываются на его творчество, это одно, но что они на нем наживаются – совсем другое.
– Может быть, у них будут дети, – сказала Синтия с надеждой. Она уже не чувствовала себя такой молодой, как некогда. У нее не было любовника. Молодые люди имелись в изобилии, их все еще ничего не стоило обворожить и поразить, но теперь она ощущала унизительность ситуации для себя и для них. На руках у нее появились пигментные пятна. Просто это больше не звучало. Но в вакуум, оставленный их исчезновением, словно бы ринулась старость. Синтия чувствовала, что на этот раз, если Клиффорд и Хелен поручат ей свое дитя, она сумеет уделять ему больше внимания. Жизнь Нелл была такой короткой! Знай она заранее, так вела бы себя совсем по-другому – насколько снисходительнее к Хелен была бы она! Как мать, она предала Клиффорда, не дала ему той любви и заботливой поддержки, в которых нуждается ребенок, – конечно, не только она, но и Отто. Ей нужен был еще один шанс с другим ребенком, а тем временем все свое внимание она отдавала Отто. Но именно тогда, когда она отказалась от упоения тайными интригами, Отто вновь обратился к ним. Приезжали незнакомые люди с сообщениями, которые ей слышать не полагалось. На его лице было отвлеченное и многозначительное выражение, раздавались телефонные звонки и внезапно смолкали, и Отто исчезал из дома ровно через столько часов, сколько было звонков. Ну, что же, это его омолаживало. Она не думала, что ему угрожает хоть какая-то опасность. А внизу Джонни распевал, начищая медные бляхи лошадиной сбруи, и, казалось, говорил и думал чуть быстрее обычного.
Хелен вернулась в колледж и прослушала курс по рисунку на тканях. Клиффорд не возражал. Ведь дни, когда она была его девочкой-женой, прошли. А он, сам того не замечая, многому научился у Фанни, Элизы, Бенты и так далее, и особенно у Фанни. Он часто вспоминал Фанни. Она восстала на него и проиграла, но он прислушивался к ней гораздо больше, чем она замечала. И у нее был прекрасный вкус. Где она работает теперь? Она накопила опыта и могла бы оказаться очень полезной для «Леонардо».
Клиффорд написал великолепную книгу об импрессионистах, цена ее была 20 фунтов, цифра в те дни невероятная даже для книг об искусстве, но раскупалась она нарасхват. Гарри Бласт, телевизионный художественный критик, разнес ее с такой яростью (он все еще не простил Клиффорду дурацкого положения, в которое тот его поставил) за дешевое популяризирование, что все тут же кинулись ее покупать. Врагов полезно иметь, но – только на телевизионном экране.
Дела «Леонардо» шли гладко. Анджи держалась в отдалении, выставка Рембрандта побила все рекорды посещаемости. Затем ретроспектива Дэвида Феркина – а это был смелый шаг: впервые современный художник занял Большой зал – затмила успехом даже Рембрандта. У «Леонардо», как и у Клиффорда, все оборачивалось удачей. Королева открыла новое крыло, где эксперты на общественных началах оценивали произведения искусства и давали свои заключения к вящему негодованию антикварных торговцев, которые наблюдали, как прибыли уплывают у них из-под носа, потому что публика становится просвещеннее. Три недурно сохранившиеся городские особняка первой трети XVIII века были снесены, чтобы очистить место для нового крыла из новейшей марки железобетона, но подобное происходило все время, и никто не протестовал, во всяком случае, рьяно. Ведь куда ни глянь, старый Лондон вокруг был, казалось, неисчерпаем. Можно было сносить его без передышки, даже не замечая…
Как только развод Хелен с Саймоном был окончательно утвержден, Клиффорд и Хелен сочетались браком в кенсингтонской регистратуре. Очень тихо – по следующей причине: за неделю до церемонии умерла Эвелин.
ЖЕРТВА НА АЛТАРЕ
Как вы понимаете, Хелен сообщила родителям о своем намерении развестись с Саймоном и снова выйти за Клиффорда. Лалли, пусть не часто, но посещали корнбруковский дом в Масуэлл-Хилле. Джон Лалли был нелегким гостем, так как каждую минуту разражался новой филиппикой об очередном злодействе, учиненном правительством, или большим бизнесом, или тем, что он именовал «искусствопромышленностью», так как все они стакнулись против сирых, против убогих, против творческих талантов. Хелен к этому привыкла. Но не Саймон. В принципе Джон Лалли был обычно прав, зато в деталях – редко, и Саймон считал своим долгом восстановить истинные факты, а его тесть обижался. И как бы Хелен ни объясняла, что ее муж вовсе не фашиствующий прихвостень средств массовой информации, а наоборот, сочувствующий, как бы бедная Эвелин (она все больше походила на обтянутый кожей скелет) ни дрожала от огорчения и ни умоляла его перестать, он ничего не желал слушать. Как и Саймон.
И у Эвелин была привычка сравнивать развитие малютки Эдварда с развитием Нелл в том же возрасте, а Саймону не нравились эти постоянные разговоры о Нелл, потому что они расстраивали Хелен и еще потому что Эдвард заметно отставал от Нелл: в 2 года он знал только несколько слов, тогда как двухлетняя Нелл произносила целые фразы… «Да, мамочка, – говорила Хелен, – но девочки вообще начинают говорить раньше мальчиков». А однажды она объяснила: «А вот моторные реакции развиваются у мальчиков раньше».
– Каким странным стал нынешний язык! – Вот все, что ответила Эвелин. – «Моторные реакции!» (Какой грустной она была!)
– Разумеется, у нас с Джоном был только один ребенок, и притом девочка, – добавила она в другой раз, когда Хелен поставила перед ней тарелку превосходного грибного супа, причем таким тоном, словно Хелен не имела к ней теперь никакого отношения, да и вообще почему она не родилась мальчиком, так что Хелен расстроилась еще больше. Настроение у нес портилось на неделю. Ей не удавалось прорваться к матери, которая замкнулась с ее отцом в своего рода тоске a deux.[21]21
На двоих (фр.).
[Закрыть] Хелен просто не могла этого видеть, не могла думать о том, какую роль тут сыграла она сама, и была рада, когда ее родители уходили – словно с нее снималась тягчайшая ноша, хотя она вряд ли могла бы объяснить какая.
– Почему у них не было других детей, кроме тебя? – как-то спросил Саймон.
– Кажется, я слишком много плакала по ночам, когда была младенцем, – неопределенно ответила Хелен. – И Джон не мог сосредоточиться. Да, по-моему, дело в этом.
О да! Художник – чудовище, такое, каким ему разрешают быть. Эвелин прерывала беременность четыре раза, оттягивая операцию до последнего момента в надежде, что Джон Лалли сжалится. Но где там!
– Рожай сколько хочешь младенцев, – сказал он, – только подальше от меня. – Сказал с той же категоричностью, с какой отвечал на любую ее робкую жалобу: «Если тебе не нравится, уезжай. Я тебя не держу».
Эвелин не ловила его на слове. А следовало бы. Эвелин ждала, тщетно ждала от него доброго слова, которое вдохнуло бы в нее необходимое мужество. Глупость какая! Она, так сказать, не оставалась, но и не уезжала. А допускала, чтобы алая животворная кровь пропадала втуне, предавала сыновей, которые могли бы смехом пристыдить отца – предавала, потому что боялась несдержанности своего мужа, боялась его настроений. В результате Хелен, не заслоненная оравой шумных, своевольных, требовательных братьев и сестер, одна принимала на себя все грома отцовского темперамента. К тому же, в целом она переняла материнскую манеру встречать их – беспомощно, кроткими словами, уступчивостью и лишь изредка с юмором. А столкнувшись с такой же натурой в Клиффорде – вызвав влечение в нем, испытывая влечение к нему, как написано на роду таким дочерям, – она и тут оказалась беспомощной.
Естественно, ее брак с Клиффордом рухнул – она нашла в нем не совсем отца и не совсем мужа, а что-то вроде мужотца. Естественно, не выдержав тяжести такой противоестественности, она обратилась к Саймону, своего рода давно потерянному брату, потерянному до полного несуществования, – а все почему? Потому что младенцем она много плакала. Виновата Хелен! Во всем виновата Хелен! Но мог ли помочь ей Саймон? Мужбрат? Как она металась, бедняжка Хелен, жертва собственных неврозов, недоумевая, почему счастье бежит ее – и вот теперь она снова пробует обрести счастье с Клиффордом, и не совсем исключено, что на этот раз, быть может, преуспеет в своем намерении.
После чего, оставив Саймона и вернувшись к Клиффорду, она, конечно, опять потеряла доступ в «Яблоневый коттедж». И испытала почти облегчение. Время от времени, побуждаемая чувством долга, она звонила матери, а иногда тайно встречалась с ней, чтобы вместе позавтракать в кафе магазина женской и детской одежды «Биба», и пыталась загораживаться от мысли о том, что ее мать несчастна, – ведь это туманило ее собственную радость.
Когда процедура развода завершилась и день свадьбы был назначен, она позвонила матери:
– Я знаю, Джон не придет, но ты, пожалуйста, приходи. Пожалуйста!
– Деточка, если я приду, это очень расстроит твоего отца. Ты же знаешь. Не надо было меня звать. Но я же тебе и не нужна вовсе. А раз ты живешь с Клиффордом почти год, и уже была за ним замужем, то такая формальность особого смысла не имеет, не правда ли? А как малютка Эдвард? Начал говорить лучше?
– Она не придет! Она не придет! – рыдала Хелен на плече Клиффорда. – Ты виноват, ты! (Она стала заметно смелее.)
– Чего ты от меня хочешь? Чтобы я отдал ему картины?
– Да.
– Чтобы он мог их изрезать садовыми ножницами? (И изрезал бы!)
– Ах, я не знаю, не знаю. Почему я не могу иметь таких родителей, как твои?
– Радуйся, что не можешь, – сказал он. – И вот что: поезжай к ним прямо в берлогу и поговори. Заставь их приехать. Обоих. Я обещаю быть очень милым.
– Я боюсь.
– Нет, не боишься, – сказал он. И, как ни странно, был прав.
И вот утром в субботу Хелен приезжает в «Яблоневый коттедж», разрумянившаяся, взволнованная, думая о Клиффорде, твердо решившая, что родители будут счастливы ее счастьем, распахивает дверь и впускает солнечный свет в тесную гостиную, где Эвелин привыкла сидеть и вязать или лущить горох в ожидании, когда Джон появится из мастерской или из гаража, и знать, что последует иеремиада или день-два молчания за какую-то ее вину или поступок – возможно, многолетней давности, – которые Джон вдруг вспоминает, стоя у мольберта, размешивая свинцовые белила, или кобальт, или охру, размышляя о природе цвета, или о цвете живой плоти, гниющей плоти, замороженной плоти, варящейся плоти, или еще о чем-нибудь, чем он в этот день поглощен, и накладывает слой на слой, зная при этом, насколько лучше был бы результат, если бы он мог довести себя до необходимого напряжения. Но не может, и теперь, когда он уже не молод, приходится искать его на стороне. И паранойя обеспечивает своего рода страсть, а кто лучше Эвелин (теперь, когда он редко выходит из дома) обеспечит для этого материал? И разве Клиффорд давным-давно не обнаружил этого, не сказал, что Эвелин – часть гештальта, в котором Джон Лалли функционирует как художник…
Эвелин это знала. Вот она сидит в полутьме – жертва на алтаре. И ведь в комнате темно, потому что она сидит тут: в последнее время она притягивает мрак, позади нее смутно движутся Парки – Хелен, входя в снопах солнечных лучей, Хелен, для которой теперь возможно все, потому что она снова с Клиффордом и ее сердце, ум и душа вновь свободны (впрочем, свободны и для того, чтобы дрогнуть и вновь потерпеть неудачу), Хелен привела их в движение. В этой комнате обитают призраки, думает Хелен. Почему я прежде этого не замечала? Начищенные медные кастрюли на крючках покачиваются и подрагивают, словно под ударами бешеного ветра, но ветра нет.
– Что-то произошло, – говорит Эвелин. – Ты не похожа на себя. Почему?
– Я хочу, чтобы ты была на моей свадьбе, – говорит Хелен, – и Джон тоже. Где он?
– На чердаке. Пишет. Где же ему еще быть?
– Настроение у него хорошее?
– Нет. Я ему сказала, что ты приедешь.
– Но как ты узнала? Как ты могла узнать?
– Ночью мне приснился такой сон! – Ничего больше Эвелин не объясняет. Она прижимает ладонь ко лбу. – У меня болит голова. Как-то странно болит. Мне снилось, что ты стоишь рука об руку с Клиффордом. Мне снилось, что я умираю, я должна была умереть, чтобы дать тебе свободу.
– О чем ты говоришь? – Хелен очень расстроена.
– Ты слишком во многом моя дочь, а тебе надо быть самой собой. Чтобы найти счастье с Клиффордом, ты должна быть дочерью своего отца, а не моей.
О чем она говорит? А Хелен только-только переступила порог, и странные образы движутся в отблесках покачивающихся медных кастрюль! Неужели Эвелин предупреждает, что отречется от Хелен, если она выйдет за Клиффорда? Но Эвелин говорит:
– Ты должна быть с Клиффордом тогда, когда вернется Нелл. Я знаю это.
У Хелен открывается рот.
– Во сне я отбрасывала на тебя тень. И там она была единственной. Столько солнечного света повсюду! Нелл гуляла по зеленому лугу. Ей ведь почти семь, ты знаешь. Совсем такая, как ты в детстве, кроме волос, конечно. Волосы у нее Клиффорда.
Хелен замечает, что ее мать заговаривается. Есть что-то странное в том, как она произносит слова, в том, как она поникла в кресле. Хелен кричит, зовя отца, который пишет в своей чердачной мастерской. Никто никогда не кричит ему снизу – это не разрешается. Он пишет, и его нельзя беспокоить. Осторожнее – гений творит! Но голос у Хелен такой, что он опрометью сбегает по лестнице.
– Эвелин… – говорит Хелен.
– Очень болит голова, – говорит Эвелин. – Как-то странно болит. В одной точке мысли очень ясные, а вокруг туман. Мне лучше отойти, чтобы не отбрасывать тени. Не горюй из-за Нелл. Она вернется.
Она улыбается дочери, не видит мужа, точно слепая, пытается поднять руку – и не может. Пытается повернуть голову – и не может, и, недоуменно глядя перед собой, умирает. Хелен понимает. Не потому что голова склоняется еще ниже, чем она уже склонилась, а потому что свет в глазах гаснет, словно его выключили. Даже веки не сомкнулись. И опускает их Джон Лалли, хотя Бог свидетель, он столько написал в своей жизни мертвых глаз, что мог бы давно привыкнуть к такому зрелищу.
Врач говорит, что за последние сутки у Эвелин, вероятно, было два кровоизлияния в мозг, может быть, три, и последнее оказалось роковым.
Хелен, как ни поразительно, сохраняет спокойствие: ей кажется, что, умерев, Эвелин просто сделала то, что хотела сделать. Тело послушно подчинилось воле. Она горюет, но в горе вплетается неясное счастье, словно подарок ей от Эвелин – ощущение, что жизнь начинается, а не кончается, видение настоящего, которое складывается по-новому. Но в этом настоящем Хелен необдуманно рассказывает Джону Лалли про сон Эвелин. Рассудок его жены, отвечает он, видимо, уже был в значительной степени потерян и, кстати, если это не дурацкая шутка и Хелен действительно хочет снова выйти за Клиффорда, убийцу его внучки, то для него она мертва, как и его жена. Ну, правда, он был выбит из колеи. Но мы-то с вами, читатель, знаем, что это был не сон, что Эвелин посетило видение, какие порой ниспосылаются хорошим людям перед смертью, и что она прожила ровно столько, чтобы поведать о нем Хелен, чтобы хоть так искупить все те многие случаи, когда она обманывала ожидания дочери. Не обманывать ожидания наших детей, читатель, практически невозможно. Ведь и наши родители обманывали наши ожидания.
Мне очень бы хотелось рассказать, как совесть мучила Джона Лалли за его обращение с женой, пока она была жива, но я не могу. Он обычно называл ее – в тех редких случаях, когда вспоминал о ней, – «эта дура набитая». Что же, подобная честность и последовательность тоже чего-то да стоят. Во всяком случае, это ничуть не хуже, чем слушать, как, едва потеряв свою половину, вдовец (вдова) расписывает доброту, несравненность и высочайшие душевные качества покойника (покойницы), хотя совсем недавно вы своими ушами слышали, с каким ожесточением они поносили друг друга. Лучше стараться не говорить дурно о живых, чем говорить о мертвых только хорошее. Ведь наше собственное время так коротко!








