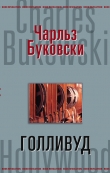Текст книги "Богоматерь убийц"
Автор книги: Фернандо Вальехо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Крупнейший работодатель наемников умер, и мой бедный Алексис остался без работы. Именно в то время мы и познакомились. Так перекрещиваются события общенациональные и личные, жизнь ничтожной мелюзги и тех, кто всем заправляет. В тот вечер, когда Ла-Плага рассказал мне в бильярдном салоне об Алексисе, он поведал об истреблении его банды: семнадцать или сколько-то там человек, погибших один за одним, благоговейно, словно перебирая четки, остался один: мой мальчик. Эта банда, эта «компашка» была одной из многих, нанятых наркоторговцами – подкладывать бомбы и сводить счеты с преданными соратниками и бескорыстными изобличителями. Покойниками стали, например, несколько журналистов разных мастей с развитой способностью к воображению, персонажи, связанные с правительством – конгрессмены, кандидаты, министры, губернаторы, судьи, алькальды, прокуроры, сотни полицейских, о которых даже не стоит упоминать – это наименьший грех из всего списка. Все отлетели прочь, словно молитвы, творимые над четками. Но – спросите вы, здравомыслящий человек – наверное, пострадали и невиновные? Да, как в Содоме и Гоморре. Взяточники и охотники до казенных денег вечно прибедняются. Каждый политик или чиновник (разница невелика) по природе своей порочен, и что бы он ни говорил, что бы ни делал, – оправдания ему нет. Считать их невиновными – пример простодушия.
Вернемся к мертвым. Мы спускались вниз по улице Хунин, я и мой мальчик, и среди всякого местного сброда возник Покойник, и вот что он нам сообщил. Первое: этим вечером, оказалось, один из его подельников, «парсерос», телохранителей Папы, погиб, сыграв в русскую рулетку. Он вынул из револьвера четыре пули, поднес его к виску и взвел курок; первая же из оставшихся пуль, не дав никакого шанса второй, вышибла ему мозги. Второе: мы должны «уяснить», что нас собираются убить заговоренными пулями, и на этот раз все серьезно. «Давай по порядку», – попросил я. Первое: застрелившийся телохранитель – он был хорошенький? Покойник не знал. Он не обращает на это внимания. «Так надо обращать, Покойник, зачем же Бог наделил тебя глазами и сердцем? чтобы глаза замечали красоту, а сердце билось при виде нее». Да этот придурок ни хрена не стоил. «Значит, он ни хрена не потерял». Что касается второго, то не надо беспокоиться: как только заговоренные пули коснутся моей священной одежды, они моментально испарятся. И тут возникли те самые парни на мотоциклах, среди облака пыли и разбегающейся толпы. Знаете, в кого они попали, в кого направила пули сеньора смерть? В другую сеньору, причем беременную. Ей набили живот свинцом, и прямо здесь, на тротуаре улицы Хунин, она отдала Богу душу вместе с зародышем. А те на мотоцикле, они скрылись? Ха! Они скрылись в направлении вечности: двумя выстрелами в затылок Алексис расколол им черепа. И снова мы ушли, оставив позади зевак, – бродить по жаркому и неугомонному городу. Этот запах мяса, жаренного на прогорклом масле…
Заговоренные пули приготовляются так. Положите шесть пуль в раскаленную докрасна кастрюлю. Плесните сверху святой воды, взятой в церковной купели, или купленной в приходе Сан-Худас-Тадео, квартал Кастилия, северо-восточная коммуна (святость документально гарантирована). Вода, святая или нет, моментально испаряется с шумом, и в это время надо произнести следующие слова, глубоко проникнутые верой: «Милостью святого Иуды из Тадео (или Поверженного Христа из Хирардоты, или отца Арсилы, или любого святого по выбору), пусть эти пули, освященные сейчас, попадут точно в цель, и да не будет смерть мучительной. Аминь». Как проникнуться верой? Не знаю. Я ничего не понимаю в этом, я ни разу не заговаривал пули. И никто, никто, никто до сего дня не видел меня стреляющим.
Как звучит присказка, которую я слышу повсюду – за завтраком, за обедом, за ужином, в такси, у меня дома, у тебя дома, в автобусе, в телевизоре? «Или я, или он – пора наконец разобраться». Что в переводе на христианский язык означает: или я застрелю его, или он меня, потому что нам двоим, полным ненависти, нет места на этой крошечной планете. И все движется! Поэтому Колумбия бодро идет вперед: присказка впиталась в ее душу. Я в жизни не встречал ее записанной, только в устной передаче. Остаток года, до первого января, Колумбия будет весело, празднично распевать свою песенку ненависти. А потом забудет, как забывает все.
Когда социологи начинают анализировать общество – оно пропало, как пациент врача-психиатра. Давайте же не предаваться анализу. Итак: «Выключите радио, сеньор таксист, я много раз слышал эту присказку, и мне не у-сто-ять». мы вышли у парка Боливара, в самом центре бойни, и пошли до авениды Ла-Плайя, среди всякого сброда и полицейских патрулей, призванных оценить масштабы трагедии.
Тротуары? Заняты лотками, пройти невозможно. Уличные телефоны? Вырваны с мясом. Центр? Обезлюдел. Университет? Разрушен. Остались голые стены. Что на них? Надписи – они дышат ненавистью, напоминая о «правах народа». Вокруг сплошной вандализм и человеческие орды: народ, народ, снова народ – и как будто нас еще недостаточно, время от времени беременные пожилые тетки, плодовитые и блядовитые сучки, бесстыдно выставляющие напоказ свое брюхо в полнейшей безнаказанности. Людское отребье захлестывает все, пачкает все своей мерзкой нищетой. «Посторонись, сволочь!» Мы с моим мальчиком шли, кулаками расчищая себе путь, среди хамских, уродливых, дрянных людишек, среди множества чудовищных недочеловеков. Эти марсиане, которых вы видите, – сегодняшний день Колумбии и завтрашний – всей планеты, если не остановить волну. Обрывки фраз, говорящие о кражах, погромах, налетах, смертях (здесь каждый кого-то хоть раз ограбил или убил) достигали моих ушей, привыкшим к неодолимым прелестям таких слов, как «урод» или «сука». Без их помощи наш изысканный, утонченный народ не способен выражаться вообще. А этот запах прогорклого масла, жареного мяса и сточных вод… Что же! Что же… Все видят. Все слышат. Народ заполняет улицы.
Но вернемся чуть назад. Я забыл: после того, как мы вышли из такси, случились еще две смерти. Клоун-мим и защитник бедняков. На задворках собора упражнялся в своем ремесле мим, передразнивая случайных прохожих. Но лишь обладателей приличного и беззащитного вида, ни в коем случае не какое-нибудь хулиганье, из боязни получить в зубы. Собралась кучка наблюдателей, хохотавших от души. Сколько таланта проявлял этот ученик Марселя Марсо – просто чудо! Вы идете, он идет тоже. Вы остановились, он остановился. Вы задумались, он задумался. Вы поглядели в сторону, он поглядел в сторону. Настоящий мастер своего дела. Когда мы вышли из такси, он передразнивал почтенного сеньора, одного из тех беспомощных, допотопных существ, которые пока что встречаются в Медельине, напоминая о том, кем мы были и кем перестали быть, и о монументальности катастрофы. Осознав наконец, что стал посмешищем зевак, сеньор униженно остановился, не зная, как быть. Мим тоже замер, не зная, как быть. И тогда ангел выстрелил. Мим покачнулся, перед тем как упасть, рухнуть с ничего не выражавшей белой маской на лице. Кровь потекла с его долбаного лба, окрасив алым его долбаную белую физиономию. Жмурик упал, и один из зрителей выдал реплику, уверенный, что его не вычислят: «Вот незадача, беднякам совсем не дают подзаработать». То были его последние слова: ангел услышал его и заткнул выстрелом в рот. Per aeternitatis aeternintatem[10]. Стоящих рядом обуял ужас. Трусливо и подобострастно члены кружка опустили глаза, не желая видеть Ангела-уничтожителя. Они прекрасно понимали: увидеть его – значит подписать себе смертный приговор, ибо завяжется знакомство. Алексис и я пошли дальше по неподвижной улице.
Ах, дырявая моя память, я забыл еще одно происшествие, на окраине парка. Мы уже приблизились к решетке. Там, не зная о случившемся на другом конце, под звон бубенчиков приплясывали кришнаиты, передавая нам пожелания мира и любви, рожденные на Востоке (любви, никогда не изведанной мрачным Христом), а также уважение ко всем живым существам, начиная с животных и заканчивая ближним. К ним подскочил и закружился в танце, с ошеломляющим презрением к окружающим, один из тех неотесанных типов, которые кишат в Медельине. Они верят, будто владеют единственной истиной, католической истиной кинжала и косяка. Вот этого шута мы уложили на выходе из парка. И последовали дальше без малейшего колебания, расталкивая толпу.
Пятнадцать лет потребовалось мне, чтобы постичь слова Лютера: нет в этом мире большей язвы, чем католическая религия. Салезианские святоши внушали мне, будто Лютер – это дьявол. Босховские чудища, клеветники! Великий римский трутень – вот кто дьявол, а вы – его приспешники и подхалимы. Поэтому я вернулся в церковь Суфрахио, где был крещен: отречься от крещения. Так что как ни повернется моя судьба, имени у меня больше нет. Никакого, да, никакого. Крестильни уже не существовало, путь в нее преграждала бетонная стена. Все мое – даже эта крестильня – исчезло. Еще немного – еще немного – и я увижу, как эту грязь, эту язву сотрут с лица земли.
Стоя на одном из балконов моей квартиры – небо над головой, Медельин вокруг нас, – мы принялись считать (вычитать) звезды. «Если правда, что у каждого есть своя звезда, – обратился я к Алексису, – сколько уже погасло? Действуя так, ты скоро очистишь небо». Чтобы завалить кого-нибудь, требуется обычная пуля, затем револьвер и много, много, много воли.
Есть близ авениды Сан-Хуан местечко под названием «Теплое дерьмо», притон налетчиков и убийц. Им тоже явился ангел. Я говорил, что нет, что лучше пусть будут чиновники из Альпухарры или господин архиепископ, кардинал Лопес Т.‚ перед тем как он безнаказанно сбежит в Рим с награбленными побрякушками, но мы были в моей квартире, и вышеназванное местечко показалось нам удобнее в силу его близости. Вечером, посреди пьяной болтовни, в кабак снизошел Ангел-уничтожитель, и для шестерых, сидевших за столиком на тротуаре, пьянка закончилась выстрелом в лоб. Была ли причина на этот раз? Да, и заключалась в простом факте их существования. Вам она кажется недостаточной? А я всегда говорил, что жизнь человеческая – это не пение птички, и что прекращать ее – не преступно. Преступно ее поощрять, давать начало новой скорби там, где о ней не знали. Когда мы возвращались, совершив наш ежедневный акт милосердия, то встретили бегущего вниз по авениде Сан-Хуан пьянчугу, кричавшего: «Ура шлюхам! Ура марихуане! Ура пидорам! Долой католиков!» Мы дали ему денег, чтобы он мог еще поднабраться.
Был один полоумный, без царя в голове, священник. И пришла ему в голову мысль устроить приют для бедняков на деньги богачей. Благодаря своей телепередаче «Минута с Господом» (по вечерам в семь часов), он превратился в колумбийского нищего номер один. Он постоянно рассуждал, что, мол, богатые всего лишь распоряжаются Божьим добром. Где вы слыхали что-нибудь бредовее? Бога нет, а тот, кого нет, не владеет добром. К тому же помогать бедным – значит увековечивать бедность. Ведь что происходит всегда и везде? От двоих бедняков рождается пять или десять таких же. Бедность умножает саму себя в соответствующее число раз, а когда наберет силу, то растет в геометрической прогрессии. Мое предложение: не строить дома для страдающих от нищеты и от невозможности разбогатеть. А прописать каждому порцию цианистого калия, и готово: правда, они помучаются минутку, но зато не будут мучиться годами. Все прочее есть покрывательство преступного размножения. Бедняк – это неутомимый член и ненасытное влагалище. Зло, причиненное Колумбии тем священником, неисчислимо. Увидев, что начинание имеет успех, он организовал под Рождество «банкет миллионеров». Входной билет стоил миллион, а на ужин подавали чашку бульона «Магги». И в конце концов, разумеется, наступила, по выражению североамериканских протестантов, «усталость дающих». Давать перестали. Тогда он сблизился с нуворишами, с наркоторговцами, нанимавшими террористов, стремясь поставить их на службу своим целям. Для него не существовало денег плохих и хороших, грязных и чистых. Все шло на пользу беднякам и размножению. Именно он договорился о визите большого главаря в собор. Вскоре после этого священник умер. Ему устроили похороны по первому разряду. То был посмертный триумф падре-попрошайки, следовавшего инстинкту, своей нищенской сущности, – и она совпадала с самой сокровенной сутью этой проклятой страны: жаждой чего-нибудь выпросить. Жажда эта возникла не сегодня и не вчера: на момент моего рождения Колумбия давно уже потеряла стыд.
Оставим же священника покоиться в мире и перейдем к тяжеловесам: к кардиналу Лопесу Т.‚ которого я так желал бы убрать. Этот светский господин, с изысканной и элегантной речью, решил действовать заодно с наркоторговцами, единственными, у кого в этой стране постоянно водится звонкая монета. Сохранились письма, где кардинал предлагает большому главарю купить земли, принадлежащие курии. Разве для кардинала ничего не значили, спросите вы, бесчисленные жертвы бомб, заложенных по приказу большого главаря, – всё простые люди, как говорится, из народа? Нет, нисколько, как и для меня. Мертвый бедняк – всего лишь мертвый бедняк. Сотня мертвых бедняков – всего лишь сотня мертвых бедняков. Я не стану ополчаться на кардинала за это. Чего я не могу ему простить, что отнимает у меня сон сильнее, чем кофе, – так это краденые драгоценности, увезенные в Рим, и его женоподобный облик. Женоподобный кардинал – не князь Церкви, а трансвестит, а его сутана в таком случае – женский халатик. Короче, последнее, что хотел сделать его преосвященство перед бегством в Рим, – продать наркоторговцам земельные участки, принадлежащие Католическому университету имени Боливара. Участки не были его собственностью, но стоили дорого, и на вырученные деньги кардинал собирался купить драгоценностей. Еще немного драгоценностей для себя. Представляю, как он надевал их перед венецианским зеркалом пятнадцатого века, чтобы, сверкая камнями, отправиться на Виллу Боргезе и обозревать оттуда Святой Город. Смотреть, как садятся голуби на купола, и в их числе – Дух Святой. Он будет наслаждаться подобным зрелищем, а я – наблюдать за грифами над кучей трупов?! Я не мог глаз сомкнуть от возмущения, сон не шел ко мне. С чисто религиозной точки зрения – дабы покончить со скользкой темой – я предпочитаю циничному, надушенному кардиналу дурно пахнущего, который воняет дерьмом и всеми дьяволами сразу.
Не знаю почему, но фамилия «Лопес» – простите, если вас так зовут, – у меня вызывает представление о циничном мошеннике. Ведь у нас столько разных Лопесов… Лопес М., Лопес К.‚ Лопес Т.‚ и т. д., и т. д. Иногда один Лопес оказывается сыном другого из того же списка, а временами это простое совпадение. Некоторые Лопесы, строго блюдя обет безбрачия, отправляются в Рим и ложатся с первым же швейцарским гвардейцем. Лопес для меня – кто-то вроде лисицы, удирающей в кусты с ворованной курицей в зубах. Это не моя вина, все дело в языке. Не моя вина, если фамилии сопряжены для меня с образами. Хищные лисицы! А потом, безобразно раскорячившись, Лопесы спокойно поедают курицу и пытаются обобрать друг друга до нитки. Если в их бездонные карманы вдруг попадут общественные деньги, они принимают это как должное.
Следующим от руки Алексиса пал живой человек на кладбище. На кладбище Сан-Педро, где покоятся все видные граждане Антиохии, исключая меня. Живым человеком оказался юный смотритель одной из могил, а сама могила была мавзолеем тире дискотекой. Там постоянно гремел магнитофон, развлекавший целое семейство страшных наемников в их вечном сне. Наемники погибли один за другим, «принеся себя в жертву», как выбито на плите, без уточнения, в жертву чему. Белому делу кокаина, конечно. Ловко вставленный между прутьями решетки, чтобы его случайно не украли (если владелец, например, отлучится в туалет), магнитофон денно и нощно изрыгал из себя вальенато, любимую музыку покойных в те дни, когда они ходили между нас. Проходя мимо этой могилы в задумчивости (в задумчивости по поводу горестей земной жизни и превратностей человеческой судьбы сравнительно с надежностью вечной вселенной), страж могилы, прелесть что за парень, возмутился, не обнаружив в нашем взгляде особой теплоты. «Эй, вы! – заорал он, не сдержавшись, – Потеряли что или как?» И тут же, понизив голос, словно в размышлении, произнес тоном сладчайшей ненависти, острой настолько, что заставила меня испытать почти сексуальное возбуждение и содрогнуться всем телом: «Уроды…» Дивный голос! Танатологи считают себя повелителями и господами смерти, поскольку наняты правительством на службу в «советах но поддержанию гражданского мира», а вот ваш покорный слуга, по их мнению, не имеет своей судьбы. Ха! Смерть – моя, недоумки, она – моя всегдашняя любовь и всюду следует за мной. Ангел поднял револьвер, целясь в лоб тому парню, и нажал на спуск. Грохот выстрела полетел в проходы между могилами, полными вечности и червей, и на миг в нем отразилась алчущая бесконечность. Эхо эха эха… Эхо еще долго отражало само себя, а страж могилы уже свалился наземь. Наконец, эхо замерло среди своих обертонов. Ангел-уничтожитель обратился в Ангела молчания. Когда мы уходили, кассетник неожиданно заработал, издавая неуместные звуки вальенато «Холодная капля» – его я напевал там, наверху.
Но тут беспутная жизнь обращает смерть в бегство, со всех сторон вырастают мальчишки – из каких щелей, из каких вагин? – словно крысы, которых не вмещает больше городская канализация. Когда мы покидали кладбище и Алексис перезарядил свою игрушку, двое из этих невинных созданий, не так давно увидевших свет (лет восемь-десять назад) с увлечением дрались, подбадриваемые кучкой взрослых и детей, под одуряющим тропическим солнцем. Без передышки, с личиками, горящими бешенством, потными особым потом ненависти – он вырабатывается здесь и не имеет равных на планете. И так как лучший способ покончить с пожаром – потушить его, ангел его потушил шестью выстрелами. Шестеро человек упали, по одному на каждый выстрел, шестеро, державшие в руках нерв представления: четверо зрителей-распорядителей и оба кулачных бойца. Каждый с отметиной на лбу, откуда сочились красные капельки, образуя живописные ниточки крови. Смерть, госпожа моя, поубавила в них пыла и выиграла, по крайней мере, этот раунд. Перейдем к следующим. Трубы трубят.
Пробегавший мимо Покойник предупредил нас, что сейчас явятся те, на мотоцикле. И в самом деле, эти козлы явились – приехали по встречной полосе, нарушая самые элементарные и священные законы Колумбии, законы уличного движения, которые запрещают тебе ехать по левой стороне улицы и предписывают соблюдать дорожные знаки с рекламой шоколада «Лукер» под ними. Что, они не видели, придурки? Нет, видели – но не видели пуль, отправленных Алексисом, моим мальчиком, в верном направлении, «in the right direction», как удачно выражается по-английски первое должностное лицо государства, наш главный полиглот, и как показывала стрелка над вездесущим шоколадом, над маленькой плиткой к чашечке кофе, но – ай-я-яй – им не съесть теперь ни одной плитки. Шоколад перестал входить в наши обычаи, как музы и месса, мы пустые, пустые, как жестяной барабан, по которому больше не ударит карлик-спидоносец. Всё исчезло, все умерли, от моего мира не осталось и следа. Я избавлю вас от описания трагической кончины мотоцикла – хотя нет, зачем? Он столкнулся с машиной, ехавшей «in the right direction», и оказался на ее крыше. С крыши его снял агент налоговой службы, который занимался опознанием трупов.
Ничто не действует у нас: ни закон «око за око», ни закон Христа. Первый, потому что государство не применяет его и не дает применять другим. Сами не рубят и другим не дают, совсем как моя покойная мама. Второй, потому что основан на извращенной логике. Христос был великим проповедником безнаказанности и сеятелем беспорядка. Стоит в Колумбии подставить вторую щеку, как тебе вдобавок еще и вышибут глаз. А если ты незряч, то всадят нож в сердце. В госпитале Сан-Висенте-де-Пауль, в отделении срочных операций, так называемой «поликлинике», всегда переполненной, – очаг войны посреди нашего мира – работают мастера по ремонту сердец: берут простые нитки, которыми сшивают мешки, чинят сердце – и снова оно готово биться, трепыхаться, источать ненависть. А поскольку у нас кто живет – тот мстит, подстрелившие тебя заявляются в госпиталь и приканчивают, как только операция успешно завершится. Четыре, пять, двадцать выстрелов в тыкву: антиохийские медики – прекрасные кардиологи, может, и нейрохирурги тоже? После чего они выходят абсолютно спокойные, довольные собой, пряча железку, выкуривают варильо или басуко. Варильо – это простая сигарета с марихуаной внутри, а про басуко я уже объяснял.
Сеньоры салезианские священники, достойнейшие, ученейшие, непреклоннейшие! Возможно, мои обвинения поверхностны и неоригинальны. Но я – осел, который ступает твердо и не спотыкается, потому что всякий раз крепко думает, куда поставить ногу. Любая религия для меня – бессмыслица. Если взять и посмотреть с точки зрения здравого смысла, простой рассудительности, то очевидно, что Бог – либо творец зла, либо несущностен по своей природе, употребляя ловкое словцо. Оно – кролик, вынутый мной, фокусником от схоластики, из рукава метафизического фрака с целью демонстрации изначального отсутствия Бога. Ясно, что его нет! Я, настраивая все мои пять чувств плюс телеантенну, пытаюсь его уловить, но нет, только полосы на экране. Единственное, что есть, что я вижу, – кролик. И кролик убегает… Что же касается Христа – как можно прийти к Богу, верховной сущности, через человека, с его земной судьбой и страстями? И бешенством. Хотел бы я поглядеть на него у нас в Медельине, как он пытается выгнать хлыстом торговцев из храма! Он бы не дожил до креста, сразу получив удар ножом. Попробуйте здесь предаться бешенству!
Две тысяч лет назад в мир пришел Антихрист, он же Христос: Бог-дьявол. Они – двое в одном, тезис и антитезис. Ясно, что Бог есть: повсюду мы видим следы его злодеяний. Как-то вечером рядом с кафе «Версальский салон» я наткнулся на мальчишку, нюхавшего саколь, сапожный лак. От одной галлюцинации к другой саколь разъедает легкие, и наконец, вам дается отдых от этой жизни с ее превратностями и противным смогом. Поэтому саколь благодетелен. Я неизменно приветствую улыбкой мальчишек, нюхающих всякую дрянь. Их глаза – жуткие глаза – встречаются с моими, и душа моя рвется прочь из тела. Ясно, что Бог есть.
В числе мерзостей, которые творит Бог руками человека, есть и такая: медельинские лошади, нагруженные под завязку, влачащие свою несчастную жизнь вместе с тяжелой повозкой, под бешеным солнцем в бешеном небе. Те, кто правит этими лошадьми, зовутся «возчиками», их несколько сотен. Как-то, сидя в такси, мы с моим мальчиком обогнали такую лошадь: она бежала рысью, то и дело подгоняемая кнутом, мимо зданий Альпухарры, административного центра, приюта бюрократов, не чувствующих ничего, потому что сердце их слепо, а рот вечно обсасывает разные предположения. «Лошади не должны работать, работать Бог заповедал человеку, сука!» – крикнул я возчику, высунувшись из окна машины. Услышав мой голос, возчик обернулся и стал идеальной мишенью для Алексиса, и тот пометил его в лоб. «Сфотографировал» – так еще говорят. Возчик упал на асфальт, выпустив поводья, лошадь остановилась. Машина, ехавшая на полной скорости, резко затормозила и задела возчика, но не убила, потому что он был уже мертв. Извините за слово, которое у меня вырвалось, – оно старое и почтенного происхождения. Правда, с тех пор эти суки стали куда более вредоносными. Как бы то ни было, извините. Дело в том, что животные – страсть всей моей жизни, у меня нет других ближних, их страдания – это мои страдания, которые я не в силах перенести.
Что до таксиста, он отправился туда же, куда и возчик, прямым курсом в вечность, как водители, отпускающие тормоза на спуске Робледо. Выяснив, что он нас знает, мы пометили его в лоб. Ничего не поделаешь, профессиональный риск. Не слушай, когда не нужно, и не смотри, когда не нужно, в городе с разгулом насилия. Кроме того, я не знаю невиновных таксистов.
Нас с Алексисом разделяло прошлое, я обладал им, он – нет; а сближало убогое настоящее без будущего, смена часов и дней – никаких целей и планов, но зато множество трупов. Когда Алексис довел их число до ста, я окончательно сбился со счета. Один раз такое со мной уже случалось, в далекой молодости, когда после пятидесяти женщин все перемешалось в моей голове и я перестал считать дальше. Чтобы дать примерное представление о масштабах, скажу, что Алексис отправил на тот свет меньше народу, чем бандит-либерал Хасинто Крус Усма, «Черная кровь», расстрелявший примерно пятьсот человек, – но намного больше, чем бандит-консерватор Эфраин Гонсалес, расстрелявший около ста. Округляя цифру, остановимся на среднем арифметическом: двести пятьдесят. Что до большого главаря, наделавшего много шуму и давшего пищу для сплетен, то этот прикончил больше тысячи, но опосредованно, руками бесчисленных наемников. Не назовете же вы любовью простое подглядывание? Это вуайеризм – грех, достойный сожаления.
Так вот я и говорю: жить в Медельине – значит заживо стать озлобленным мертвецом. Я не выдумал эту действительность: она выдумала меня. И мы ходим по улицам, живые мертвецы, болтая о кражах, грабежах, других мертвецах, бродячие призраки, влачащие груз ненадежного существования, бесполезной жизни, призраки, захлестнутые обшей бедой. Я могу точно назвать момент, когда я превратился в живого мертвеца. Это случилось вечером, под ноябрьским дождем: мы с Алексисом шли по кварталу Белен, по улице, разорванной посредине одним из медельинских ручьев, некогда кристальных, теперь обращенных в сточные канавы, где каждый кончает свою жизнь, доверяя несчастным водам грязь человеческой грязи. Тут прямо у нас на глазах в канаву свалился умирающий пес. Я предпочел бы пройти мимо, не видеть, не знать, но пес своей беззвучной, тревожной, неотвратимой мольбой призывал не оставлять без внимания его смерть. По скользкому берегу ручья мы подошли к нему. То был один из тех уличных псов, которых в Боготе зовут просто «псинами», а в Медельине даже не знаю как, хотя, впрочем, знаю: «паршивцами». Стараясь вместе с Алексисом вытащить его из воды, я заметил, что все ноги животного переломаны и значит, надежды на спасение все равно нет. Видимо, его переехала машина, и пес едва-едва дополз до канавы, но перейти ее не смог и свалился. Как бы он выбрался отсюда, израненный, искалеченный, если двое здоровых мужчин с трудом могли его поднять? Цементные берега канавы преграждали ему путь. Сколько времени лежал он вот так? Несколько дней и ночей, под дождем, судя по крайней истощенности. Может быть, он пытался, раненый, добраться домой? А дом – разве был дом? Об этом знает один лишь Бог, виновник всех этих мерзостей: Он, с большим «О», используемым для обозначения самого трусливого и жестокого Существа, убивающего и калечащего чужими руками, руками человека, своей игрушки, своего наемника. «Он не сможет идти, – сказал я Алексису. – Вытащить его – значит заставить мучиться еще больше. Надо его прикончить». – «Как?» – «Из револьвера». Пес глядел на меня. Взгляд этих светлых, невинных глаз будет со мной до конца жизни, до того самого мига, когда милосердная Смерть заберет меня. «Я не могу», – ответил Алексис. «Надо», – ответил я. «Нет, не могу». Тогда я достал револьвер у него из-за пояса, приставил дуло к груди пса и спустил курок. Хлопок получился глухим – тело собаки поглотило звук. Ее чистая душа поднялась прямой дорогой к собачьим небесам, куда мне не войти, потому что я – частица людской грязи. Бога нет, а если есть, то он проклятый сифилитик. И пока ливень усиливался, а сумрак сгущался, я понял, что счастье для меня отныне стало недоступным – если когда-то, в далеком прошлом, оно вообще было возможным, пусть не до конца и ненадолго. «Ты будешь убивать теперь один, – обратился я к Алексису. – Мне больше не хочется жить». И я направил револьвер себе в сердце. И снова, как несколькими месяцами ранее в моей квартире, Алексис ударил меня по руке, и пуля шлепнулась в воду. Мы не без усилия столкнули пса в канаву, окончательно перепачкавшись в дерьме телом и душой. Помню, что Алексис рыдал вместе со мной над телом животного. Вечером следующего дня, на авениде Ла-Плайя, его убили.
Мы шли по Ла-Плайя в толпе народа – по левой стороне, если быть до конца точным, – и смотрели на холм Пан-де-Асукар, когда прямо перед нами выскочил трескучий мотоцикл и задел нас. «Берегись, Фернандо!» – успел крикнуть мне Алексис, и в этот момент с мотоцикла выстрелили. Это было последнее, что он сказал в жизни, мое имя; никогда прежде он его не произносил. А затем провалился в пропасть, вечную, бездонную. Вокруг меня завертелись обрывки звуков и цветов, уничтоженных, стертых следующим мгновением. Я видел парня на заднем сиденье мотоцикла, «жарщика», в ту секунду, когда он стрелял, я видел блестящие глаза и кармелитскую накидку под расстегнутой рубахой. Больше ничего. Мотоцикл, лавируя, потерялся в людской гуще, мой мальчик упал, оставив ужас жизни ради ужаса смерти. Один точный выстрел, прямо в сердце. Мы думаем, что существуем, но нет, мы тени пустоты, наркотические видения.
Упав на тротуар, мой мальчик продолжал смотреть на меня открытыми глазами из своей бездонной пропасти. Я попробовал закрыть их, но веки сопротивлялись, как у того жмурика – другой день, другое место, другая смерть. Зеленые, несравненные глаза моего мальчика, чудесный зеленый цвет, до которого далеко колумбийским изумрудам чистейшей воды, прозванных «каплями масла». Но все мы, мертвецы, похожи, с черными, кофейными, голубыми глазами, – а между тем зеваки уже окружили нас, с их сплетнями, шепотом, шумом и грязью. И тогда я понял, что мне следует сделать: поднять его, убрать подальше от грязного любопытства, сделав вид, что он ранен, пока никто не догадался, что он мертв. Поднять, чтобы лишить их зрелища опознания трупа, того, что грозит всем умершим на улице, – тайного наслаждения тех, кто считает себя живым, поскольку они топают на своих двоих, в неизменном окружении собственной подлости. У первого же встречного – наркомана, из тех, что завладели авенидой и спят на скамейках, – я попросил, чтобы он остановил такси и помог мне посадить туда моего мальчика. Он остановил такси, он помог мне сделать все, что нужно. Я дал ему несколько монет, и машина тронулась с места.