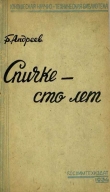Круги на песке

Текст книги "Круги на песке"
Автор книги: Феликс Кривин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
О КУРФЮРСТЕ ФРИДРИХЕ САКСОНСКОМ, ПРЕСЛЕДОВАВШЕМ МЮНЦЕРА И УМЕРШЕМ С НИМ В ОДИН И ТОТ ЖЕ ГОД
Фридрих Третий, курфюрст, до сих пор непонятно.
Как тебе удалось умереть в двадцать пятом.
Города и деревни, как свечи, горели
В этом смертном году над твоим изголовьем…
Бедный Фридрих Саксонский, ты умер в постели
В двадцать пятом, когда умирали герои.
Умирали в бою, на костре и на плахе,
Лишь в последний момент вспоминая о страхе,
Чтобы он вместе с ними развеялся прахом,
Чтоб в грядущем живые не ведали страха.
Мюнцер, Пфейфер и Шен, Рабман, Гербер и Веэ —
Неизвестно, кто младше из них, кто старее.
Потому что с веками стираются даты,
И ровесники эти борцы за свободу
Не по году рожденья – по смертному году…
Им навеки остался один двадцать пятый.
Ты же, Фридрих, имеешь и дату рожденья,
И правленья, и прочие громкие даты, —
Что же ты умираешь не в честном сраженье
В двадцать пятом, когда умирают солдаты?
Потому что не знаешь, за что умираешь,
Умираешь – лишь опыт чужой повторяешь.
Мол, до нас умирали – и мы умираем,
Кто-то нас пожалеет, а кто-то заплачет…
Вспомни, Фридрих: минуты с веками сверяя.
В двадцать пятом году умирали иначе.
Умирали в бою, на костре и на плахе,
Очень важно, курфюрст, этот опыт усвоить.
В нашей жизни, курфюрст, величайшее благо
Знать, за что умереть.
А иначе – не стоит.
Время катится нам навстречу, как могучий морской прибой,
И одним ложится на плечи, погребая их под собой,
А другим – немногим, немногим, что сумели дать ему бой, —
Время робко ложится под ноги, возвышая их над собой.
ШТУТГАРТ, 1782 ГОД
На книге, которая вышла в Штутгарте,
Место издания – город Тобольск.
Где Тобольск – и где Штутгарт.
Шутка ли!
Неужто поближе мест не нашлось?
Как видно, автор издания, Шиллер,
Крамольный свой заметая след,
Не знал, что первая книга в Сибири
Выйдет еще через десять лет.
Не знал, что еще не сегодня, не завтра
Туда, за многие тысячи верст,
Первый вольный российский автор
Отправится по этапу в Тобольск.
Простим мы Шиллеру произвольность,
Простим, что город выбрал не тот.
Но первая русская ода «Вольность»
Уже написана в этот год.
Чужая история снова стоит у двери.
Чужая история просит меня: «Отвори!
Брожу я по улицам, в каждую душу кричу,
Но, видно, с веками мой голос ослаб чересчур.
В шестнадцатом веке остался бессильный мой крик,
К старинным руинам, к унылым могилам приник.
А я все хожу и в чужие столетья стучу,
Из мертвых веков до живых достучаться хочу.
Кричу в телефоны, на ваших неонах горю,
А с кем говорю? Я сама лишь с собой говорю.
Послушай: когда-то был в мире шестнадцатый век.
Теперь он вчерашний ли день, прошлогодний ли снег,
Но был он живым, и его распинали и жгли,
Стирали с лица… да, вот этой же самой земли.
Но он не сдавался, крепился и прожил сто лет.
Века это могут. Наверное, знают секрет.
Впусти меня в дом, я о многом тебе расскажу,
Я многое знаю, я память веков сторожу,
Но я изболелась от стольких утрат и потерь.
Ты слышишь? Мне страшно…»
И я открываю ей дверь.
ГЕРМАНИЯ, 1525–1945
Я пишу о Крестьянской войне,
Как сейчас ее вижу.
Что до этой истории мне?
Были войны поближе.
Но от самых далеких тем
Никуда мне не деться.
Я пишу, хоть немцы не те
Мне запомнились с детства.
Где-то даль переходит в близь:
В страшном имени Гемлинг
Так и кажется, что сошлись
Гитлер, Гиммлер и Геринг.
Старый Гемлинг для всех означал
Горе, страх и погибель.
Это кличка была палача.
То же самое – Гитлер.
Я вхожу в незнакомую жизнь,
В то далекое время,
Чтоб забыть ужасающий смысл
Слова доброго: «немец».
И сливаются даль и близь,
Как сливаются реки,
Чтобы страшное слово «фашист»
Не забылось вовеки.
КАЗНЬ МЮНЦЕРА
Мюнцер пытан,
Мюнцер мучен,
Мюнцер страху не научен.
Не умеет Мюнцер жить —
Надо голову сложить.
Лютер,
Мюнцера учитель,
Нынче Мюнцера мучитель.
Дело в буквочке одной,
И она всему виной.
Потому что если вдруг вы
Позабыли ради буквы
Человека – горе вам!
Буква мертвая – мертва.
Ну, а те, какие живы,
От мертвящей буквы лживы,
И вгоняет в правду нож
Отставная правда – ложь.
Убивают лютеране
Свой порыв,
Огонь свой ранний,
Жгут былой огонь
Огнем,
Чтоб скорей забыть о нем.
Доктор Лютер
Смотрит люто:
Мюнцер,
Вождь простого люда,
Веки гордые смежив,
После смерти —
Снова жив.
Есть такие чудодеи:
Жить при жизни не умеют,
Им при жизни жизнь горька,
А умрут —
Живут века…
Только память живет века,
Человек – меньше века.
Коротка,
Как эта строка,
Жизнь
Человека.
Но вмещает она красоту
Утра, вечера, дня и ночи.
Если ж кто-то эту строку
Обрывает до точки,
Нарушается общий ритм,
Пропадает звучанье.
Все, что в тексте еще говорит,
Призывает к молчанью.
Только память живет потом,
Утешение – в этом.
Но ведь память – уже не то,
Если нет человека.
Лишь одна обрывается жизнь,
Мир огромен и прочен, —
Но уже теряется смысл
Утра, вечера, дня и ночи.
* * *
Великие творцы и гении
Работали в плохих условиях:
Ведь зарождалось Возрождение
В жестокий век Средневековья.
И это был процесс естественный,
Не вызывавший возражения:
Причина приводила к следствию,
Средневековье – к Возрождению.
Однако иногда случается
Совсем обратное явление,
Когда внезапно возрождается
Средневековье – в Возрождении.
И до сих пор ночами снятся нам
Средневековые обычаи…
В двадцатом веке век двенадцатый
Явление патологическое.
* * *
Но трезвый реалист
Рассудка не теряет:
Зачем идти на риск?
Зачем ходить по краю?
Не лучше ль на краю
Насиженного ада
Себе построить хату
И жить в ней, как в раю?
Мудрец сказал: «Хлеб открывает любой рот».
Добавить надо бы: «…и закрывает».
БРАТ ВЕЛИКОГО УЛЬРИХА
Не ровен час, не ровен,
Увы, не ровен час!
Отважный рыцарь Фровен
Своих друзей предаст.
И, дикою оравой
Смиряя города,
Он учинит в Рейнгау
Расправу без суда.
Как будто он, как будто
Не рыцарь, а пират.
Как будто славный Гуттен
Ему совсем не брат.
Они сражались рядом
И шли бесстрашно в бой,
Сметая все преграды
И жертвуя собой.
Не ровен час, не ровен,
Не ровен час – и вдруг
Отважный рыцарь Фровен
Врагам первейший друг.
И он карает люто,
Впопад и невпопад.
Забыл он, Фровен Гуттен,
Что жил на свете брат.
ПЕЧАТНОЕ ИЗВИНЕНИЕ БЫВШЕГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА
О, те, которые успокаиваются и ни к чему не стремятся! Этим людям ничем нельзя помочь.
Мюнцер
Извините Карлштадта за Мюнцера,
Не судите его с пристрастностью.
Наложите свою резолюцию
О Карлштадтовой непричастности!
Пусть он Мюнцеру был приятелем,
Но к нему относился критически,
Выражая всегда неприятие
Крайних мер, а тем паче – физических.
Он всегда был против движения
И, беседуя с орламюндцами,
Отговаривал их от сражения.
Извините Карлштадта за Мюнцера.
Он всегда возмущался крамолою
И престолу был предан внутренне.
Не рубите Карлштадту голову,
Хватит тех, что уже отрублены.
Не спешите принять решение.
Чуть помедлите с приговорами:
Это страшное унижение —
Стать короче на целую голову.
Пусть свой век доживет спокойненько,
Он не сделает вам революции.
Извините его за покойника,
За товарища бывшего – Мюнцера.
О СУДЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ КИЦИНГЕНА, ОСЛЕПЛЕННЫХ МАРКГРАФОМ КАЗИМИРОМ И МАРКГРАФОВОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ
И наступит в Германии мир,
И приблизится час возмездья,
И кровавый маркграф Казимир
Заболеет кровавой болезнью, —
А слепые всё будут идти
По земле среди вечного мрака,
Проклиная земные пути
И жестокую волю маркграфа.
На кого снизойдет благодать?
Каменисты пути и неровны…
Будет долго маркграф умирать,
Истекая поганою кровью.
Даже самый высокий ранг
Не спасает от поздних расчетов:
Кардинал досточтимый Ланг
Будет век доживать идиотом.
Гёц Берлихинген жизнь проведет
Под бессрочным домашним арестом.
На кого благодать снизойдет?
Никому никогда не известно.
Неизвестно, что ждет впереди
И когда заживется привольно…
А слепые всё будут идти —
Через годы и беды, и войны.
Снова вспыхнет неравный бой,
Прозвучат боевые клики…
Будет много крестьянских войн —
И великих, и невеликих.
Много будет…
И век не один
На безвестных костях созреет.
А слепые всё будут идти —
До тех пор, пока не прозреют.
ЯРМАРКА
– Красавица! Почем берешь за унцию?
– Штаны украли!
– Наливай бокал!
– Кто, Мюнцер? Нет, не знаю. Что за Мюнцер?
– Какой-то немец.
– Сроду не слыхал.
– Горячие! А ну, кому горячие!
– Сними две карты. Ставлю пять монет.
– Подайте на стакан вина незрячему!
– Купи телегу – повидаешь свет!
– Он был учитель. Или проповедник.
– Украли лошадь!
– А штаны – нашлись!
– Его казнили. Он стоял за бедных.
– Ну, это врешь! Какая в том корысть?
Ах, ярмарка!
Немало свежих истин
Здесь сохраняет свежесть много лет.
И Мюнцер,
Тот, что умер бескорыстно,
Давным-давно покинул этот свет.
ПОСЛЕ МЮНЦЕРА
Истинно говорю вам, я буду возмущать народ. Прощайте!
Мюнцер
Сто лет после Мюнцера. Кастель Сант-Эльмо. Тюрьма.
Кромешная тьма, над которой в веках вознесется
Такой же мятежный, не знающий страха Фома,
Сквозь тьму подземелий пробившийся к «Городу Солнца».
Как мир этот тесен и как бесконечен срок,
Который тебе в этой затхлой могиле отпущен!
Фома Кампанелла, с тобою всевидящий бог,
Тюремщик всевидящий и вездесущий.
Но тщетны усилья и каменных стен, и оков,
Всевидящих стражей и прочих союзников мрака.
Фома Кампанелла пробьется сквозь толщу веков,
А им никогда не подняться из бренного праха.
А время идет. После Мюнцера двести лет.
И, смертью своей прерывающий жизни молчанье,
Священник из Реймса, крестьянский философ Мелье
Оставит потомкам свое «Завещанье».
Он бога отвергнет, тиранов земли проклянет,
Он голос поднимет в защиту веками безгласных.
И с жизнью покончит. И кара его не найдет,
Поскольку над мертвым владыки не властны.
Неправда, что смерть налагает молчанья печать,
Вы только сказать свое слово сумейте.
Порою для этого нужно всю жизнь промолчать,
Чтоб вдруг, заглушая живых, заговорить после смерти.
Как мчатся века! После Мюнцера – триста лет.
Но год двадцать пятый, как прежде, в мятежники призван.
Сенатская площадь. Российской империи цвет,
Сомкнули ряды перед строем веков декабристы.
И будет Россия отныне нести этот пламенный стяг,
И падать, и гибнуть, и дальше идти – до предела.
И будут шагать по бескрайним российским степям
И Мюнцер, и добрый Мелье, и неистовый Кампанелла.
О них, об ушедших, потомки напишут тома
И каждого жизнь не годами – веками измерят.
И скажут потомки, что богу неверный Фома
Остался навек человечеству верен.
БАЛЛАДА О СТАРОМ ДУБЕ
Растет над Рейном старый дуб,
Свидетель древний.
Сейчас он, может, стар и глуп,
Но было время…
Не то что села – города
Летели прахом.
Он мог бы Мюнцеру тогда
Пойти на плаху.
Он мог пойти. Другие шли
Без размышлений.
Другие резали и жгли —
Такое время.
Его куда-то звал простор.
В порыве юном
Он мог пойти и на костер
Джордано Бруно.
А мог бы просто здесь, в лесу,
Раскинув ветви,
Подставить свой могучий сук
Под чью-то петлю.
Но он, иную часть избрав,
Не шел со всеми.
И кто был прав, а кто не прав,
Решило время.
И в этом дней его итог
И жизни целой:
Он очень много сделать мог,
Но он – не сделал.
ЛЕЙПЦИГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1766 ГОД
Так легко в молодые годы
Оступиться или споткнуться.
Охраняйте студента Гёте
От примера студента Мюнцера!
Между ними почти три века,
Но идеи не знают старости.
Пусть он станет большим человеком,
Пусть спокойно напишет «Фауста».
У него другие заботы,
У него призвание высшее…
Только кто это там,
Рядом с Гёте?
Вы узнали студента Радищева?
XV. Сибирский мемориал

ЯЛУТОРОВСК
1
Ялуторовск. Пыль и жара.
Сибирское знойное лето.
Медлительные вечера,
Стремительные рассветы.
И можно часами глазеть,
Как с легкостью слабого пола
Негордая речка Исеть
Сливается с гордым Тоболом.
И вот он, мужской произвол:
Порыва ее не заметив,
Течет равнодушный Тобол,
И нет простодушной Исети.
И это, возможно, другим
Послужит серьезным уроком…
Но даже от устья реки
Мы можем вернуться к истокам.
2
Ялуторовск.
Городок,
Районный, а в прошлом – уездный,
Лежит на сплетенье дорог
Шоссейных, речных и железных.
И ныне известно не всем,
Что в прошлом носило когда-то
Ялуторовское шоссе
Названье Сибирского тракта.
Вздымалась дорожная пыль
И ветры в степи голосили,
Когда провожала Сибирь
Отторженных граждан России.
Кандальный размеренный стук,
А лица – угрюмы и серы.
Так встретил Устим Кармелюк
Мятежных господ офицеров.
Стоял он в толпе каторжан,
Герой из народной легенды,
И молча в Сибирь провожал
Российских интеллигентов.
Идти им к далекой черте,
Где каторга злее и жестче…
В холодной, пустынной Чите
Кончалась Сенатская площадь…
3
Ялуторовск. Прошлый век.
Затерян в бескрайних просторах,
Стоит у слияния рек
Уездный сибирский город.
Отбывшие каторжный срок,
Живут в городке поселенцы:
Заходит на огонек
К Якушкину князь Оболенский.
И долгие споры ведут
Матвей Муравьев и Пущин.
Им этот печальный приют
Как высшая милость отпущен.
А годы торопят века,
Презревши свою быстротечность,
И время течет, как река,
Впадая в холодную вечность.
Так в небо впадает трава,
Доверясь высоким порывам.
Бессмертная вечность мертва,
А смертное время – живо.
Какой нам от вечности толк?
Мы смертного времени дети,
Впадаем в него, как в Тобол
Бурлящие воды Исети.
Всей смертною жизнью своей
Мы связаны с вечным риском…
Ялуторовск. Дом-музей.
И улица Декабристов.
ЛЕТО В ДЕКАБРЕ
И в декабре не каждый декабрист.
Трещит огонь, и веет летним духом.
Вот так сидеть и заоконный свист,
Метельный свист ловить привычным ухом.
Сидеть и думать, что вокруг зима,
Что ветер гнет прохожих, как солому,
Поскольку им недостает ума
В такую ночь не выходить из дома.
Подкинуть дров. Пижаму запахнуть.
Лениво ложкой поболтать в стакане.
Хлебнуть чайку. В газету заглянуть:
Какая там погода в Магадане?
И снова слушать заоконный свист.
И задремать – до самого рассвета.
Ведь в декабре – не каждый декабрист.
Трещит огонь.
У нас в квартире – лето…
ПУГАЧЕВСКАЯ ДОЧКА
«Казнить так казнить, жаловать так жаловать…»
Слова Пугачева из «Капитанской дочки»
Кто родился в сорочке,
Кто и умер ни в чем.
Капитанскую дочку
Отпустил Пугачев.
Здесь поставить бы точку,
Только точка – обман:
Пугачевскую дочку
Не простил капитан.
Он, тюремщик свирепый,
Надругался над ней.
Заточил ее в крепость
До скончания дней.
Там, где стены темницы
Близко-близко сошлись,
Как могла поместиться
Ее длинная жизнь?
В несмышленые годы
Все казалось игрой:
И тюремные своды,
И за дверью конвой,
И что трудно согреться,
Ложка стынет у рта…
И не выйти из детства:
Крепко дверь заперта.
Но – вину ли, беду ли —
Растворила вода.
Как отцовские пули,
Простучали года.
Молодой, беспокойный,
Убыстряющий бег,
Появился в Кексгольме
Девятнадцатый век.
И, пришелец невольный,
Обреченный на жизнь,
Появился в Кексгольме
Молодой декабрист.
Здесь, где холод и вьюга,
Где полярная ночь,
Он увидел старуху,
Пугачевскую дочь.
Он окликнул старуху
И спросил об отце.
Было пусто и глухо
У нее на лице.
Видно, силы ослабли,
Подкосила беда.
Как отцовские сабли,
Просвистели года.
Жизнь прошла – оттого ли
Поумерилась боль?
Ей казалось, что воля —
Это крепость Кексгольм.
Оттого ль, что ограда
Была слишком тесна,
Ей казалось, что радость —
Это та же тоска.
Вечный страх леденящий,
Вечный каторжный труд.
Ей казалось, иначе
На земле не живут.
И сегодня, и завтра —
Холод, мрак и нужда…
Как отцовские залпы,
Прогремели года.
Здесь поставить бы точку,
Только точка – обман.
Кто родился в сорочке,
Тот опять капитан.
При царе Николае
И при прочих царях
Он мордует, карает,
Он гноит в крепостях.
И невинные – винны,
И опять и опять
Чьим-то дочке и сыну
За отца отвечать.
А Кексгольмские стены
Погружаются в ночь,
Где она, Аграфена,
Пугачевская дочь.
ОТЕЦ ПЕСТЕЛЯ
Отошедши от дел, о которых давно позабыли,
Доживает свой век отставной губернатор Сибири.
И последний предел с каждым часом видней, ощутимей…
Тихо падает снег, занося позабытое имя.
Но оно оживает – и снова гремит над Россией,
Неподвластно смертям, в новом смысле и блеске, и силе.
И ему нипочем, что в безвестном смоленском поместье
Доживает свой век человек по фамилии Пестель.
Что он может теперь, этот старец, убогий и слабый?
И зачем ему эта фамилия звучная – Пестель?
А ушедшие годы бредут и бредут по этапу
И никак не придут на свое покаянное место.
Им шагать и шагать, им звенеть и звенеть кандалами,
Попылится за ними людская недолгая память.
И – вокруг тишина… Пустота… Ни попутных, ни встречных…
Годы сосланы в прошлое. В прошлое – значит, навечно.
А ведь были же годы! Таких ты сегодня не сыщешь.
Сочинял свои письма крамольный писатель Радищев.
И читал эти письма, и слал о них тайные вести
Почт-директор столицы со звучной фамилией Пестель.
Он, не знавший Радищева, не был его адресатом,
Не ему эти письма писал вольнодумец опальный,
Но по долгу чиновному сколько он их распечатал —
Деловых и интимных, и нежных, и злых, и печальных.
Что там пишут теперь? Что читает почтовый директор?
Чьи беспечные строки хранятся в архивах секретных?
Чья тревога и боль, чьи надежды, мечты и порывы?
Что же, что же сегодня хранится в секретных архивах?
Тихо падает снег, занося беззащитную память,
Беззащитную жизнь, ее небылью ставшие были…
А ушедшие годы звенят и звенят кандалами
И никак не дойдут до своей покаянной Сибири.
Почт-директор столицы, позднее – сибирский наместник,
Доживает свой век в одиноком смоленском поместье.
Отставной генерал, отставной губернатор, сенатор…
Но гремит его имя звучней, чем гремело когда-то.
Сыновья, сыновья, вы – наследники нашего дела,
Наших добрых имен. Как же вы обращаетесь с ними?
Имя Пестеля прежде совсем по-другому гремело,
А теперь как гремит оно, Пестеля славное имя?
Даже слушать позор. В этом имени – бунт и крамола.
Потрясенье основ, пугачевщина в имени этом.
Старый Пестель вздыхает: он тоже, конечно, был молод,
Но умел уважать и законы страны, и запреты.
Сыновья, сыновья, вам доверена правда отцова,
Отчего ж, сыновья, от нее отвернули лицо вы?
Вам идти б в генералы, в сенаторы, даже в министры, —
Отчего же уходите вы, сыновья, в декабристы?
Где-то стынет Сибирь, неоглядные дали и шири,
Вечный мрак рудников и железа колодного скрежет.
Павел Пестель, сынок, не дошел до отцовой Сибири, —
Он в начале пути в Петропавловских стенах повешен.
Не дошел до Сибири и сверстник его, Грибоедов.
А ведь шел он – в Сибирь, хоть об этом, бедняга, не ведал.
Сколько их, недошедших, сегодня покоится в мире!
Жизнь, увы, коротка, и не каждый дойдет до Сибири.
Жизнь, увы, коротка. И с нее ты за это не взыщешь,
Не обяжешь ее, не прикажешь ей сделаться длинной.
Сорок лет, как скончался крамольный писатель Радищев,
И по смерти своей отобравший у Пестеля сына.
Страшно мстят мертвецы, и не знают они милосердья.
Как они, мертвецы, ухитряются жить после смерти?
Время мертвых прошло. Им сегодня никто не позволит
Восставать из гробов и живым диктовать свою волю.
А ушедшие годы бредут и бредут по этапу,
Никому не потребные, всеми забытые годы.
Генерала-отца называли сибирским сатрапом,
А родной его сын погибает в борьбе за свободу.
Имена, имена… Вы рождаетесь мертвыми в мире,
В вас вдыхается жизнь нашей мукой и нашей Сибирью.
Нашей каторжной правдой и пролитой кровью, и потом,
Нашей смертною жизнью и нашей бессмертной работой.
Тихо падает снег, тихо жизнь уходящая стынет,
Одряхлевшая мысль все трудней облекается в слово.
И гремит над Россией казненного Пестеля имя
И никто не помянет бесславное имя живого…
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ
Ершов проводит свой урок.
Ах, эта русская словесность!
Как вдохновенна сила строк,
Когда любая частность – честность.
Конечно, много чепухи,
И в ней немалая опасность.
Как жалки проза и стихи,
Когда любая честность – частность!
Что хуже: совести упрек
Или начальства недовольство?
Ершов проводит свой урок
В губернском городе Тобольске.
А за окном и даль, и ширь
Бредут, бредут по бездорожью…
А за окном лежит Сибирь,
Пусть недалекая, но все же…
Но класс к учителю приник
И слова проронить не смеет.
Сидит за партой Менделеев,
Его любимый ученик.
И если им сейчас солгать,
Их души вечно будут немы.
И нам, быть может, не видать
«Периодической системы».
И все учение не впрок,
Словесность станет словесами…
Ершов проводит свой урок,
Учитель держит свой экзамен.
Он не трибун и не пророк,
Не слишком сильная натура…
Конек волшебный Горбунок,
Спаси его литературу!
СИБИРСКИЙ МЕМОРИАЛ
1
Я не петрашевец и не декабрист,
И меня сибирские каторги не гнули.
Я живу в Сибири в гостинице «Турист»
И живу – смешно сказать! – в июле.
И Сибирь встречает ласково меня,
Обо мне заботясь, как о друге.
Я иду свободно, цепью не звеня, —
За какие, собственно, заслуги?
Я не сплю на нарах, скорчившись ничком,
И меня не будит окрик резкий.
Для меня Сибирь – никак не мертвый дом,
Потому что я – не Достоевский.
Но гремит Декада в клубах заводских,
На полях – в минуту перекура…
Дни литературы… Это пустяки:
Здесь прошли века литературы.
2
Суетится река Суетняк
На бескрайнем сибирском просторе,
Но не может, не может никак
Добежать до далекого моря.
До какой-нибудь Карской губы
До какой-нибудь царской судьбы.
Мы спешим, мы торопим себя,
Мы вздыхаем в душе: отдохнуть бы!
Но опять не судьба… Не судьба!
Где они, эти царские судьбы?
Может быть, мы напрасно спешим,
Догоняя Иртыш и Ишим?
Может быть.
Понимаешь, старик,
Нас на карте – и то незаметно.
Мы в порыве – на весь материк,
А в работе – на два километра.
Где ты, Карская, где ты, губа?
Не судьба. Не судьба. Не судьба.
3
В помощь начинающим поэтам —
Старшие товарищи, среда.
У кого же вам искать совета,
Начинающие города?
Ведь никто не сможет поручиться —
Ни начальник стройки, ни прораб, —
Сможет город выбиться в столицы
Или, скажем, в областной масштаб.
Потому что непедагогично
И не стоит лишнего труда
К жизни подготавливать столичной
Начинающие города.
Пусть сумеют сами отличиться,
Обретут почетные права,
Как другие, древние столицы:
Рим, Афины, Прага и Москва.
Это все пока что в отдаленье
(Хоть, конечно, есть какой-то шанс),
Извини за громкое сравненье,
Начинающий Нефтеюганск.
Может, кто-то о тебе и скажет:
Что он видел на своем веку?
Пробурил каких-то пару скважин,
А уже тягается с Баку.
Лично я греха не вижу в этом
И могу сказать тебе одно:
Даже начинающим поэтам
С Пушкиным тягаться не грешно.
Хоть попробуй с Пушкиным сравниться
Или, скажем, с Тютчевым хотя б!
Можно даже выбиться в столицы,
Сохраняя областной масштаб.
Смотришь – есть и звание, и титул,
И почет – а все-таки не тот.
Объезжает нас читатель-житель,
Не читает что-то, не живет.
У тебя ж – прекрасные задатки,
Колоссальный нефтяной запас.
В этом смысле ты у нас в порядке,
Начинающий Нефтеюганск.
Но при этом счет к тебе особый,
Своего таланта не угробь.
С этих пор смотреть ты должен в оба,
А не только, как бывало, в Обь.
4
Мы пакуем свои впечатления,
Покидая просторы Сибири.
Мы садимся в машину времени —
В самолет Ан-24.
Пролегла постоянная трасса,
Регулярное сообщение
Между новым Нефтеюганском
И старинным градом Тюменью.
Фантастическое движение!
Мчим сквозь годы – и нам не страшно..
Наша жизнь – как машина времени —
Между завтрашним и вчерашним.