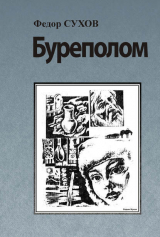
Текст книги "Буреполом"
Автор книги: Федор Сухов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
– Полезай скорее на печь. Отогревайся, – пропела, всплеснув руками, Анисья Максимовна, моя бабушка, пропела так, что я послушался и залез на печь.
Морозно взвизгнула обитая – в ёлочку – выцветшими дощечками, тяжёлая дверь. Вошла мать, она сразу стала поводить своими карими глазами, хотела углядеть меня, а я укрылся мочальной дерюжкой, и – молчок.
– Он не приходил? – спросила не на шутку обеспокоенная мать у сидящей на донце гребня бабушки, а бабушка ничего не ответила, она продолжала одной рукой тянуть вздетую на гребень кудель, другой крутила весело поющее веретено.
Не утерпел, выглянул из-под дерюги. Мать увидела меня, обрадованно проговорила:
– А я думала, ты в лесу остался…
А я и впрямь всё ещё в лесу оставался, вроде опять стоял посреди берёз, глядел на вечереющее небо, видел острое шильце месяца, слышал шумно шамкующую, остро наточенную пилу. И со стоном падающую плашмя, загубленную безмолвную красоту берёз – незабвенных лебёдушек лесных полянок, лесных лядинок…
Хочется воздать хвалу нашей русской печи, хорошо зная, что в век автоматизации, в век интенсивного освоения космоса наша русская печь – как остов извлечённого из вечной мерзлоты мамонта. Но ещё живут люди, которые благодарно вспоминают некогда стоявшую, нет, не посреди избы – чаще всего у продольной стены хранительницу всевозможных тайн многовекового русского быта. Летописцы этого быта, мастера словесного искусства запечатлели немало имён удивительных умельцев, искусников. Талантлив русский человек, он мог подковать блоху, мог сложить такую печь, которая не только грела тело, но и отогревала душу, исцеляла её от всякой лихомани. А какие хлебы, какие караваи выпекала под своим кирпичным небом на своём кирпичном поду!
Печь нам мать родная. Добрая речь, что в избе печь. Хлебом не корми, только с печи не гони. Лежи на печи да ешь калачи. На печи всегда красное лето. Полна печь перепечей, а посреди – каравай. Можно без конца приводить пословицы и поговорки, в них-то и отразилось уважительное отношение русского человека к белой лебёдушке.
Лежанка ждёт кота, пузан-горшок – хозяйку,
Объявятся они, как в солнечную старь,
Мурлыке будет блин, а печку-многознайку
Насытит щаный пар и гречневая гарь.
Николай Клюев
Печка-многознайка. А и впрямь все бабьи помыслы, все бабьи печали ведомы русской печи. Ведомы ей и все сказки моего деда, моей бабушки.
У печи есть чело, есть плечи… Есть у печи душа, она отдышала, отогрела мои косточки…
Острое шильце месяца больно укололо моё сердчишко, а поваленные берёзы мстили за жестоко загубленную жизнь. Прежде чем сгореть, превратиться в пепел в затопленном матерью подтопке, они стали застилать мои глаза поднимающимся к самому потолку едким дымом.
Услышал, как за дверью, на мосту заскользили чьи-то ноги, а протянутые к железной скобе руки прилагали немалое усилие, чтобы открыть дверь. А когда дверь открылась, я увидел своих сверстников, своих ровесников.
– Колядки петь пойдёшь? – спросили меня мои товарищи, мои закадычные дружки-приятели.
Неужто не пойду! Пойду непременно.
– Мы будем ждать тебя у Сабурина двора.
Назову имена и фамилии тех моих дружков-приятелей: Евгений Филинов, Александр Туманин, Владимир Сабурин, Александр Сабурин[10]10
В Красном Осёлке, как и во многих русских сёлах, вместе с узаконенными фамилиями широко бытуют уличные. В данном повествовании я предпочитаю уличные фамилии.
[Закрыть].
Все они жили неподалёку от нашего полудомка, все они были мирские (никонияне), а я – кулугур, приверженец старой веры.
Кулугур некрещеный,
Из… лыком тащённый.
Так дразнили меня мои дружки-приятели, когда я расходился с ними, враждовал.
Не умолчу, скажу, какая нестерпимая обида овладевала мной, когда я слышал хором пропетые зарифмованные слова. Я кидался – один! – на целую гурьбу повздоривших со мной, меня боялись, боялись потому, что я обладал немалой для своих лет силой, был ловок. А ещё у меня был старший брат, он всегда мог встать за меня.
– Ты куды? – услышал я приподнявшийся на ступеньки крыльца, громко прозвучавший голос.
– Петь колядки.
– Обожди.
Я остановился, ожидая, что ещё скажет охомутавший себя вожжами да поперечниками брат Арсений, но он ничего не сказал. Только после, когда освободился от вожжей и прочего, дружелюбно проговорил:
– Пойдём вместе.
Я забыл о своих дружках-приятелях, радостно предпочёл им брата, братку.
– Бгатка!.. Бгатка!..
Это опять они, мои дружки-приятели, это они кричат, нарочно картавя, дразня меня тяжело переживаемой мной, прилипшей к моему языку картавостью.
Я готов был рвануться к своим обидчикам, исколотить их, но не рванулся, придержал братка, сказав:
– Опосля.
– Когда опосля?
– Когда отколядуем.
А под светло горящими окнами заваленных сугробом изб уже раздавались те колядки, которые знал всякий сельский житель.
Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку!
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа,
Ужиниста!
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна – пирог!
Наделил бы вас Господь
И житьём, и бытьём,
И богатством.
И создай вам, Господи,
Ещё лучше того!
Братка приостановился. Я тоже перестал шмыгать своими подшитыми валенками. В разряженном, взбодрённом невеликим морозцем воздухе отчётливо слышались – поначалу скороговоркой, без задора, бесстрастно – на свой лад пропетые слова, а потом, одушевляясь, возвращаясь, слова эти обретали магию заклинания. Под конец они переходили в выкрик, отдавались где-то на задворках, кем-то подхватывались.
Восхитительно, непостижимо, дивно волхвовало – да, именно волхвовало! – не омрачённое ни единым облачком, усыпанное алмазно светящимися звёздами, зеркально чистое небо. Современная астрономия гордится своими познаниями, выдающимися открытиями в небесной сфере и вселенской бесконечности, но задолго до изобретения телескопа человек, пусть неосознанно, пусть стихийно, чувствовал тайну мироздания. Возможно, небо поставило человека на круги своя, дабы зрил он дивное творение Бога Саваофа, Вседержителя мира сего, его создателя. Боюсь, нет, не упрёка в непонимании материалистического учения, боюсь оматерилизоваться, безвозвратно удалиться от самого себя. Кто знает, кто скажет, в чём истина, в чём мудрость жизни? Зрение ребёнка острей, живее зрения уходящего на покой старца, восходящее солнце несравненно животворней заходящего. И совсем не случайно при помощи магии слова я приближаю закатную зарю к рассветной, тороплю старый год к новому.
Сею, вею, поспеваю,
С Новым годом поздравляю!
Уродися жито, пшеница
И всякая чечевица,
Лён-долгунец,
Лён-молодец
С чёсаной головушкой,
С длинной бородушкой…
Не скажу точно когда, накануне какого Нового года запали мне в голову крикливо пропетые, выплеснутые в холоде звёздного вечера, складно подобранные слова. Порой кажется, что многие сказки, песни родились вместе со мной. По крайней мере, они сами, без какого-либо усилия с моей стороны вошли в меня, вошли так, как входит свет в избу. Тут нет ничего такого, что могло бы обогатить меня, все мы без какого-либо усилия в самую раннюю пору запоминаем слова родного языка. И вряд ли кто может сказать, когда именно запало в память то или иное слово.
Кто не подаст ватрушки –
Разобьём в бане кадушки,
Кто не подаст пирога –
Увёдём корову за рога,
Кто не подаст колобашки –
Оставим без рубашки!
– Какие вы бойкие! – сказал, выходя из сеней, тот самый Иван Васильевич, которого звали стражником; он одарил: меня – пятаком, Арсения – гривенником.
Ещё светлей рассиялись крупные-крупные звёзды, они радостно рукоплескали. Запрокинув голову, я озирал обрадованные приближающимся новым годом небесные светила. Озирая, думал, нет, не о тайне мироздания – о бережно опущенном в карман ветхого пиджачишка увесистом пятаке.
– Бежим в слободу![11]11
Старая часть Красного Осёлка.
[Закрыть] – предложил крутнувшийся на одной ноге брат Арсений.
Укатанная санями, проложенная посреди длинно протянувшейся улицы дорога подхватила нас и понесла на своём горбу к светящемуся двумя крайними окнами училищу.
– Гляди, какая-то лампа-то…
– На цепях.
– А стекло-то какое…
– Как бычий пузырь.
– А горелка-то?
– Как кубышка.
Брат приостановился, он ещё что-то хотел показать мне в светящемся окне.
– Владимир Георгич сидит.
Владимир Георгич Радугин, первый по времени учитель в Красном Осёлке, глубоко уважаемый всеми сельчанами человек, он сидел за столом, склонясь над раскрытой книгой.
Не могу сказать, видел ли я раньше Владимира Георгича, возможно, видел, но – так уж случилось – облик старого учителя запечатлелся в моей памяти на исходе старого (по старому календарю) года. Седые, поредевшие, как у моего батеньки, волосы. Они гладко причёсаны. Недлинная – лопаткой – борода. И поясок. Поясок такой же, какой носят многие старики, когда они, стуча подожками, идут в церковь.
Ах, как мне хотелось вобрать в глаза всё, что окружало сидящего за открытой книгой недоступного для моего мальчишечьего созерцания человека! Но – даже тогда, даже в самые ранние годы открытия мира – я знал, что заглядывать, пялить глаза (как говорила моя мать) в чужие окна неприлично, грех.
В слободе, на Крутуше[12]12
Название западного склона горы, на которой стоит Красный Осёлок.
[Закрыть] в справном, под железной крышей дому жил Фёдор Петрович, старший сын Петра Матвеича, моего деда.
Я уже обмолвился, сказал, что Фёдор Петрович был умственным человеком, грамотеем, сумел, как говорят, выйти в люди, попадал в своё время в поле зрения крупных лесопромышленников Нижнего Новгорода. Они присматривались к башковитым выходцам из среды малоземельного приволжского крестьянства. А ежели эти выходцы ещё придерживались старой веры, тут им все карты в руки.
Быстро, одним мигом мы очутились под высокими, украшенными резными наличниками окнами а и впрямь справного дома. Кирпичная – с железной дверью – кладовая. На кладовой срубленная из ровных еловых брёвен стопа. Теремок на крыше. И крыльцо высокое, резное.
Уж и ходим мы,
Уж и бродим мы
По проулочкам,
По заулочкам.
Уж и ждём мы,
Уж и ищем мы
Иванов двор.
У Ивана на дворе
Разливалось море,
Море синее,
Полусинее.
Как по этому по морю
Вырастала трава,
Вырастала трава,
Трава шёлковая…
– Заходите в избу! – послышался хорошо знакомый, приветливый голос, голос сестрицы Аннушки, той самой Аннушки, что так лихо пела в нашей избе, в нашем полудомке.
Брат ринулся к крылечной створчатой двери, ухватил за бронзовую – с завитушками – скобу. Дверь не открывалась. По ступенькам крыльца торопко заколотились валенки. Остановясь у двери, они скрипнули половицей. Скрип приглушил не прихваченный морозом, приветливый возглас:
– Милости просим!
Милая, не по летам рослая Аннушка, она открыла дверь, впустила нас в сени, провела в избу. Но ни брат, ни я дальше порога не могли ступить, смирно стояли со снятыми с головы, зажатыми в руках шапками. И, размашисто крестясь, низко кланялись озарённым весело горящей лампадой иконам.
Рождённый в доме, в котором, кроме печи, полатей да ещё самодельного комода, ничего не было, я сразу же удивился обилию всевозможной утвари: табуретки, стулья, посуда в застеклённом шкафу, иконы в застеклённой божнице – всё это не могло не удивить. А ежели сравнить ну хотя бы наши чайные чашки, наши чайные блюда с чайными чашками и блюдами, что красовались за стеклом вместительного, покрытого блестящим лаком шкафа, тут такая разница, что и вообразить немыслимо. Небо и земля.
– Да вы что стоите? Проходите, – встав из-за стола, ласково пропела дородная, не утратившая былой привлекательности Матрёна Степановна, что так умело правила вечерни, заутрени в укрывшейся на задворках моленной.
Я глянул на свои истоптанные, готовые расползтись валенки. Снег на них уже успел растаять, но они не могли сойти с порога, лоснящийся ослепительным блеском пол пугал.
– Мы колядуем, – поспешил сообщить причину нашего появления в освещенном десятилинейной лампой, поставленном на кирпичную кладовую доме.
– А я сейчас гадать пойду, – рдея румянцем матово-белых, со смеющимися ямочками щёк проговорила вставшая возле печного приступка Аннушка.
– Бесов пойдёшь радовать, – не замедлила отозваться Матрёна Степановна, она выносила из чулана колесо румяно запёкшейся ватрушки. Ватрушка предназначалась для моего уже прилипшего к спине брюха… Что касается брата, он тоже не был обделён, получил другую ватрушку, правда, не такую румяную, но испечённую на той же сковороде.
– Бог спасёт, – кажется, я первый произнёс эти слова, которые не могли не обрадовать глубоко верующую хозяйку гостеприимного дома.
– Ах, ты умница… Какой молодец! – всплеснувши пухлыми, как нитками перетянутыми в заплетьях, руками, сразу оживилась умилённая Матрёна Степановна. Она на какое-то время умолкла, и только глаза, большие, как у Богоматери, любовно ласкали мою душу.
– Раздевайтесь. И – за стол… – Мне показалось, что я ослышался, но брат мой, не мешкая, сбросил с себя сшитый из домотканого сукна пиджачишко, первым приблизился к столу и, перекрестясь, сел на стул с красиво выгнутой спинкой.
Я замешкался, довольно долго не мог стащить со своих плеч тоже из домотканого сукна на вырост сшитый пиджачок, а когда стянул, пальцы мои потянулись к незастёгнутой пуговице на вороте заношенной ситцевой рубахи. Пуговицу не застегнул, пальцы ещё не отошли от холода, деревянно коченели. Увидел рукомойник, потянулся к нему, омыл руки тёплой водой, пальцы мои ожили, на правой руке они сложились в двуперстие, дабы осенить останние часы уходящего года крестным знамением.
Я не поднимал глаз, не смотрел на скорбные лики, освещенные неугасимой лампадой, великомучеников, я клал земные поклоны, отрешась от самого себя. Мне казалось, что я попал если не в рай, так в преддверие рая, вознесся на небо, где нет ни скорби, ни печали…
Матрёна Степановна усладила последние часы уходящего года двумя блюдцами крупитчато-загустевшего мёда. Его цветущую липу я до сих пор ощущаю на своих губах.
– Пойдём на улицу! – позвала, но не меня, а Арсения уже выбежавшая на улицу неугомонная Аннушка.
– Никто с тобой не пойдёт.
– Все пойдут.
– Заневестилась девка, о женихе бредит, – без укора, как бы сама с собой проговорила сердобольная, достойно несущая свой крест женщина.
Ещё девицы гадали,
Ещё красные гадали,
Да не отгадали.
Пал, пал перстень
В калину-малину,
В чёрную смородину.
Очутился перстень
Да у боярина,
Да у молодого,
Да на правой ручке
На малом мизинце –
Позаиндевело, позаплесневело, –
задорно, с притопыванием пропела а и впрямь загадавшая о женихе своевольная девка. Она взяла со стола две ложки, сунула их в карман своей шубейки и – на улицу.
Стучат почти у каждой избы, у каждого двора деревянные ложки хохломской работы и росписи. В накрытой чёрным, крупно раззвездившимся небом морозной тишине отчётливо слышен издалека стук. Эхо откликается со всех четырёх сторон – с соседних Красному Осёлку Кремёнок, Осташихи, Красного Яра, Просек… Откликается чья-то судьба, откликнулась она и на стук Аннушкиных ложек.
Кукарекнул петух, оповестил о приходе Нового года, а может, Новый год проголосил на весь мир. Слышно. Слышно.
Домой я возвращался один, брат Арсений остался под железной крышей красиво поставленного на кирпичную кладовую, приглядного дома. Так захотела Аннушка, так захотел Михаил, младший сын Фёдора Петровича и Матрёны Степановны, он был ровесником, годком Арсения, за одной партой сидели в училище. Трудно сказать, что я думал, когда торопко трусил по проложенной посреди улицы, гладко укатанной санными полозьями дороге. Возможно, о засунутой за пазуху ватрушке, а может, о пятаке, что отяжелил своей красной медью карман моего пиджачишки…
Неожиданно гулко ударил пожарный колокол, ударил – и утих. Я знал, что он отбивает время, знал, кто отбивает, дёргает длинную (длинней любых вожжей) льняную верёвку – древний-древний старик по прозвищу Горюня.
Долго-долго держался в морозном разреженном воздухе колокольный гул. Все знали, не могли не знать, что по старому календарю наступил новый двадцать девятый год, но не все ведали, что сулил он, названный годом Великого перелома…
Глянул на небо, небо холодно и отчуждённо омутилось. Оно походило на большую полынью, и звёзды колко, как ерши, барахтались в полынье. Я знал, что у каждого человека есть своя звезда, своя планида. Хотелось узнать свою, и я угадал: моя звезда отделилась от других, она была яркой-яркой, она учащённо дышала.
Под истоптанными валенками укатанный снег похрустывал так, что я часто оглядывался. Мне казалось, что кто-то догоняет меня. Больше всего я боялся покойников, и поэтому, когда проходил неподалёку от кладбища[13]13
Кладбище в Красном Осёлке располагалось возле церкви, неподалёку от здания школы.
[Закрыть], мимо могил, всё во мне замирало, уходило в пятки. Но – какая радость! – вдруг увидел огонёк в запележенном окне нашего полудомка, он тускло желтел, как непожухлый лист в чёрной полынье новогодней ночи.
– Ты где был? – накинулась на меня обеспокоенная моим долгим отсутствием мать. Накинулась без крика, без раздражения, потому-то я сразу признался, а извлечённый из кармана пятак умилостивил мою родительницу, её руки помогли развязать под моим подбородком лямки нахлобученного малахая.
Приподнял свою Вифлеемскую звезду прикорнувший возле печного приступка бычок. Он гладко лоснился, три раза в день упиваясь молоком заиндевевшей Жданки, смирно стоящей под половицами моста.
Не мог удержать себя, приласкал ещё не отошедшими от холода руками тихонько мыкнувшего телка, погладил по лоснящейся шерсти. Сладко зажмурился телок, хотел, чтоб мои руки подольше касались его светло круглившихся боков.
Из кути, из-под накрытой лоскутным одеялом кровати, дробно стуча ореховыми скорлупками раздвоенных копытец, вприскок кинулся к моим валенкам чёрный – как крыло ворона – ягнёнок. Он мелко каракулился курчавой шёрсткой. Я приподнял голову, обрадованно посмотрел на мать. Мать не преминула оповестить о только что объягнившейся белой овце.
– Одного принесла?
– Одного.
– Барана?
– Барана.
В детстве у меня почти не было игрушек (об этом я уже вроде бы говорил), но никого – ни благосклонного к моему пребыванию на земле деда, ни скупого на слова отца, я не просил купить даже пугача. Я сам мастерил самострелы, гнул луки, острым, сделанным отцовскими руками складником вырезал из коры осокоря пароходы. Ну а старые, истоптанные лапти утешали мои давние-давние дни, мои давние слёзы…
Отсутствие игрушек заменялось присутствием того же ягнёнка.
Милый мой, незабвенный мой агнец, как я рад был дробному стуку твоих копытец. А твой чёрный каракуль, ах, как он умилял меня, когда укладывался вместе со мной на разостланном возле жаркого натопленного подтопка старом чапане, и ничего, ежели подол моей ситцевой рубахи солонел от внезапной влаги агнца… Зато – какое блаженство! – спать бок о бок с самым безобидным на всём белом свете четвероногим существом.
– Ты что, всю ночь будешь сидеть? – укоризненно проговорила мать, глядя на сидящего на табурете отца.
Отец отмолчался. Он подковыривал кочепком новые лапти, сплетённые мордвином Гаврилой, проживавшим в доме Петра Степановича Филинова.
Гаврила тем и жил, что ладил лапти, плёл их по-мордовски – наперекосяк, как говаривала моя родительница.
– А где тётка Марья? – с явной тревогой спросил я у отца. Я боялся, что Марья Петровна могла уйти в своё Великовское, а мне хотелось дослушать недосказанную сказку.
Тревога моя не была напрасной, единственная дочь моего деда по павечери утопала домой, на другой берег стеклянно взбугрившейся ломаными льдинами Волги. Так ответил отец, ответил нехотя. Не любил отвлекаться от дела, от кочепка, что был схож с молодым месяцем.
Я и вправду улёгся у подтопка, но не на чапане, а на материнской шубейке, вместе с свернувшимся в калачик ягнёнком, быстро забылся, заснул. Проснулся от синё нависшего дыма, он лез в глаза, ел их. Я с головой укрылся пиджаком, но упастись не мог, дым душил меня, даже ягнёнок и тот мотал головой, беспрестанно чихая.
– Пойдём корову окуривать, – пробаяла выплывшая из чулана бабушка. Она увидела, что я не сплю, гляжу на висящий коромыслом дым.
Окуривать корову… Пожалуй, только старые-старые люди, что выросли в крестьянской избе, ведают, что это такое. Действо, по всей вероятности, пришло из языческих времён, оно сродни всевозможным заклинаниям, заговорам. Телится корова, всё молоко её на протяжении шести-семи дней отдают телёнку, никто не может выпить ни капли. После окуривания – пей, упивайся, разумеется, в скоромные дни.
Я ухватился за прислоненные к подтопку валенки, сунул в них нахолодавшие ноги, потом руки в свой заношенный лапсердак и – за дверь. Бабушка вынесла из кладовки чулана глиняный горшок.
– На, держи…
Я зажал в оголённых ладонях осторожно поданный, обожжённый до глазури, небольшой горшочек. Вскоре он был набит усохшей травой, той, что зовут богородской, что так слышимо благовонит.
Когда я вместе с бабушкой сошёл с моста и очутился возле смирно стоящей Жданки, богородская трава духовито задымилась от шумно вспыхнувшей спички.
Не скажу точно, впервые ли участвовал я в священнодействии окуривания коровы, скорее всего в первый раз, не с того ли так старательно исполнял всё, что говорила бабушка.
Курись трава,
Дымись, мурава
Духовитая,
Громом-молоньёй
Не убитая.
Оборони от хвори-хворушки
Вымечко моей коровушки,
Молоко услади,
Домового уследи…
Богородская трава в горшке сгорела, осталась только пепла горстка, рассеянная по двору, «домовому под хвост», как сказала сразу подобревшая бабушка. Она подсела к белому вымени, и в её руках звонко запело окуренное молоко.






