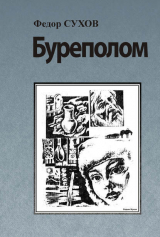
Текст книги "Буреполом"
Автор книги: Федор Сухов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Наш полудомок не был утеплён, не был ухичен, он быстро остужался, даже нагретый на ночь подтопок не мог отдышать своим теплом залубеневших от мороза, запележенных окон. Особенно холодно было к утру, когда поднимался, слезал со своих полатей дед, когда он подходил к рукомойнику, брал его за глиняное рыльце, клонил к деревянной лохани, чтоб омыть свой лик колодезной водою. Но вода заледенела, не лилась, дед тяжело вздыхал, неохотно отходил к столу, ненадолго присаживался, потом, привстав, начинал будить угретую печными кирпичами бабушку.
– Онисья, вставай! Хватит спать-то…
– Опять встал ни свет ни заря, опять не дает никакого покоя, – жалобилась в захолонувшую темень бабушка Анисья, но жалоба обычно не воспринималась.
– Люди-то давно встали, – пытался урезонить Анисью Максимовну рано проснувшийся Пётр Матвеич, он несколько раз подходил к печи, всё впустую, с печи никто не слазил, только я отзывался на раннюю побудку, может, потому-то и возлюбил меня мой батя-батенька.
– Кто рано встаёт, тому Бог подаёт, – часто повторял он всем известную пословицу, повторял не ради назидания, а просто так, из-за любви к подтверждённой самой жизнью, неоспоримой истине.
В моей памяти навсегда запечатлелось то раннее зимнее утро, которое умильно слезилось огоньком только что зажжённой лампадки. Огонёк этот показался горицветом из недосказанной сказки, благо, что я ничего не заспал, видел Зоряну-Заряницу, видел такой, какой виделась неродная (по матери) сестра, которая была моей няней, которую я жалел… Жалел потому, что уже заметил всю неприязнь, всю несправедливость, какую может явить жизнь. Бабушка и Марья Петровна старались заронить в мою душу сострадание, оно, это сострадание, пожалуй, больше всего печалится в наших российских сказках…
– Озяб? – оборотясь к моим очнувшимся от сладкого сна глазам, проговорил обрадованный тихо слезящимся огоньком лампадки, неугомонный старик, «петух-полуночник», как в глаза и за глаза звала его бабушка Анисья Максимовна.
– Я сейчас за дровами сбегаю, – сказал я, услышав голос петуха-полуночника.
Сунул свои босые ноги в дырявые в пятках валенки и без шапки, в одной рубашонке очутился на дворе, возле поленницы крупно наколотых дров. Набрав целое беремя тяжелых берёзовых поленьев, благополучно возвратился к тому самому подтопку, возле которого я прокоротал успевшую обутреть длинную зимнюю ночь.
Березовые поленья так грохнулись об пол, что прикрытая ветхой одеялкой Марья Петровна подняла голову, не понимая, что за оказия приключилась. А когда поняла, опять с головой упряталась под одеялку.
Я засовал в подтопок дрова, открыл сторонку (заслонку), потом взял лучинку и с разрешения деда преподнёс её к тихо горящей лампадке, лучинка, потрескивая, загорелась, а вскоре загорелись и березовые поленья в подтопке.
– Может, керосином плеснёшь?
Я удивился, лишнего керосина в нашем полудомке не было, дед сам попусту не жёг его, часто сидел при едва вывернутой тесьме, при тускло горящей семилинейной лампушке, а тут – на тебе – не поскупился, наверно, посчитал, что принесённые мною поленья сразу не воспылают пламенной любовью к его старым косточкам, не растопят лёд в глиняном рукомойнике. А они воспылали, сразу занялись, сухо потрескивая отдающей дёгтем берестой.
Вспоминая дни и ночи своего давнего-давнего малолетства, я не могу не удивляться той бедности, в какой пребывали близкие мне люди, ратаи, оратаи русской земли. И – что удивительно! – произошла великая революция, которая в корне должна была изменить весь уклад давно окондовевшей жизни, но особенно памятных изменений не произошло: те же запележенные окошки, те же промёрзлые пазы, те же набитые чёрными тараканами щели, тот же поющий от дружно горящих дров подтопок. И всё-таки я не буду наводить тень на плетень. Больше того, упомянутая мною бедность обогатила меня такими впечатлениями, какие я не мог бы получить в иной обстановке. Без худа не бывает добра, ежели под добром разуметь всю мою последующую жизнь, полную всевозможных превратностей.
А как он весело поёт, сложенный чьими-то добрыми руками подтопок! Чугунная с барельефно отлитыми конями дверца уже успела раскалиться. Я хочу открыть её, но – поди открой – не откроешь, не прикоснёшься, запряженные в колесницу кони скалят зубы, больно кусаются…
Встала, слезла с печи бабушка, она тут же ухватилась за рукомойник и – ополоснулась только что оттаявшей, ещё не потеплевшей водой. Ополоснулась, утёрла концом своего платка, потом осенила себя крестным знамением.
– Печь затапливай, – проговорил дед, проговорил так, что бабушка развела руками, недовольно огрызнулась:
– А я и не знала, что надо печь затапливать, ждала, коли скажешь, коли прикажешь.
Замычал бычок, молока захотел, но молока не было. Бабушка взяла подойник и, накинув на себя шубейку, выкатилась во двор, присела к бело раздутому вымени припорошенной инеем коровы. Я видел (я вслед за бабушкой выбежал на нижний мост), как наша Жданка скосила свои большие, с яично выпуклыми белками глаза. Глаза эти – как два омута неизбывной печали. Не знаю когда, но я уже успел приметить какое-то предназначение во всяком коровьем взгляде. Омутоватоглубок, полуночно-тёмен был взгляд нашей коровы, как будто в глазах отразились все невзгоды несуразной жизни крестьянской Руси. Было в этом взгляде и то непорочное святое благолепие, которое так зримо запечатлено на иконах древлего письма. Глаза святых великомучениц похожи на коровьи глаза. Сама Богоматерь взирает на мир коровьими глазами – так мне казалось, так представлялось.
– Набери дровец, – сказала мне бабушка, когда учуяла моё дыхание на присыпанном снежинками оледенелом мосту. Но я всем существом прилип к недвижимо стоящей Жданке, любовался небольшими, красиво загнутыми рогами. Три кольца, три – хорошо ли, плохо ли? – прожитых года выпукло круглились на рогах. Я не забыл. Я помню, когда Жданка появилась на свет, на второй неделе Великого поста, а это значит: она могла рассчитывать на более полное ведёрко только что надоенного молока. И – что важно – не разбавленного тёплой водицей. Бог Саваоф установил Великий пост только для потомков Адама и Евы – как наказание за тягчайшие грехи. Может, потому-то я так рано стал завидовать всякой безгрешной твари, всякой непорочной душе.
Увитые тремя прожитыми годами рога недвижимо застыли над окаменевшими шевяками, а омутовые глаза, утыканные белыми от мороза ресницами, сладко прижмурились. Жданка давно ждала оцинкованного подойника, подставленного под её отяжелённое молоком вымя. А когда бабушка закрыла в своей пухлой горсти один из сосков, я увидел, как в разжмурившихся глазах что-то радостно вспыхнуло, их тёмный омут что-то повернуло, приподняло, а потом повернуло к присевшей на корточки бабушке, к её старенькой шубейке. Корове, наверное, показалось, что к её соскам прикоснулся тёплыми губами бычок-белолобыш, но когда поняла, что это пальцы бабушки, послышался еле уловимый вздох. Вздох этот выражал неизбывную печаль о куда-то исчезнувшем бычке-белолобыше и примирение с уготованной судьбой…
Долго, не меньше четверти часа, поначалу звонко, как дождь о железную крышу, стучалось о чисто вымытое дно дойника, голосисто пело Жданкино молоко. На какое-то время мне показалось, что из-под бабушкиных пальцев сыплется снег, Может, потому-то я забыл об уложенной под избой поленнице, забыл о дровах, которые я должен принести к остывшей за ночь, угрюмо притихшей печи. Меня потянуло на улицу, за неплотно прикрытую сенную дверь.
Сыпался снежок. Моё воображение не обмануло меня: снежок – как молоко. Синеватая белизна снега – как белизна парного молока. И – что примечательно – свежесть снега и парного молока вызывали одинаковые ощущения и восприятия, навеянные, по всей вероятности, синеватой белизной зимнего утра. Утро-то уже успело выбрезжиться, наверно, уже взошло солнце, но оно не могло пробиться сквозь обильно падающий снег.
Закукарекал петух, не зря закукарекал: погода-то переменилась, смягчился мороз. Всегда так бывает, когда начинает порошить, мороз слабеет, перестаёт щипать уши.
Не знаю, окликала ли меня бабушка, может, и окликала, но я не слышал, я уже вытащил салазки, взобрался на бугор, катился с бугра…
Умиляюсь, не могу без умиления повествовать о той, теперь невозвратно далёкой, до слёз, до замирания сердца памятной поре моего раннего пребывания на белом свете, во многом походившей по своей вопиющей бедности на те картины, которые в красках и слове явили наши русские художники.
Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках
По горе крутой.
Нет, не из букваря вошли в моё сознание эти удивительные по простоте строки, услышал я их из уст Ивана Васильевича Пермякова, услышал тогда, когда катился с припорошенного свежим снежком заледенелого бугра, возвышавшегося рядом со двором Ивана Васильевича, которого всё село звало стражником. Слово «стражник» страшило, но вышедший из приземистой, крытой железом избы, старый, с белой-белой бородой человек не вызвал во мне никакого страха, а пропетые им стихотворные строки как-то приободрили меня. Я приподнял руки, готов был взлететь к небу. Не взлетел. Потому, что увидел рядом свою мать.
– Сейчас же домой! – вскричала моя родительница, да так, что вместе с салазками я кинулся под гору, туда, где коряжисто возвышали себя три ветлы. Домой идти не хотелось, уж больно вольготно было на улице: снежок мягко ложился на уши моего малахая, услаждал губы. Я неохотно возвратился к ступенькам крыльца, боясь прогулять завтрак. Но это уже случилось, завтрак я прогулял.
У ревнителей древлего русского благочестия приём пищи осуществлялся в строго определённое время. Совершался семейно, никто не ел в усобицу. Завтрак, обед, ужин проходили под строгим надзором старшего в семье. Строго соблюдалось правило, ритуал: помой руки, подойди к столу, сотвори молитву, поблагодари Всевышнего за дарованный им хлеб.
– Где ты пропадал? – спросила выглянувшая из чулана бабушка Анисья Максимовна. Она знала, что я проголодался, но знала и то, что согласно заведённому порядку мне до самого обеда придётся ходить с пустым брюхом.
Я ждал, что скажет дедушка, но он молча сидел у запележенного окна, примостясь к углу застланного браной холстиной обеденного стола. Другого стола в нашей избе не было. Дедушка листал божественную книгу, он был в шубнике, седины его редкой бороды тускло индевели на овчине заношенного охабня.
– Прогулял завтрак-то! – нет, это не дедушка, это отец проговорил – не поднимая головы, не отрываясь от остро наточенной и умело разведённой пилы.
Я обрадовался, потому что отец редко обращал на меня какое-то внимание. А как хотелось, чтобы мой родитель что-то сказал мне! Я готов был сделать что угодно: подать брусок, подпилок, рубанок, фуганок…
Отец – я заметил – был опять обут в те лапти, в которых он приехал из-за Волги, из неведомой мне Пенякши. Неужели он снова на целую неделю, а может быть и на две, покинет свой родной дом?
Бабушка поставила на стол светящийся медалями самовар.
– Наливай, Гриша…
А Гриша приподнялся с продольной скамьи, широко шагнул к печи, бережно – как большую рыбину – опустил на печной приступок пилу. Послышался умиротворяющий звон, по которому можно было судить, что пила осталась довольной, зубы её остро блестели…
К самовару никто не подсел, даже дед недовольно покосился на его медали и, ничего не сказав, уткнулся в книгу.
– Поехали! – не входя в избу, прокричал в приоткрытую дверь мой старший брат Арсений.
Я недоумённо встал, не зная, что остро наточенная пила скалила свои зубы на те берёзы, которые я заприметил в пору поспевания ягод, когда вместе с матерью ломал развесистые, с липкими пахучими листьями ветви на банные веники…
Я сижу в головках саней на охапке присыпанного лениво падающим снежком духмяного сена. Я вижу мать, отца, не вижу только Арсения: он стоит за моей спиной, держит в руках пеньковые, свитые отцовскими руками, туго натянутые вожжи. Гнедок ускоряет шаг, он заметно прибодрился, рад, что трусит по хорошо знакомой, укатанной дороге. Дорога не переметена, не перехвачена снежными застругами, она ровно скользит по замятюженному полю, утыканному приметными вёшками. На одной из вёшек я увидел сороку. Сорока не удивила меня, вот волка бы увидеть…
– Не озяб? – я вздрогнул, я не думал, что мать о чём-то может спросить меня, обернётся и обласкает налипшими на глаза снежинками.
Довольно рано, годам, пожалуй, к четырём, я стал замечать красоту человеческого лица, но – почему? Не знаю почему – не мог заметить той красоты, которую являло, да так зримо, лицо моей родительницы. И вот оно обернулось ко мне, это лицо, разогретое лёгким морозцем. Обрамлённое серым шерстяным платком, долго-долго ласкало меня влажными от тающих снежинок глазами.
Я часто видел на материнских глазах слёзы, чаще всего слёзы горчайшей обиды. Но вот совсем неожиданно вижу слёзы умиления. Мать смотрит не только на меня, умильно смотрит она и на сороку, что сидит на косо воткнутой вёшке, глядит и на волнисто замятюженное поле.
– Не озяб?
Ещё раз попытала мою душу умилённо смотрящая душа…
Нет, не озяб. Может, потому и не посчитал нужным что-то ответить, как-то отозваться на озабоченно пропетые слова.
Проехали мимо старого-старого вяза. Он раскинулся неподалёку от нашего загона. Я хорошо запомнил этот загон, на его борозде, на его тёплой ладони в дни изнурительной страды, которая именовалась жнитвом, спознался я с солью обильно пролитого пота. Соль эта бело индевела на отцовской рубахе, индевела она и на материнской, в белый горошек, кофточке.
– Не знаешь ты, какие я муки приняла с тобой, – назидательно говорила мать, когда, взрослея, я проявлял какое-то своеволие. – Бывало, заверну тебя в холстину и – в поле. В одной руке серп держу, другой тебя несу. Ладно, ежели загон близко, а ежели далеко, где-нибудь за берёзовым врагом[6]6
Берёзовый враг – заросший берёзами овраг.
[Закрыть], тогда не больно сладко. Одна дорога все силушки вымотает. А отец-то, ты знаешь, как он ходит. Бегом беги и не догонишь. А отстать-то стыдоба заест, я ведь молодая была. «Гриша, сбавь шагот!» – кричу. Не сбавляет. Как на пожар несётся. Уж больно жадный он, отец-та твой, до работы. Я ни разу не слыхала от него, что работа, дескать, не волк, в лес не убежит, как многие говорят…
Мать прервалась, я понимал, как ей тяжело вспоминать те дни, которые выматывали последние силы. На жнитве, на молотьбе и на иной тяжелой работе.
– Дотащусь до загона, сброшу тебя с руки-то и – к постати[7]7
Постать – часть загона, которую, сжиная, гонит жнец.
[Закрыть]. Постать-то шагов пять шириной-то. Примерно третья часть загона. Пробую свой серп – слава богу, гоже берёт. Берёт-то гоже, да сердце-то не на месте. К твоей холстине всё оборачивается, разрывается на части, за тебя боязно: и серп-ат не бросишь, с постати-то не уйдёшь, тянуться нады. Отец-ат твой, он как зверь, всё поле мог сграбастать в свою пятерню. «Гриша, передохни!» Куды там, до передыха ли. Горсть за горстью кладёт. Далеко ушёл от меня. А ведь постать-то в два раза шире моей. Зверь, чистый зверь!.. Оступаюсь, на ногах не могу устоять, в поту вся. Глаза потом залило. Гляжу и – ничего не вижу. О тебе забеспокоилась, к холстине твоей бегу. А ты уткнулся в землю и – ни гу-гу. Думаю: задохнулся. «Господи, прости мою душеньку, виновата, не углядела», – взмолилась, подняла залитые потом глаза к небу. Неба не увидела, увидела солнышко. Оно во всё небо расплылось. Беру тебя на руки, беру ровно рисяное зернышко. Слышу: сердце в тебе колотится. Значит, смилостивился Господь, отвёл беду от моей душеньки. Вынимаю грудь, даю тебе, а ты отворачиваешься. Молоко-то с потом перемешалось…
Я долго держу в своих глазах красиво развесившийся, опушённый снежинками вяз. Под его сенью – когда, я не помню, – моя родительница поднимала меня на ноги своим молоком. А может, своим потом? Может быть. На какое-то время я смежаю глаза, и мне кажется, выскальзывающее из-под полозьев саней поле убелено не снегом – оно убелено солью отцовского и материнского пота…
Зимой не так уж часто можно ощутить солнце. Восходя, оно не поднимается выше дерева, выше того же вяза, прячет себя за дворами, за сугробами, не желает, не хочет «мозолить» чьи-то досужие глаза. Пожалуй, только с середины зимы начинает казать свой лик. Солнце – на лето, зима – на мороз. Так говорят об этой поре. Но бывает так, когда мороз утихает, а солнце, возвышаясь, ещё не может отдышать заледенелой полыни. Сквозь лениво падающий снежок оно печально взирает на замятюженную землю. Не знаю, то ли печаль повернувшего на лето солнца, то ли близость околдованного зимней спячкой сказочного леса оживила меня. Мне хотелось спрыгнуть с саней и без дороги, по глубокому мятюгу приблизиться к вышедшим из глубокого оврага по-девичьи стройным берёзам, уж больно любопытным ко всему, что происходит на белом свете.
А дорога пошла под уклон, вот-вот она развалит на две половины берёзовую чащу, скатится в глубь оврага, туда, где не замерзает примеченный мною невеликий ручей.
– Лиса! Глядите, лиса! – это брат Арсений, это он первым увидел вышедшую из лесу кумушку.
Я вскочил на ноги и, держась за головки саней, припал широко раскрытыми глазами к тому полю, что именовалось Репищами[8]8
Репищи – трудно уяснить этимологию этого слова, его происхождение. Возможно, есть какое-то родство со словом репей, со словом репица – это в лапшу изрезанная кожа на кнуте пастуха.
[Закрыть], но лисы не мог за-приметить, только поле, только одно оно покато стелилось, слепило блистающей на солнце, ровно разостланной белизной.
– Мышей вынюхивает, – без удивления, как-то обыденно проговорил отец.
– Кто вынюхивает?
– Рыжий кот.
Я прикусил язык. Стало горько-горько. Горько потому, что я опростоволосился, услышал из уст обожаемого мной отца язвительно прозвучавшие слова. В горле что-то застряло, стало душить меня.
– И не боится, – пробаяла устремлённая в выскользнувшие из-под саней всё те же Репищи недвижимо сидящая мать. И она увидела смело мышкующую лису.
Думаю, не так уж много прошло времени, когда и я узрел хитрющую зверюгу, но мне казалось, что я долго-долго пребывал в ослепляющей белой-белой темени…
Огненно-рыжая, с пышно волочащимся по свежему снегу хвостом, мышкующая лиса вкрадчиво подобралась к едва приметному бугорку. Чуяла лиса, что увиденный ею бугорок таит, пусть скудную, но по зиме, по её бескормице давно желанную пищу.
Дорога спустилась в овраг, к тому невеликому ручью, что был мною примечен по пролетью, когда я вместе с отцом ходил осматривать нашу делянку[9]9
В двадцатые годы отведённый на порубку лес, как и поле, делился между сельскими жителями. У каждого крестьянина в поле был свой загон, а в лесу – своя делянка.
[Закрыть]. Я видел, как отец подходил к только что облистившимся берёзам, вырубал на них свою метку. А я стоял запрокинув голову, глядел на сорочью пестрядь берёзовых стволов. Стволы эти – как серебряно льющийся дождь. Да, да, берёзы, они – как дождь, они – как серебряный ливень. Детское восприятие, оно не может быть без уподобления, без образного видения. А когда я встал с охапки сена, когда очутился возле продышавшего своё окошечко, не прихваченного морозом ручья, те же самые берёзы показались мне ровно падающим снегом.
– Есть-то хочешь? – подойдя к облюбованной мною, поющей шелушащейся корою берёзе, спросила меня моя родительница.
Есть я хотел, я ведь не завтракал, но я не мог есть в усобицу, потому отказался от вынутой из-за пазухи пресной лепёхи.
Подрастая, я доставлял немало горя моей родительнице, и это было нестерпимо больно. Но ничто не могло погасить полымя материнской любви. Часто, очень часто любовь эта не воспринималась мной, я хотел, чтоб моя родительница так же, как и меня, любила и своего пасынка, свою падчерицу. Не могу сказать, может, дед, а может быть, бабушка пробудила во мне это бескорыстное чувство. Впрочем, нет, оно родилось со мной. Пробудить можно какую-то страсть, но нельзя пробудить какое-то чувство.
Вынутая из-за пазухи лепёха была бы съедена, если б кто-то разломил её на две равные части.
Милая моя, моя незабвенная страдалица, мать моя, через много-много лет, на закате полной разными превратностями жизни я вспоминаю и запечатляю в сущности-то ничем не примечательные события. Да и не события, скорее всего, быстротекущее время, его половодье. Запечатляю не ради удовлетворения какого-то тщеславия, не ради поучения или назидания. Иные помыслы владеют мной. Возможно, в меру сил мне посчастливится воссоздать не просто некую картину быта, но и бытия. Пусть эта картина не будет выставлена для всеобщего обозрения, она живописуется не для вернисажей, хорошо, ежели попадёт в какой-то запасник, в какую-то кладовую. Кладовая человеческой памяти да сохранит мой холст, моё полотно…
Я долго стоял в снегу берёз. Мраморно-белый, поющий своей берестой, девственно-чистый снег завораживал меня. Я забыл о смирно стоящем, накрытом старым чапаном Гнедке, забыл о матери, об отце, о брате Арсении. По всей вероятности, я так бы и пребывал в белоснежном сне, если б не жидко пролившийся треск.
– Клёстиха! – услышал я голос своего брата.
Открыл прикрытые снежинками глаза, увидел чем-то встревоженную птицу.
Птицы в зимнем лесу, они – как вестники не убитой морозом, вечно торжествующей жизни. Не так много этих не избалованных заморским теплом птах: снегири, поползни, клёсты, синицы… И, конечно, совы, филины, глухари. Не упоминаю воробьёв, в отдалённом лесу их почти не бывает, не бывает сорок, ворон, воронов, галок. Все они предпочитают держаться поближе к жилью.
Не назвал, забыл дятла. А я ведь услышал его дробный, с перерывами, стук – нет, не над головой, в стороне, там, где коряжился старый, с усохшей макушиной дуб. Стук походил на дробь, которую рассыпал по деревянной, похожей на стул солонице мой дед, когда садился за стол, когда в солонице не было соли.
Я оборотился к дубу, поднял глаза, увидел, как по охлипшему, утончённому к макушке стволу стукал дятел, свесив свой длинный, сизо переливающийся хвост. Хорошо были видны под красными надбровьями круглые, в жёлтых обводах глаза. Нельзя было не заметить воронёное долото клюва.
Я загляделся, даже не заметил, как неподалёку, накренясь к овражине, к тому окошечку, что отдышал незамёрзший ручей, тяжело валилась ровная, без единого сучочка берёза. И только когда она окунула свою макушину в глубокий сугроб, я оторвался от дятла и увидел отца, стоящего у обмятого, свежо круглящегося пенька. В его руках воронела опущенная одним концом к шерстяным, перевитым мочальными верёвками онучам, остро блеснувшая своими зубьями пила. Увидел я и мать, смотрящую на поваленную берёзу. Я не мог не заметить выражения отцовского лица, оно победно торжествовало. Не торжествовало, скорбно-скорбно кручинилось лицо матери. Короток зимний день, короток он и тогда, когда начинает прибывать. Мать почему-то пугалась приближающейся сумеречи, говорила отцу:
– Да мы что, ночевать здесь будем…
Отец молчал, но было видно, что он сердится потому, что моя родительница не могла без передышки тыкать пилу, не могла приноравливаться, а отцу хотелось, чтоб всякий рез был без зажима, без сучка, без задоринки.
– Арсенька! Иди сюды. – Брат бросал топор, подбегал к комлю ещё не поваленного дерева, выхватывал из рук матери ручку пилы. А мать начинала злиться.
– Что я, пилить не умею? – обижалась она.
Дотемна, шершаво шамкая, кромсала белые тела берёз остро наточенная и умело разведённая пила.
– Месяц взошёл, – не знаю кому, скорее всего угрюмо притихшему лесу, сказал я, глядя на небо, на его сумеречь.
– Гришенька, поедем домой. Завтра ведь праздник. Новый год.
Отец не внемлет ласково сказанным материнским словам, но он торопится, он хватает ровно распиленные плахи, складывает их меж двух заматерелых берёз.
– Ты всё ворон ловишь, – походя, не глядя на меня, говорит отец.
А я ворон не ловлю, я всё ещё смотрю на месяц, он – когда он народился? – на переставшем сыпать свои снежинки, чистом-чистом небе.
Неохотно выпускаю из широко открытых глаз светлое шильце месяца, хватаюсь за плаху, стараюсь приподнять, но не приподниму.
– Ты что делаешь? – набрасывается на меня не на шутку напуганная моим усердием мать, – Ты же надорвёшься!
Может, от материнской жалости, а может, от обиды я ощутил на щеке прикосновение, нет, не месяца – неожиданно набежавшей слезы.
Из лесу никто не уезжает с пустыми санями, четыре толстых-толстых комля отец без чьей-либо помощи уложил на вязки освобождённых от сена (сено дожёвывал Гнедок) розвальней. Поверх комлей была положена тонкая, с загибом на конце, плашка.
Брат Арсений ловко продел в кольцо дуги, подвязал поперечники, нижний и верхний, а отец взял в руки вожжи. Он предложил мне сесть на воз, но я не сел: обогнав тронувшегося Гнедка, побежал в гору, на опушину околдованного ранним сном леса. Думается, я быстро бы взобрался в гору, достиг опушины, но неподалёку в темени одинокой, широко раскинувшейся сосны раздался устрашающий хохот. И даже не хохот – какое-то хохочущее рыдание, плач. Я опрометчиво бросился назад и чуть не попал под копыта Гнедка.
– Ты что?! – всполошась, спросила мать.
– Совы напугался, – проговорил отец.
Слова отца немного успокоили, в какой-то мере уняли мой страх. И всё-таки я не думал, что сова может плакать так ужасающе. Можно было предположить, что это хохотал леший. Я ведь довольно долго все сказки, все рассказы о домовых и леших воспринимал как неопровержимую правду.
Ждал: может, снова раздастся рыдающий хохот. Не раздался.






