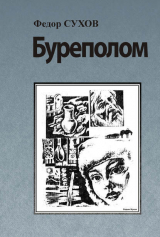
Текст книги "Буреполом"
Автор книги: Федор Сухов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Святки? Что за Святки? Откуда взялись эти Святки?
– А хто их знат, откуды они взялись, – так отвечала Марья Петровна, единственная дочь моего деда, она пришла из Великовского, пришла, как сама сказала, на Святки, но что такое Святки, сказать не могла. – Ты лучше спроси у дедушки.
Я спросил.
– Бесовское наваждение, – сердито проворчал дед.
Я покаялся, что обратился к деду, рассердил его своим любопытством.
Последователи Аввакума ревниво ограждали свое древлее благочестие не только от нововведений патриарха Никона, но и от пережитков язычества. Ежели мирская церковь уживалась с языческими атрибутами, приспосабливала их в угоду христианскому вероучению, христианской обрядности, то древлее благочестие противилось всему, что не соответствовало догмату некогда воспринятого православия.
– Ты в лавку-то ходил? – осведомился забравшийся на свои полати, видать, немного прихворнувший дед.
Я не ходил в лавку, я не хотел тратить свой гривенник на конфеты и на пряники. Хотелось купить железные коньки, такие, какие видел в Великовском на ногах одного сопливого пацана.
– Сходи, купи бабушке чаю.
Вот тебе и коньки!
Вышел на улицу. От обилия уже повернувшего на лето, но все еще студеного солнца заломило глаза. Я забыл сказать, что на зиму пять окон нашего полудомка (три по лицу и два по левой продольной стене) запележивались, забивались досками до верхней крестовины одинарной рамы, а за доски – набивалась веяная мякина (полова), все это делалось для тепла. Тепло как-то держалось, но мало проникало света. В избе всегда было темно, сумрачно, потому-то и заломило мои глаза. Требовалось какое-то время, чтоб без всякой ломоты оглядеть заваленную снегом улицу. На снегу алмазно-остро блистало, может быть, то самое лето, на которое повернуло солнце (солнце – на лето, зима – на мороз). Мороз особо давал о себе знать, зажатый в моей правой руке гривенник сразу охолодел. Тут-то я и пожалел, что забыл надеть связанные из овечьей шерсти варежки. Хотел было вернуться домой. Не вернулся, до лавки не больно далеко. Засунув обе руки в дырявые карманы ветхого пиджачишки, я выбрался на середину улицы, ступил на укатанную полозьями саней, заваленную конскими шевяками дорогу.
Лавка (кооперация) помещалась в кладовой Филимоновны, седой, согбенной прожитыми годами, совсем не деревенской, по виду приехавшей из города старухи. Продавцом (приказчиком) в лавке сидел Илья Филинов, младший сын Петра Степаныча Филинова, приятеля моего деда.
Илья Петрович сразу заметил меня, спросил: зачем я пришел?
– За чаем.
– Кому?
– Маме старой (так я звал свою бабушку).
– Спой песню.
– Какую?
– Любую.
И я спел.
Баба сеяла, трусила,
Ногу муха укусила,
Баба думала: клоп,
По ноге ладонью хлоп!
Илья Петрович мотнул головой, я пел не так, как бы ему хотелось, но в нашем доме никто не произносил непечатных слов, даже отец никогда не ругался.
– Поругай мать.
Не помню – ругал я свою мать или не ругал, допускаю: ругал. Допускаю потому, что дед, бабушка с самого раннего возраста внушали мне, что мать моя – не моя мать. Остроушка, молодка, беглянка – вот те прозвища, которые надолго прилипли к моей матери. Ее не любили, не любил ее и мой отец. Почему? По какой причине? Я уже говорил, что родительница моя была из бедной семьи. Росла без отца. Замуж вышла не по своей воле, ее просватали. Просватали в шестнадцать лет. Жизнь не складывалась, и не могла сложиться. В том доме, где предстояло жить моей родительнице, жило четырнадцать душ: дед отделил только старшего сына да выдал дочь, все остальные сыновья со своими женами и детьми ютились под одной крышей, по которой когда-то по-кошачьи ловко лазил Егор Петрович, тот самый, что не преминул заглянуть в кладовую Филимоновны, наверное, соскучился по Илье Петровичу, своему единомышленнику.
– Ты чего здесь топчешься? – спросил меня дядя, спросил просто так, от нечего делать.
– За чаем пришел.
– За чаем… А не за конфетами?
Я замотал головой, великоватый малахай прикрыл мне глаза. Какое-то время я ничего не видел и не ожидал, что кто-то стащит с меня этот малахай, положит его на прилавок.
– Клади.
– Чего?
– Конфеты.
Егор Петрович, это он надумал облагодетельствовать меня, он попросил Илью Петровича «отпустить» пусть дешевеньких, но всегда желанных конфет.
От радости я забыл, что мне нужно купить чаю, с малахаем в руках вылетел из кладовой. Поначалу не ощущал того мороза, что именовался рождественским, я даже приостановился, оглядел широко раскинувшийся, осыпанный остро искрящейся кухтой, волшебно охрусталевший вяз, мне показалось, что я в каком-то сказочном царстве-государстве. А тут еще конфеты в малахае!
Повторяю: я не ощущал мороза, я был блаженно счастлив, но счастье так хрупко, что уберечь его трудно, взрослые люди и те не в силах уберечь. Бабушка, мать моя, бабушки и матери моих сверстников всякий раз оплакивали свою долю, свое загубленное счастье.
Без всякого сомнения, я бы мог благополучно возвратиться домой, возможно, с прихваченными морозом ушами или с закоченевшими руками, но случилось так, что домой я возвратился с обильными, сосульчато застывающими на щеках слезами.
Святошники, я их увидел издалека, увидел тогда, когда распрощался с вязом, когда впритруску бежал к своей кладовой. Надо бы уторопить свой бег, но я не уторопил, захотелось – лицо в лицо – встретиться с этими святошниками, с ряжеными, как их еще у нас называют.
Лицо в лицо, не знаю, какое у меня было лицо, но, думаю, какое-то лицо было, были длинные, усыпанные неслышно упавшими снежинками, темно-русые волосы… Что касается идущей навстречь оравы, тут я ничего похожего на человеческий облик не увидел. Я видел, как, подпрыгивая, змеино извиваясь, двигался накрытый конусообразным, свитым из полосатой бумаги колпаком паяц, он вроде бы не заметил меня. Не заметил меня и тяжело движущийся на медной цепи медведь. Медведь был в овечьей шкуре, был и черт, с рыжей мочальной бородой, он кинулся ко мне, намереваясь боднуть меня своими рогами. Я не на шутку перепугался, ударился в бегство, но убежать далеко не мог, увяз в сугробе. Ко мне вплотную приблизилась мочальная борода, уши ощутили холод колючего снега и прикосновение лап наклоненного надо мной чёрта, теперь я уже не мог понять, настоящего или ненастоящего… Черт этот вытащил меня из сугроба и все тёр лапами мои уши.
Домой я возвратился с красными (как петушиные гребешки) ушами и, конечно, со слезами. Дед спал на полатях, встретила меня мать. Забыл сказать: черт не взял мои конфеты, он их рассовал по моим карманам, а малахай нахлобучил на горящие от растертого снега пельмешки (уши).
– Где ты был? – допытывалась мать и, ударившись в слезы, начала причитать: – Господи, за што ты меня наказал, за какие прегрешения?
Я уже знал, осознавал, что мать живет в поставленном на кирпичную кладовую кержацком доме только ради меня, она не раз говорила, что я связал ее по рукам и по ногам, что ежели б не я, она бы и не охнула, ушла бы на все четыре стороны. Потому-то, наверное, я и чуждался своей родительницы, уходил от нее, не подозревая, что никто меня так не любил, как мать.
– Руки-то, руки-то окоченели у тебя, – говорила она, утирая концом платка крупные, как горошины, слезы, – в холодную воду суй.
Я совал (в который раз) свои окоченевшие руки в цинковое (как будто прихваченное морозом) ведро.
За плотно прикрытой, обитой «в елочку» коротко напиленными дощечками тяжелой дверью послышался топот заледеневших валенок.
– Кого нелегкая несет? – обернувшись к двери, проговорила мать.
Приподняла голову прикорнувшая на печи, чуткая ко всякому топоту бабушка.
Дверь жалобно всхлипнула, впустила в избу сперва белого медведя (бело клубящийся мороз), потом того самого медведя, которого я видел на улице, медведя в овечьей шкуре. Вошла в избу и баба-яга, в ее руках – печной заслон и мутовка.
Мать грустно – сквозь слезы – улыбнулась, она, наверное, сама была не прочь взять в руки заслон. А если не заслон, так самоварную трубу, мутовку и – притопнуть… Не притопнула, батенька такого своеволья не потерпит.
Проснулась Марья Петровна, она спала на застланной лоскутным одеялом кровати. Увидев приведенного на медной цепи медведя, перекрестилась, осенила себя крестным знаменьем.
– Так, что вы стоите? Пляшите, – пробаяла со своей печи бабушка. Она вроде бы обрадовалась приходу неожиданных гостей.
Стукнулась – не рожками – искусно выточенным лобиком о прокаленное железо печного заслона сосновая мутовка, притопнула нога в белом валенке, нога, должно быть, костяная, но так молодо притопнула, что куда там бабе-яге, никакая баба-яга не могла так притопнуть.
– Да это… Кто это? – слезая с печи, удивленно пропела и впрямь обрадованная бабушка.
Шел по улице мороз,
Отморозил бабе нос,
Баба плакала, рыдала,
Нос свой снегом оттирала,
Снег крупи-итчатай,
Снег рассы-ыпчатай.
Этот снег – как смех,
Смех рассы-ыпчатай,
Смех крупи-итчатай…
– Да это Нюрка, – отойдя от неожиданно нашедшего страха, проговорила вставшая с кровати Марья Петровна.
– Чья Нюрка?
– Наша.
– Наша Аннушка?
– Она как будто…
Ах она, она, она
Засиделась у окна,
Загороженного,
Замороженного.
Аннушка, приподняв руку, стащила с головы темный старушечий платок, потом подошла к рукомойнику, смыла с лица печную сажу, и баба-яга преобразилась, явила такую басу-красу, что мать моя потупилась, вспомнила свою басу-красу, свою так рано загубленную молодость.
– Вставай, отец приехал, – будила меня, встав на печной приступок, моя родительница.
Я приподнял голову, отца не увидел, увидел выпорхнувшую из своего окошечка кукушку. Кукушка самозабвенно начала куковать. Кукукнула девять раз, было девять часов вечера. Вспомнил святошников, потрогал натертые снегом уши, уши немножко ломило, но – к великой моей радости – они были целыми. Вспомнил гривенник, где он, куда он делся, я не мог понять. Опосля догадался: гривенник я засунул в рот… Так неужели по чьей-то злой воле он попал в брюхо? Не на шутку перетрусил: что теперь будет с моим брюхом? Хотел приободрить его рассованными по карманам конфетами, но конфет не обнаружил, дырявые карманы не могли их сохранить, рассеяли по снегу…
Глянул на кровать – подложив под ухо туго схваченную обшлагом рукава дородную руку, спала Марья Петровна. Я обрадовался. Я всегда радовался, когда кто-то подолгу гостил в нашем доме, в нашей избе, даже теленок и тот радовал, он тоже спал неподалеку от печного приступка.

В широко открывшейся двери с хомутом в руках появился брат Арсений. Хомут нахолодал, я сразу ощутил этот холод, он легко приподнимался к печи. Надел валенки, пиджак и спустился к полу, к его вытканным из разноцветных тряпок половикам.
– Тятя приехал? – обрадованно спросил я своего брата, но брат не отозвался, он приставил к кровати хомут и опять ушел на двор. Я тоже очутился на дворе.
В тусклом свете фонаря разглядел отца, его опоясанный сыромятным ремнем пиджак и обмотанные белыми – из домотканого сукна – онучами ноги. Учуял прихваченный морозом запах сосновой коры. Посредине двора стояли сани с ровно распиленными плахами – отец привез из-за Волги дрова.
Хотелось увидеть Гнедого, Гнедка, как все звали уже пожилого, много поработавшего мерина. Я знал, что Гнедок в конюшнике, а там темно. Поэтому лучше подождать утра, когда в маленькое окошечко конюшника постучится если не снегирь, так озябший воробушек.
Отец глянул на меня, но сказать ничего не сказал, он только кивнул на головки саней. На головках висели вожжи, я понял: вожжи надо смотать и внести в избу.
Я рад был, что отец заметил меня, дал мне какое-то дело. Я любил отца, но эта любовь была безответной, поэтому я готов был сделать что угодно, лишь бы заслужить, нет, не похвалы, какого-то одобрительного взгляда. Быстро смотал я веревочные вожжи, закинул их за спину, внес в тепло освещенной семилинейной лампой избы, вслед за мной с седелкой и ременными поперечниками в руках вошел брат, вошел, скользя заледенелыми лаптями, и отец, он сел на лавку, стал разматывать веревки, что красиво охомутали белые онучи.
А на столе, приподнимая до блеска начищенную крышку, пыхтел самовар, при свете семилинейной лампы он все так же похвалялся своими медалями.
Отец молчит, он завсегда молчит, редко обронит какое-то слово и то при крайней необходимости.
– А у нас Жданка отелилась, – чтоб как-то оживить безмолвно присевшего к самовару отца, пропела моя мать.
Отец глянул на огненно-рыжего, хорошо отпоенного бычка и вроде бы повеселел, вроде бы отошел от своих никому неведомых, потаенных дум.
Прошло много-много зим, от моего родителя осталось две-три фотографии, и то последних лет его жизни, и то любительские. Такие люди не думали об увековечении своего пребывания на земле. Только работа, только труд, труд не ради собственного благополучия – ради врожденной, вседневной потребности трудиться, работать. Я никогда не видел, чтоб мой отец мучился от безделья, он всегда, при любых обстоятельствах находил себе какое-то дело, даже в праздники что-то делал. Я упомянул о фотографиях, упомянул потому, что мне хочется запечатлеть, воссоздать образ вечного труженика, умельца.
Все еще пыхтел, приподнимал свою крышку поставленный на стол самовар. Бабушка крутила тронутый ядовитой зеленцой кран, наполняла ровно струящимся кипятком фарфоровые чашки с изображенными на них китайцами, потом бабушка приподнимала чайник, сдабривала кипяток круто заваренным чаем, боясь, как бы не перелить. Скупилась бабушка, чай для нее был единственной отрадой, он врачевал, грел озябшую душу.
– Гриша, тебе подлить?
– Не нады.
Отец не был избалован ни чаем, ни сахаром, как и многие деревенские мужики, мог довольствоваться одним кипятком, благо рядом стоит солоница, лежит краюха черствого ржаного хлеба. Кружка горячего кипятка из самовара и щепоть соли – вот и все то, что удовлетворит отца в родном доме. Я видел – отец очень похож на деда: крупные руки, видимо, они не случайно тянулись к железной кружке, чайная фарфоровая чашка, как яйцо, раскололась бы в таких руках. Не скажу, чтоб отец был красив лицом. Вспоминаю слова матери: «Шестнадцать лет мне было, брат Василий (тот, что упал в колодезь), крестный мой, и говорит: «Маряшка, мы ведь тебя просватали»… А я не собиралась замуж-то выходить. Я и не думала ни о каком муже. Не поверила. Думаю – шутит. Но я знала: брат не любит шутить, спросила: за кого вы меня просватали? Не сказал. Только больше посерьезнел, помрачнел. И тут-то я глаза свои в слезы утопила. Хныкать начала. Покойница мать со двора пришла, она корове сена давала. Я всеми своими слезами закричала: меня и вправду просватали? Мать молчит, ничего не бает. А опосля-то сама зачала плакать… Сколько прошло, дней десять прошло. Зимний мясоед был, третья неделя шла. На третьей-то неделе и сам жених заявился. Я как глянула и – обмерла. «Не пойду, ни за што не пойду. Бейте, убивайте, все равно не пойду!» – кричу, реву на весь свет, а меня нихто и слушать-то не хочет. Волокут в красный угол, под божницу. Крестный снимает икону, приказывает: «Целуй!» Целую икону. А раз поцеловала – молчи, не кричи. А он, жених-то мой, глядеть на меня не хочет. Глаза воротит. А глаза-то студены-студены, никакого тепла в них ко мне нету. Лоб морщит, брови хмурит. Нос как топорище выгнулся. А под носом – усы рыжие. Волосы под горшок пострижены».
Да, отец не был красив лицом, но он был красив руками, умением трудиться. Выпив не с сахаром, с солью кружку кипятка, взялся за поданный матерью клубок суровых ниток. Я сразу понял, для чего потребовались нитки – для дратвы. Весь вечер отец сучил, смолил варом эти нитки. Я тоже был занят своим делом: метал стога, сеном служили вытащенные из-под кровати льняные хлопки, телегу заменял старый-старый лапоть. Был деревянный конь – единственная купленная в балагане детских игрушек реликвия моего детства, она была украшением не обремененного всевозможными сервизами деревянного комода.
– Ты забыл, Гриша…
– Што я забыл?
– Лошадь напоить нады.
– Напою.
– Я сама напою.
Я редко слышал, чтоб так ласково разговаривала со своим суженым мать, а мне всегда хотелось, чтоб в нашем доме, в нашей избе был мир, чтоб отец и мать не ругались между собой. Я боялся, вдруг кто узнает о той нелюбви, о той неприязни, которые уж больно часто омрачали мое небо.
Лошадь напоил мой брат Арсений – «братка», как я его звал, он слез с печи, схватил помойное ведро, перелил в него из другого, чистого ведра колодезную, подогретую жарко натопленным подтопком воду и – на двор. Тогда-то я бросил метать стога, я тоже хотел было выбежать на двор, но придержала мать, она сунула в мои руки зажженный фонарь.
– Посветишь.
– Кому?
– Домовому…
Домовому я, конечно, светить не собирался, но я знал, что домовые боятся света, только в темноте они доводят до умопомрачения коней. Кони бьются о стены конюшника колоколами своих копыт. Бывает, домовые заплетают в тонкие косички конские гривы.
Я думал, что с фонарем в руках заявлюсь в конюшник без всякого сопровождения, но сзади шла мать, она зорко наблюдала за мной: фонарь-то я мог опрокинуть, мог поджечь разостланную по двору солому. С огнем-то не шутят, он без ног, но шибко-шибко бегает…
Благополучно донес я свой фонарь до конюшника, а братка – когда это он умудрился? – уже вылил подогретую воду в колоду. Гнедок сладко чмокал губами, мочил их, как в речной протоке, в выдолбленной из липы, подвешенной к бревенчатой стене колоде.
В конюшнике было тепло, оно исходило от того же Гнедка, от его дыхания, но по стенам, по пазам белел осклизший иней, повсюду виднелась обильная изморозь, и вроде не Гнедок – изморозь надышала поднявшийся под самый потолок пар. Пар этот походил на пар речной полыньи. Посреди зимы дышало лето.
– Арсенька, слазь на сушилы, – обратилась к своему пасынку моя мать, обратилась ласково, что тоже редко бывало. Мачеха есть мачеха.
– Сена скинуть? – сразу догадался мой неродной брат, он мигом по круто поставленной лестнице влетел на сушилы, разбудил спящих на насесте куриц. Послышалось их кудахтанье, а празднично разнаряженный огненный петух ни с того ни с сего запел, закукарекал.
– Што это тебя взяло? – удивилась подошедшая к сброшенному сену моя родительница.
Петух сам того не знал, поэтому замолчал, перестал кукарекать.
Ах, как обрадовался Гнедок, когда он учуял положенное в ту же колоду сено, наверное, вспомнил наши заливные поёмы, вспомнил занесенное глубоким снегом красное лето.
Возвратились в избу, я с фонарем в руках, брат с ведром, а мать с охапкой соломы, надо подостлать бычку, чтоб ему слаще спалось.
Долгие-долгие зимние ночи… Я не знаю, что со мною сталось, ежели б эти долгие ночи не скрадывались сказками деда, бабушки, а иногда и сказками матери.
Козлятушки, детятушки!
Отопритеся, отворитеся!
А я коза в бору была,
Ела траву шелковую,
Пила воду студеную.
Бежит молочко по вымечку,
Из вымечка в копытечки,
Из копытечка в сыру землю!
Причитала мать, причитала так, что я приподнимал голову, слышал тонкий голос козы, видел ее избушку, а в избушке – малых детушек, козлятушек. И вдруг:
Вы детушки, вы батюшки,
Отопритеся, отворитеся!
Ваша мать пришла,
Молочка принесла,
Полны копытца водицы!
Нет, это не коза, не ее голос, это волк, он надумал обмануть малых козлятушек. А они разгадали обман, ответили волку:
– Не матушкин голосок! Наша матушка поет тонким голоском.
И опять тоненький голосок, похожий на голос козы. Обманул волк, поел малых козлятушек…
От такой сказки хотелось плакать, но она не была бы сказкой, если бы так печально кончалась. Прелесть и великая мудрость всякой сказки в том, что добро всегда торжествует над злом, свет над тьмой.
Упаслись козлятушки, выпорхнули из брюха волка.
Обрадовался разостланной по полу, свежо золотеющей соломе неразумный бычок, он даже взбрыкнул, мотнул ушастой головой, а когда учуял поднесенное только что надоенное бабушкой Анисьей молоко, прижмурил свое большие, выпукло темнеющие глаза.
Мать моя притушила и так не больно светло горящую лампу, надо экономить керосин. Отец молча лежал на кровати, на высоко взбугрившемся, набитом соломой тюфяке. Дед лежал на полатях, тяжело вздыхал. Марья Петровна стелилась возле подтопка. Когда едва заметный язычок света совсем пропал, я примостился к разостланному теткой Марьей, пахнущему овечьей шерстью тулупу.
Не могу сказать, по какой причине я все время тянулся к ночующим в нашем доме, часто совсем незнакомым мне людям. Вот и тетка Марья, она не обращала на меня почти никакого внимания, но я взял да прилип к ее постели, к ее дыханию, а она, эта тетка Марья, положила свою руку на мою голову, стала гладить густо отросшие волосы.
– Отудобел…
– Хто отудобел?
– Ты.
Я долго не мог понять, о чем тетка Марья завела речь. Отудобить, значит, оправиться от какой-то болезни, от какой-то хвори, но ведь я не болел, не хворал…
– Хочешь, сказку расскажу.
Еще бы не хочу! Но я так много слышал сказок, что опасался повторения. Мне думалось: дед, бабушка да и мать уже пересказали все сказки.
– А о чем расскажешь?
– О горицвете.
Сказок о горицвете я не слышал. Да что это за сказка о горицвете?
– Зима лютовала, морозами страшенными грохала, такими морозами, что птицы на лету гибли. Воробушек поднимется, затрепещет крылышками и, как шевячок, упадет на дорогу али присядет на застреху, глаза зажмурит, вроде бы в сон упадет. Глупенький, не знал, видно, не ведал, што в такую студь нельзя в сон уходить. Человек и тот может загубить себя, замерзнуть, а воробей-то и подавно. Сядет на яблоньку и с яблоньки, как яблоко, упадет. В сугробине, в мятюжине замогилить свои крылышки. На што сороки и те страшились, не показывали своего хвоста. Не страшилось только солнышко, оно показывало свой лик, правда, ненадолго. Выглянет, привстанет над сугробами, над мятюжинами и – наутек, за сараи, за овины уколесит. И тогда-то знаменье небесное тремя столбами возвысится. Мороз-то еще больней расхрабрится.
«Отец, ты слышишь меня?» – «Слышу, слышу». То жена мужу так говорит, так бает. «Ты в лес-то поедешь?» – «Поеду, поеду»… Не хотелось мужику ехать в лес, но ничего нельзя поделать, нады ехать. Покоя никакого нет, грызёт и грызёт глупая баба, поедом ест. Надумала она избавиться от падчерицы, выжить ее из дому.
Собрался мужик в лес, запряг лошадь, сена наложил. А коли вожжи взял в руки, к дочери, к ее красе-басе обратился, сказал, чтоб в сани садилась. Села. А ведать – не ведает, куды конские кованые копыта застучат. Спросить бы, да не привыкла спрашивать. Молчать привыкла… Взвизгнул под полозьями в муку размолотый, расхрабрившийся морозом глубокий снег, будто стеклорез полоснул по стеклянной выбели.
«Куды ты меня везешь?» – не утерпела, спросила свого родителя напуганная огненными столпами тихонькая краса-баса. Отмолчался, ничего не сказал родитель, только, оборотясь, блеснул заледенелой слезой. Блеснуло чистой-чистой слезой и небо. Оно еще не стемнело, не смеркло. Видно было, как стая волков выходила из лесу. Попередь шел самый старый волк. Он разинул пасть и зачал выть. Выл так страшно, что лошадь придержалась, потом ее прошибло. Дымом взялась, дымом вся окуталась. Мужик кнутом стал хлестать. Хлестал, хлестал, а все без толку – лошадь ни на шаг не сдвинулась. «Што будем делать, Зорянушка?» – стал пытать свою дочь до смерти напуганный отец. Зоряна словом не обмолвилась, она сама не знала, что можно сделать, чем унять волчий вой, волчью сыть. Домой бы возвратиться, да нельзя, глупая со свету сживет. «Слезай, Зоряна, – говорит отец, – лес недалече, пешком дойдешь». Слезла с саней, глянула на отца, а отец мешок сухарей из-под сена вытащил. «Возьми», – говорит.
Взвалила Зоряна мешок за спину и подалась к лесу.
«Прости меня, доченька», – сказал на прощанье отец и опять блеснул теперича двумя слезами, из обоих глаз выкатились. Жаль нахлынула. Что ни говори, своя кровь, своя ягода. Думал, не отзовется, а она отозвалась, обернулась. «Бог простит», – сказала, сказала так, что родительское сердце запало. Знало оно: не по своей воле, по воле мачехи посредь поля свою кровь, свою ягоду оставил… Месяц народился, как петушок своим клювом проклюнулся. Кукарекнуть бы, да не может, больно мал. А она, Зоряна-то, до лесной опушины дошла. По колено в мятюжинах вязла, полны валенки снега набрала. Робко-робко светился месяц-то. И тогда-то голос послышался, стал во-прошать: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» – «Тепло, – отвечает девица, – тепло», – отвечает красная.
Мороз обрел голос-то, он вопрошал. Надумал усыпить Зоряну-Зоряницу, сном околдовать надумал, на глаза кухту да иней стал сыпать. Отяжелели глаза-то. Встать бы, да ноги одеревенели. Перемогла себя, через силу приподнялась. В глубь леса поволоклась, промеж берез двигалась. Молчали березы-то, не шумели, не стучались друг о дружку. И вроде бы дорогу уступали.
Долго ли, коротко ли, но добралась до глубокой овражины. В затишь зашла. Мешок с сухарями со спины скинула. Думать зачала: в затиши-то можно и переночевать.
«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» – теперича уже не мороз, теперича вроде бы сам лес вопрошает. «Тепло, – отвечает девица, – тепло», – отвечает красная.
А и вправду теплее сделалось. А еще сквозь лесную сумеречь избушка своим окошком засветилась. Сперва подалеку от овражины, от ее затиши.
Мысль пришла: постучусь-ка в это окошечко…
Как помыслилось, так и сделала: постучалась. Сперва потиху. На тихий стук никто не отозвался. Потом погромче, посмелее стукнула. И тогда-то стариковский голос послышался.
«Заходи», – сказал старик.
Зашла. Огляделась. Ничего подозрительного не увидела.
«Хвораю я», – признался старик, а спросить не спросил, что за человек пожаловал в его избушку. А в избушке-то шаром покати. Пусто. Один котелок у печи стоял, да две-три картошенки круглились.
«Затоплю-ка печку, – думает Зоряна, – што-нибудь сварю. Старик-то не емши, наверное, лежит».
Сходила за дровами. Затопила печь. Старик обрадовался, коли тепло услышал, коли под ним кирпич стал нагреваться.
«Отколи тебя Бог послал?» – не утерпел, полюбопытствовал одинокий обитатель лесной сторожки.
Ничего не сказала Зоряна. Не хотелось омрачать уж больно дружно запылавшие дрова. Николи не ведала, чтоб они так весело горели. Дома, у мачехи, все чадят, все дымят.
Печь истопила, картошки наварила. Старика накормила. И – спать улеглась. Сквозь сон стук услышала. В дверь кто-то стучался. Заяц стучался, погреться просился. Впустила. Отогрелся заяц, повеселел, ноздрями слышнее задышал. Вроде бы капусту учуял, глаза в подпол косил. В подполье-то и вправду была капуста. Слазила в подполье, достала капусту. Накормила косоглазого. Поблагодарил косоглазый свою благодетельницу, а опосля на волю попросился. На воле-то неделю пропадал. Не знал, что в избушку лиса заглядывала, волк заходил. А как-то раз по павечери медведь пожаловал. Надоело в берлоге-то, на огонек потянуло. Жаловался Михайло Иваныч: уж больно студена зима-то, уж больно долго тянется. Лежал на одном боку, перевалился на другой бок. И на другом боку не лежится…
А больше всего зима-то докучала птицам. Сороки, галки, вороны – все они в лесу укрывались. В лесу прятались синицы, голод их донимал. Прилетит синичка-сестричка к лесной избушке и, как льдинка о льдинку, звякнет, голос свой подаст. Выйдет Зоряна-Зоряница с полными пригоршнями раскрошенных сухарей. Сухари-то сгодились: сама кормилась и синичек кормила.
Дзинь-дзинь – звенит синичка, сперва робко-робко звенит. Как будто боится, кабы не навлечь на себя какой беды. Только беды-то поблизости не было. Зима смягчилась, перестала морозами-то грохать. Тогда смелее льдинка о льдинку зачала звенеть. Осмелела синичка-сестричка, осмелел ее голос.
Дзинь-дзинь-дзинь! – звенит синичка, звенит так, что хозяин лесной избушки с печи слез, к окошку придвинулся. В окошко уставил свою бороду.
Ростепель-то в лесу чуялась, каплюжить зачало. Все деревья воспряли духом, ожили, слышнее задышали. Березы розовыми сделались. А там, где земля из-под снега показалась, горицвет вспыхнул.
Сказка неожиданно прервалась, тетка Марья посчитала, что я не слушаю её. А я слушал, поэтому попросил продолжить сказку, досказать.
– Завтра доскажу.
– Почему завтра?
На вопрос мой отозвалась кукушка, она высунулась из окошечка и начала куковать. Кукукнула двенадцать раз. Сказала: спать пора…






