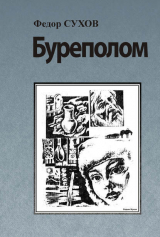
Текст книги "Буреполом"
Автор книги: Федор Сухов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Федор Сухов
Буреполом
© ГБУК «Издатель», 2017, оформление
© Сухов Ф. Г., 2017
* * *

Буреполом
Буреполом
Роман
Часть первая– Его Овдотья в мокром подоле принесла, – так баяла моя мать, когда в нашу избу заходил какой-нибудь сторонний человек, когда человек этот не мог не обратить внимания на мои полные слез глаза, на лужу, в которой я сидел среди только что вымытого, сбитого из широких тесин, оголенного пола.
– Больно хил…
Мать соглашалась, был я и вправду хил, и не было даже малой надежды, что я встану на ноги, сделаю свой первый шаг.
Трудно сказать, когда, в какую пору запечатлелся в памяти этот разговор, но мне кажется, разговор этот – самое первое восприятие человеческой речи моими младенческими ушами, восприятие неосмысленное, такое, какое бывает на втором или третьем году жизни.
Осмысленное восприятие пришло ко мне на шестом, а может, на седьмом году моего пребывания под куполом, нельзя сказать безоблачного – часто непроглядно заволоченного неба.
Мать моя – «остроушка», так звали всех баб, которые родились за Волгой, была она из бедной, многодетной семьи, сирота, отца не помнила, росла под присмотром старшего брата. И вот страшное известие – старший брат убился, упал в колодезь…
Не помню, как я попал в Великовское, в родное село своей матери, но хорошо помню длинный, выдолбленный из смолистой ели гроб, а в гробу – черная борода, она не так длинна, не прикрывает сложенных на груди, искалеченных тяжкой работой рук. Борода не страшит меня, не страшат и руки, но два положенных на глаза пятака – страшат.
– Да ты не бойся, попрощайся с дядей-то, – слова эти проплакала кривая старуха, мать моей матери, моя бабушка, которую я почти не знал. Она стеснялась своей бедности и редко навещала свою дочь, к тому же дочь она выдала за вдовца, обремененного двумя малыми детьми, восьмимесячным мальчиком и полуторагодовалой девочкой.
– Мал, ничего еще не смыслит, – проговорила другая старуха, проговорила просто так, но я приподнял опущенные под ноги глаза и уставился ими в прилепленные к гробу, плачущие тихими слезами, восковые свечи.
– Упокой, Господи, раба твоея, – размашисто крестясь, пропел седобородый, облитый черным лоснящимся сатином, крепко сбитый старик.
– Это наш настоятель, – прошептала мать только для того, чтоб я тоже размашисто перекрестился, показал свою приверженность к древлему благочестию.
Я перекрестился, я даже преодолел страх, придвинулся к тихо слезящимся свечам.
И тогда-то жена убившегося дяди, та самая Овдотья, которая, как мне думалось, принесла меня в мокром подоле, привстала со своей табуретки и слепо потянулась к смирно сложенным на груди, крепко спящим рукам.
– Отработали твои рученьки, отдержали соху-сошеньку…
Впоследствии я много слышал вопящих по своим мужикам наших русских баб, но их вопли не могли приглушить во мне впервые услышанного, потрясшего все мое существо, остолбеняющего плача укутанной в шерстяной платок нежданно-негаданно овдовевшей Овдотьи.
Отдержали соху-сошеньку,
Отпахали пашню-пашенку,
Откосили они зелены луга,
Отметали сена в высоки стога…
Ах, пойду-ко я во чисто поле,
Ах, ступлю-ко я на свой загон,
На загон на свой, на полосыньку,
Что не орана, что не пахана,
Во тоске лежит, во кручинушке,
Вопрошает она своей горечью,
Что подеялось с сохой-сошенькой,
Что-то сталось с ее пахарем?
Ах, пойду-ко я в зелены луга,
Опущу-ко я на траву-мураву
Грусть-тоску свою, свое горюшко,
Приподнимутся травы буйные,
Подойдут ко мне с укоризною,
Иссушило их лето знойное,
Белей льна стоят по угоринам,
По угоринам, по поеминам…
Глаза мои застлали слезы, и я не углядел, как был поднят гроб, как гроб этот на белых холстинах доплыл до двери, мешали мне и спины выходящих из просторной избы, понуро склоненных взрослых людей.
Горизонт детского зрения узок, он расширяется с годами, я многое не углядел, многое не увидел, я даже не видел матери.
Кинулся к двери, с трудом открыл забитую инеем дверь, скрипя промерзлыми сенями, выкатился на улицу. Широкая, утыканная кургузыми ветлами улица утопала в глубоком, кое-где запятнанном вылитыми помоями снегу. Откуда ни возьмись появилась мать.
– Ты куды? – накинулась она на мои прихваченные морозом, неутешные слезы.
Я долго молчал. А в это время размеренно, удар за ударом, звонил колокол, грустно ронял свои слезы.
Мать схватила меня за руку, и мои слезы покатились к грустно роняемым слезам.
Рано, чуть ли не с самого рождения я был приобщен к благовесту древлего миропонимания, еще не встав на ноги, на руках матери по паутри, по павечери я вбирал в себя дух каждодневно попираемого, но не попранного благочестия в нашей упрятанной на задворках моленной.
Думаю, не будет лишним, ежели я потревожу бороду протопопа Аввакума, что-то скажу о его последователях, что утвердили себя по всему Нижегородскому Заволжью, утвердили и по Приволжью, по правому и по левому берегу величавой, на удивление красивой реки. Гонимые, не имеющие права на какое-либо существование, они, последователи старой веры, выжили. Сила духа оказалась сильнее великодержавного Левиафана, эта же сила духа явила удивительное по своей целомудренности искусство: в краске, в слове, в дереве. Весь мир удивляется русской иконописи, русскому деревянному зодчеству, аввакумовскому Житию. К сожалению, современный читатель почти не знает творение братьев Денисовых, их «Поморские ответы», которые, по утверждению величайшего поэта XX века, были близки создателю новой государственности, нового мироустроения:
Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».
«Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии яко одушевлении».
Автор одного из проникновеннейших повествований, великолепной лирической поэмы не посчитал нужным уведомить читателя, что начальные строки его вдохновенного создания слово в слово повторяют начало «Поморских ответов», только кавычки, только они указывают на заимствование[1]1
Имеется в виду роман И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» (здесь и далее примечания Ф. Г. Сухова).
[Закрыть].
А я вслед за матерью протиснулся в дверь осененного деревянным крестом невеликого строения и – обомлел: на меня со всех стен уставились угрюмые лики великомучеников; в свое неполное семилетие я, конечно, далек был от какого-то понимания, но память моя запечатлела увиденное, правда, оно теперь – как давнее-давнее сновидение. Запомнился всадник на белом, тонко выточенном коне и змея под копытом коня.
Не скажу, сколько времени я пробыл под приподнятым копьем низко склоненного всадника, наверное, не так уж долго, потому что еще засветло очутился возле заледенелого, как будто обросшего седой бородой, колодца.
– Гнал он, так гнал, што, может, и не заметил этого колодца, а тут вон какой раскат-то, сани-то, раскатившись, о сруб ударились. И – вышибло человека-то… Никто не ведает, где нас смертушка-то сторожит.
– Говорят, выпимши здорово был?
– Может, был, может, нет.
– Ежели б не был, не гнал так скакуна-то…
Такой разговор услышал я, когда к колодцу подошли уж больно басенные молодицы, подошли с деревянными (как кадушки) ведрами.
– А ты-то откуды? – наклонясь к моему малахаю, вопросила одна из молодиц, та, что утверждала, что убившийся человек был выпимши.
Я упрямо молчал.
– Из Оселка он, – ответил за меня мой двоюродный брат, сын убившегося дяди, он-то и привел меня к обледенелому колодцу.
Повалил снег, повалил так густо, что нельзя было разглядеть стоящей поблизости избы. Что в такую непогодь может держать на улице? Вроде ничто, вроде надо скорее убираться домой, к теплу жарко потрескивающего подтопка, но белая магия падающего снега долго держала нас возле колодца, хотелось заглянуть в его ледяное нутро, но удерживал страх. У меня уже был кое-какой опыт в преодолении страха, я мог среди ночи выйти на улицу, мог по павечери пройти мимо кладбища, поэтому я первый отважился заглянуть в ледяное нутро. Омут черного-черного ужаса обдал меня своим жутким холодом. И тогда-то по моей спине заколотились чьи-то кулаки. И – крик:
– Ах, ты! Што ты делаешь?
Мать, она схватила меня за рукав ветхого, сшитого из домотканого сукна пиджачишка и, оттащив от колодезной бадьи, опять начала урезонивать меня своим плачущим криком:
– И тебе охота на тот свет уйти!
Мне не хотелось на тот свет уходить, не хотелось, хотя бы потому, что на том свете вряд ли есть такой снег, такая широкая улица…
Я прогулял поминки, поминальный обед, прогулял этот обед и мой двоюродный брат Иван, Вашурка, как его звали, но голодными мы не остались, опосля поминок всегда в изобилии бывает всякой снеди, и нам перепала не только одна каша, но и по большой деревянной ложке янтарного, маслянисто-тягучего меда. Опосля поминок обычно наступает какая-то неприкаянная, удручающая тишина, даже дети, даже они смирнеют, не скажут лишнего слова. Казалось бы, опосля поминок есть повод поговорить о бренности земного бытия. Но говорят, наоборот, смерть близкого человека, его уход из жизни усиливает узы этой жизни. Живые хоронят мертвых не для того, чтоб пасть в уныние, хоронят мертвых для того, чтоб через боль утраты обрести упорство в преодолении выпадающих бед, напастей, в приобретении стойкости, без которой немыслимо пребывание на этой земле, на этой планете.
– Не убивайся, Овдотьюшка, Бог не без милости…
А и впрямь не без милости, долго-долго не уходили из просторной избы убившегося Василия Иваныча его младшие братья: Алексей Иваныч, Андрей Иваныч, Михаил Иваныч, Федор Иваныч, ушел только Кузьма Иваныч, старший брат, он все время уединялся, он не выносил даже запаха (духа) сорока-градусного зелья и не возлюбил своих младших братьев за их пристрастие к этому зелью, он был уверен, что Василий Иваныч убился только потому, что не избежал пагубного соблазна, выпил и уж, конечно, сверх меры. Впрочем, меры тут не может быть, даже одна капля злосчастного пойла таит в себе погибель.
– Не убивайся, Овдотьюшка, – эти слова так часто слышались, что можно было подумать, что внезапно овдовевшая Овдотьюшка зря убивается, зря льет неутешные слезы. А она привстала со своей скамьи и, пошатываясь, прошла в чулан, к челу печи, открыла ее заслон, потом взяла в руки ухват (рогач), вытащила им большой котел (чугун) подогретой воды.
– Лошадь нады напоить, – убитым голосом просипела Овдотьюшка, она вылила из закопченного котла подогретую воду, хотела приподнять это ведро, но моя мать перехватила, ведро очутилось в ее руках.
– Тетка Марья, я сам…
Мой двоюродный брат, он уже почувствовал себя хозяином, ухватился за дужку ведра.
– А донесешь ли?
– Донесу.
Я не утерпел, слез с печи и тоже приблизился к еще неостывшему пару, что бело стоял над вынутой из печи подогретой водой.
– Ты фонарь понесешь, – так сказал мой двоюродный брат Иван, Вашурка.
Фонарь зажгла мать, тот самый фонарь, который звался летучей мышью.
– А как лошадь-то зовут? – спросил я несущего тяжелое ведро Вашурку.
– Любим.
Пожевывая, хрупая зубами сладкое, сброшенное с высоких сушил сено, он чуял, может, воду, может, наше дыхание и – приветливо заржал. Темно-серый, в крупных яблоках, не такой уж редкой в наших краях масти, он приподнял точеную, с красиво поставленными ушами голову, думается, он хотел увидеть своего старого хозяина, но, увидев двух парнишек, двух мальчишек, потупился.
– Любим… Любим…
Покосился глазами, показал яичную белизну белков, будто боковину ущербного месяца приподнял в тускло освещенной сутеми, влажными гуттаперчевыми ноздрями учуял поставленное на дощатый настил ведро, налитую в него еще неостывшую воду.
– Любим…
Любим приоткрыл рот, обнажил верхние и нижние зубы – как две подковы, было видно: темно-серый, в крупных яблоках, жеребец нервничал, наверно, потому, что валил снег. А когда валит снег, кони нервничают, не могут стоять спокойно, вообще всякая непогода воздействует на любую животину, коровы и те проявляют свой норов, когда пуржит и непогодит.
Приподнятое и опущенное в хлев ведро не успокоило темно-серого жеребца, пил он неохотно, неохотно мочил свои губы в остывающей, выкачанной из оледенелого колодца воде. Есть какая-то сила, которая вызывает усмешку у людей, спознавшихся с наукой, постигших тайну того или иного явления, но у людей, не постигших тайны даже собственного существования, эта сила сильнее всякой силы, она управляет всеми поступками, она верховодит, она незрима, неощутима. Люди науки, мужи научного миропонимания, они неопровержимо доказали, что земля вертится, они поднялись над землей, они летают по воздуху, говорят, могут долетать до иных планет, иных миров – хвала и слава им, людям научного миропонимания, но не надо пренебрегать опытом тех, которые свято верят в чудеса, в те чудеса, которые почему-то называют сверхъестественными…
– Он по тятяне тоскует, – так сказал Вашурка, мой двоюродный брат, он был старше меня на целый год, а раз старше, мог в чем-то просветить меня.
Я уже много знал сказок, но не все сказки казались мне правдивыми, особенно сказки о животных, не верилось, что медведь мог поступать, как человек. А ежели взять лису, она в каждой сказке выглядит такой смышленой, что куда там какой-нибудь настоящей Патрикеевне.
– А лошадь может плакать? – спросил я своего брата. Брат, не задумываясь, ответил:
– Может.
– Как человек?
– Как человек.
Ровно через неделю, накануне Рождества, в сочельник дядя Андрей (он жил напротив) вывел темно-серого жеребца из тесовых ворот, запятил его в оглобли легких, с подрезами, саней. На этот раз я дивился не только крупным яблокам, но и увешанному медными бубенцами ошейнику, начищенным до блеска, сразу запотевшим на морозе бляхам и расписной дуге, ее, нет, не колокольчику – большому, как пригоршни моего отца, колоколу.
– Садись, Марьяшка! – крикнул дядя Андрей стоящей на приступке крыльца, собравшейся в дорогу матери.
– Не убей нас, – сказала мать, когда вместе со мной села в подрезные, набитые сеном сани.
Трудно сказать, когда, в какое время, по всей вероятности, во времена нижегородского князя Василия (он основал Васильсурск) обжили на правом берегу Волги, на заросшем дремучим лесом высоком-высоком угоре какой-то зеленый пятачок, какую-то зеленую лядинку, судя по говору, выходцы с Владимиро-Суздальского ополья. Давно подмечено, что русские люди не любили ставить свои избы абы как. Днепр-Славутич, Волхов, Клязьма, Москва, Ока, Волга, эти реки, их берега стали колыбелью многих княжеских уделов, росли грады и веси, возвышались поначалу деревянные, впоследствии каменные храмы, писались на мореных дубовых досках лики святых великомучеников…
Монголо-татарское нашествие надолго приостановило естественное развитие всей Руси, всех ее уделов, и только сила духа, только она возвысила русского человека, побежденный возвысился над победителем, победитель не смог поработить побежденного, сохранился почти в неприкосновенности язык народа, его уклад, осталась в чистоте вера, любовь к родной земле.
Потеря языка ведет к потере национального самосознания…
Великий русский язык, язык «Слова о полку Игореве», язык летописца Нестора не деформировался, не потерял своего грамматического строя, он даже обогатился, восприняв несколько десятков слов из лексикона азиатских народов.
Красный Оселок – так назвали выходцы с Владимиро-Суздальского ополья свой зеленый пятачок. Не надо обладать особыми филологическими знаниями, чтобы разгадать этимологию счастливо найденного словосочетания: красный, значит, красивый, оселок – оселять.
К началу девятнадцатого столетия Красный Оселок удлинился, обращенные к Волге окна добротных изб, коньки на тесовых крышах радовали вольных поселян. Говорю вольных потому, что мое село – так уж случилось – не знало крепостника-помещика. В 1828 году на самом высоком месте был поставлен кирпичный храм, поставлен в честь повсеместно почитаемого Николая Угодника, храм этот удивителен по своей архитектуре, во всем простота и соразмерность, без всякого излишества…
– Задремал, Федяшка?
Я вздрогнул, приоткрыл опушенные инеем ресницы, увидел повернутые к задкам саней стеклянные усы дяди Андрея, его рдеющее – от мороза – открытое лицо. Не мог я не увидеть развалившийся сзади на две половины темно-серый зад придерживаемого ременными вожжами, как бы танцующего Любима. Увидел я в мглистой отдаленной морози и ту высокую-высокую угорину, по которой, как по днищу перевернутой лодки, растянулся мой Красный Оселок.
Не утерпел, вылез из-под тулупа, мороз сразу обжег мои щеки, но я не испугался, я вбирал в свои широко открытые глаза волшебную сказку русской зимы.
– Держитесь!
Дядя Андрей отпустил вожжи, Любим мигом двинулся вперед, полетели ошметки умятого копытами снега, наши сани быстро спустились с горы и очутились на завьюженном льду знакомого мне озера, а через каких-то пять минут сани наши прикоснулись к набитому стеклу волжского льда. Стали стукаться о чакрыги этого льда, стукались о них и подковы конских копыт. Теперь не только из пригоршней подвешенного к дуге колокола, но и из-под копыт сыпался отчетливо слышный звон. Глухо звенел колокол, тоненько-тоненько позванивал лед.
Не знаю почему, но издали даже неказистое деревце кажется каким-то чудом, особенно в зимнюю пору, когда иней стекленит каждую веточку, когда то же неказистое деревце превращается в белого-белого лебедя. Но впечатление меняется, когда видишь что-то вблизи. Усаженная яблонями красно-осельская перевернутая лодка уже не была такой сказочной, какой она казалась с великовского взгорка. Наши сани подкатились к Папорти[2]2
Слово папорть подтверждает моё предположение о давнем приходе на берега Волги моих односельчан. По моему уразумению, слово это произошло от слова папорты – лопатки плеч. Удивительно образно мыслили наши предки!
[Закрыть], как звалась корма перевернутой лодки, к моим глазам придвинулась высокая гора с одиноко стоящей сосной на ее округлой шишке.
Дядья мои (окромя Кузьмы Иваныча) были великими озорниками, такая уж природа, так говорила моя бабушка по отцу Анисья Максимовна, она ужаснулась, когда услыхала под окнами своей избы, своего кержацкого полудомка, звон поддужного колокола.
– Будто свадьба какая… Люди до звезды говеют, маковой росинки в рот не кладут, а тут…
– Што тут?! – не утерпела еще не снявшая своей шали, только-только перешагнувшая через порог мать. Она знала, что бабушка не довольна ее возвращением, зато довольна возвращением своего внука.
– Озяб, чай? – услышал я сразу изменившийся, обращенный ко мне хрипловатый голос.
А я и вправду озяб, руки совсем окоченели.
– В воду суй, в воду, – бабушка подвела меня к ведру студеной воды, взяла мои руки в свои и погрузила их в неприветливо темнеющее ведро. Не первый раз они купались в колодезной воде, но, наверное, впервые так долго не отходили, их нестерпимо ломило, и я заплакал, никто, окромя бабушки, меня не утешал.
Бабушка Анисья, она, как и мать моя, до замужества жила в Великовском, но не в такой бедной, по словам деда, а в зажиточной семье. Сама она не единожды говаривала, что они не из тех, у кого ни кола, ни двора, а у кого и двор есть, и на дворе кое-что…
В избу вошел дядя Андрей, он снял голицы, по-ямщицки заткнул их за пояс и, к великому удивлению Анисьи Максимовны, положил три поясных поклона перед божницей, перед висевшей за ее стеклами, тускло горящей лампадой.
– Говеешь ли?
– Говею, Максимовна, говею.
– Ведь нынче сочельник, люди-то до звезды говеют, маковой росинки в рот не берут…
Руки мои отошли, и я снова очутился на улице, мне хотелось взглянуть на восходящую звезду, на ту звезду, что предвещала рождение Иисуса Христа.
Сойдя с крыльца и выйдя из его двери, я не мог не глянуть на Любима, смирно стоящего под накинутым тулупом, подбирающего положенную прямо на снег охапку сена. Не утерпел, подошел к правой оглобле, тронул увешанный бубенцами ошейник, послышался звон, точно такой, какой я слышал на Волге, будто льдина о льдину стучалась…
Звезда взошла над багряным сугробом закатной зари, она сразу остро засияла, это острое сияние отчетливо выделялось на еще несвечеревшей, едва притемненной холстине по-зимнему просторного, не обложенного облаками неба.
Ударил церковный колокол, я вздрогнул, вздрогнул потому, что удар колокола показался близким-близким, показался каким-то не таким, не похожим на много раз слышанный звон, уж больно гулко, больно раскатисто рокотал подвешенный на колокольной перекладине средний колокол. Возможно, мороз, возможно, он способствовал долго неутихающему гудению потревоженной чугунным билом (языком) басовитой меди. Я видел, как срывался с недвижимо опущенных ветвей нашей подоконней березы легкий, как пух, порозовевший от зари иней. Иней падал и на рукава моего пиджака, падал не с березы – со старой-старой яблони, неслышно, как паутина, прикасался к домотканому, подбитому ватой сукну. На какое-то время я отстранился от одиноко сияющей звезды, слушал гудение колокольной меди, ее благовест, слушал не так уж долго – мороз-то не утихал, больно жег мои щеки, и если б не присевшие на застреху запележенного соломой двора – ах, какие эти прилетевшие откуда-то снегири! – если б не они, не эти снегири, я бы утопал домой, к краюхе испеченного бабушкой Анисьей подового хлеба.
Снегирей я видел и раньше (не мог не видеть), но запечатлелись они в моей памяти в ту самую зиму, в какую убился дядя Василий. Большой, как его звали.
Милые, милые птахи! Они – как крупная клубничка посреди зимы, они слетели с застрехи и рассыпались по засугробленному огороду, сходство с клубникой усилилось, только сугроб, только снег… Впрочем, и в пору лета, по паутри, когда выпадает обильная роса, огород наш матово белеет, может, вспоминает свой растаявший сугроб, свой снег.
– Федяшка! – это дядя Андрей, это он окликнул меня. Окликнул тогда, когда взял в руки ременные вожжи, чтоб под сиянием радостно взошедшей звезды возвратиться в свое Великовское.
Я вспомнил о Любиме, о его яблоках, в ушах моих зазвенели бубенцы, их звякающий смех позвал меня к легким казанским саням.
– Попрощайся с дядей-то! – подталкивая меня к белым валенкам дяди Андрея, проговорила мать, проговорила так жалостно, что мне подумалось, что и дядя Андрей может убиться, упасть в колодезь.
Я упрямо молчал. А в это время взятые в руки вожжи тронули вложенные в рот Любима железные удила. Не знаю, заметила ли моя мать, но я заметил, как укатились казанские сани, только их подреза оставили на снегу две полосы, по которым скользила взошедшая над багряным сугробом зари рождественская звезда.






