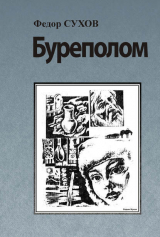
Текст книги "Буреполом"
Автор книги: Федор Сухов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Пастухи пустыни, что мы знаем?
И. А. Бунин
А и вправду, что мы знаем? Я даже не знаю, когда родился мой дед, знаю только его имя и отчество – Петр Матвеич, знаю, что Петра Матвеича все звали батенькой, одни – почтительно, другие – подсмеиваясь. Я и сам называл своего деда, нет, не батенькой – батей.
– Батя, расскажи сказку!
И батя долго-долго рассказывал о невидимом граде Китеже, о поганом хане Батые, что черной тучей надвигался на Китеж.
Рано, пожалуй, с годовалого возраста стал приобщать меня мой дед к Богу.
«Без Бога – ни до порога», – не один мой дед, все так говорили.
На третьем году я усердно клал поклоны, клал их со скамьи, клал перед завтраком, обедом, ужином. Соблюдал посты, соблюдая, ждал мясоеда. Взошедшая над багряным сугробом звезда возвещала не только о появлении зачатого Святым Духом Младенца, но и о кринке поставленного на стол молока, о сдобренной скоромным маслом каше…
А пока я терплю, говею. Дед надумал испытать меня, подошел к залавку, взял хлебальную чашку, наклал в нее творога и подал мне. Я замотал головой.
Старик умиляется, похваляется мной перед своим единоверцем Петром Степанычем Филиновым, что заглянул в наш полудомок по какой-то неотложной надобности.
– Вот он какой!
Петр Степаныч одобрительно кивает непокрытой, убеленной седыми волосами головой. А потом, как бы спохватившись, говорит:
– Пора собираться.
– Пора, Петр Степаныч, пора, – отзывается дед и, привстав с табуретки, подается к деревянному крюку, на котором висел старый, заляпанный заплатами полушубок.
Шубенный нос – такое прозвище пристало к моему деду. Почему-то оно вспомнилось мне, это прозвище…
– Ты пойдешь с нами? – надевая шубник, проговорил обожаемый мною мой старый-старый батя.
– Еще бы не пойду! Пойду.
В избе нашей, в нашем полудомке не было ничего примечательного, голые стены, щели в стенах, в щелях – черные тараканы. Одну из стен украшали старинные – с кукушкой – часы. Они как-то скрашивали действительно убогий быт, тот быт, который, казалось, ничто не могло изменить. Приверженцы протопопа Аввакума крепко держались за свой уклад жизни, избегали какого-либо украшения.
Щелкнула дверца, из маленького окошечка выглянула кукушка, кукукнув, спряталась. Потом опять выглянула, опять кукукнула. А когда замолчала, дед спросил меня:
– Сколько раз выглядывала?
– Шесть раз.
Шесть раз выглядывала кукушка, шесть раз подавала свой голос.
Шесть часов вечера, обычно в это время я залазил на полати, укладывался спать. Рано? Да, рано. Рано укладывался мой брат Арсений (не родной по матери), он старше меня на пять зим, уже ходит в училище, но с неохотой, за что не удостаивался какой-то приязни со стороны батеньки, приязнь эта вся отдавалась мне. Так уж случилось, так получилось.
Мороз усиливался, крепчал, слышнее взвизгивал снег и не только под полозьями саней, но и под валенками идущего рядом с дедом, тяжелого на ногу Петра Степаныча. И все-таки мороз не ожесточился, не злился. Не злился потому, что было тихо, ничто не шевелилось, даже снежинки и те притаились, пришипились.
Дивное диво совершилось на небе, теперь не одна, не две, много-много звезд вещали о рождении Младенца. Как ни старался я углядеть ту первую, одиноко взошедшую звезду, не углядел. Решил спросить деда, куда делась увиденная мной на закатной заре, так долго ожидаемая звезда?
Дед отмолчался, ничего не сказал.
Я обратил свои глаза на жарко освещенные, железно зарешеченные окна мирской церкви, что царственно возвышалась посреди села. Смотрел я и на поставленное в начале века приходское училище, оно светилось двумя окнами, светилось тускло, как через бычий пузырь, сказывался мороз, что холстинно прилип к хрупкому стеклу.
– А в училище-то учат?
– Учат, учат, – живо отозвался идущий по протоптанной, взвизгивающей тропинке дед, он не обращал никакого внимания на огни, но чуял мой интерес ко всему, что происходило на свечеревшем небе, на погруженной в колодезную сутемь длинной-длинной улице.
– Учат днем, – проговорил я, проговорил тихо-тихо. Я думал, что дед не услышит, но он услышал, услышав, приостановился, назидательно сказал:
– Кто плохо учится, тех и ночью учат, без обеда, без ужина оставляют.
Может, и оставляют без обеда, без ужина, но в другие дни, в сочельник, в канун Рождества, даже самых нерадивых учеников засветло отпускают по домам.
Так мне казалось, так думалось.
И как бы в подтверждение моих дум, моего уразумения под окнами стоящего супротив училища, принакрытой заиндевевшими ветлами избы послышался задорный крик тех, кто уже постиг таблицу умножения, решал немудрящие задачи.
Золотая голова,
Шелковая борода!
Ты подай пирожка
Ради праздничка Христова,
Пирожка-то хоть пресного,
Хоть кисленького
Да пшеничненького!
Отрежь потолще,
Подай побольше!
Я придержал себя, приостановился. Глазам моим привиделся пшеничный пирожок. Да и как не привидеться, ежели целые сутки я томил себя воздержанием, даже после появления на завечеревшем небе светло горящей звезды. Не прикоснулся, ну хотя бы к тем сочням, что млели в еще неостывшей печи. Бабушка предлагала, но я отказался.
Мы по ржам, по межам,
По широким рубежам
Приблудили ко двору
Генералову.
Генералов двор,
Он и тыном обнесен,
И кольцом обведен.
Посреди того двора
Стоит горенка нова.
Как на этой на кроватке
Перинушка пухова.
Как на этой на кроватке
Перинушка пухова,
Как на этой на перине
Лизаветушка-душа.
Не знаю, когда, но можно предположить: давно-давно, в огороде одного из ярых приверженцев старой веры была поставлена, нет, не изба, скорее всего, келья, точно такая, какие ставились в Заволжье по Керженцу, по Ветлуге, какие в давние времена так жестоко разорялись по повелению нижегородского митрополита Питирима.
Не так много, всего-навсего три семейства, три фамилии в нашем Красном Оселке оставались верными древлему благочестию: Филиновы, Родионовы и мы, Суховы, поэтому стоящая в огороде небольшая келья вмещала в себя всех страждущих, всех приходящих.
«Еще бы не пойду! Пойду», – я, конечно, знал, куда пойду, я уже не раз ходил в стоящую в огороде моленную. Своим угрюмым видом эта моленная (келья) должна бы пугать меня, но на своей седьмой зиме я так крепко пристрастился к пригорюненной обители, что мог выстоять наравне со взрослыми двухчасовую заутреню или вечерню.
Обогнув довольно справный, крытый железом полудомок, взвизгивающая под валенками тропинка уткнулась в приступок осененного деревянным крестом крылечка. Я видел, как дед мой обнажил голову, отвесил поясной поклон, отвесил поясной поклон и Петр Степаныч. Я хотел тоже было снять шапку, но не снял, не мог развязать затянутые под подбородком лямки. Мои оголенные руки больно жгло морозом, не утерпел, заплакал.
– Ты што, зазяб? – вопросил обернувшийся к моим слезам, весь заиндевевший дед.
– Знамо, зазяб, – утвердительно пробаил Петр Степаныч, он тоже весь заиндевел и походил на мельника.
Дед взял меня за руку и ввел в моленную. В моленной, потрескивая, жарко горели восковые свечи, горели лампады, топилась докрасна раскаленная железная печка.
– Заморозил парня-то, – обратившись к деду, укоризненно пропела накрытая пензенским платком уж больно сердобольная Матрена Степановна, жена Федора Петровича, старшего брата моего отца.
А дед, он ничего не сказал, он сам зазяб, сам потянулся к раскаленной печке, омывая ее теплом покрасневшие руки.
– Будем начинать?
– Подождать бы нады…
– А кого, чего ждать-то?
– Из Ёрзовки[3]3
Деревня, примыкающая непосредственно к Красному Осёлку, к его высокой горе.
[Закрыть] должны прийти.
– А разве не пришли?
– Не все вроде…
Такой разговор обычно происходил перед каждой вечерней, перед каждым большим праздником. Дело в том, что среди собирающихся в моленной приверженцев старой веры не было того, кто бы главенствовал, кто бы правил службу, любой мог стать к аналою и читать псалмы царя Давида, любой мог вознести хвалу и славу непорочной деве Марии…
Чаще всего к аналою подходил старший брат моего отца, Федор Петрович, человек весьма примечательный, самоуком постигший тайну Священного Писания, глубоко познавший и самозабвенно воспринявший все символы древлего, дониконовского, благочестия. Дородный, с лицом, обрамленным недлинной, прихваченной легким морозцем бородой, он и сейчас приблизил себя к аналою, поставил на него подсвечник с зажженной свечой и, раскрыв большую, в кожаном переплете, книгу, стал читать. Читал внятно, совсем не так, как великовский настоятель, и все же многие слова не доходили до моего детского понимания, они только будоражили мое воображение.
«В месяц же шестой послан бысть ангел Гавриил от Бога во град галилейский, ему же имя Назарет, к деве, обрученной мужеви, ему же имя Иосиф, от дому Давидова, и имя деве Мариам.
И вошед к ней ангел рече: «Радуйся, благословенная! Господь с тобою, благословенна ты в женах». Она же, видевши, смутися от словеси его и помысляеше, каково будет целование си. И рече ангел ей: не бойся, Мариам, обрела бо еси благодать у Бога и се зачнеши во чреве, и родиши Сына и наречеше имя ему Иисус…»[4]4
Евангелие от Луки, гл. 1.
[Закрыть].
Озаренный горящими свечами чтец приостановился, глянул на жену, на свою Матрену Степановну, а Матрена Степановна сразу поняла, что нужно делать. Подняв к закопченному (как в бане) потолку свои большие, полынного цвета глаза, благоговейно пропела: «Величаем тя, живодавче Христе, нас ради плотию рождагося, от пречистыя девы Марии»…
Долго, больше двух часов, длилось молебствие. Я не выдержал, сморился. Дед, заметив, как я сонно блукаю глазами, попросил дочь Федора Петровича, красавицу Аннушку, спровадить меня домой. Аннушка не ослушалась (не могла ослушаться, слово старшего – свято), она взяла меня за руку, подвела к двери, надела на мою голову великоватый, из зайца-русака, малахай и вывела на улицу.
Сколько было времени, наверно, время приближалось к полночи. В такую пору редко можно было увидеть свет в окошках, но в каждое окошко стучался большой праздник, а праздники издревле принято встречать трепетом священного огня, священной лампады, поэтому не было ни одного окошка без света, без его трепета. Может, потому притих мороз, не так зло хватался за щеки, зато еще ясней, еще лазурней ликовало небо. Покрупнели алмазно-чистые звезды, они, как из колодца, глядели в мою душу, они все видели, все чуяли. Если б я был один посреди улицы, посреди укатанной санными полозьями, таинственно притихшей дороги, я бы устрашился, но звезды, они проявляли какую-то участь ко всему, что делалось на заваленной глубоким снегом земле.
– Отец-то не приехал? – спросила меня подошедшая вместе со мной к нашему дому, опушенная легким инеем красавица Аннушка, моя двоюродная сестрица.
– Нет, не приехал…
А я хотел, чтоб отец мой приехал, он работал за Волгой, вывозил на своем гнедом мерине поваленный где-то под Пенякшей лес.
Аннушка оставила меня возле крыльца, она знала, что я без ее сопровождения поднимусь на крутой мост, без ее помощи открою сенную дверь, но она не знала, что я соблазнюсь ночующими за сенной дверью салазками, буду кататься на этих салазках с политого колодезной водою, заледенелого бугра.
Катался я недолго. За огородами, на гумнах заухал филин, я испугался. Убежал домой. А дома, в кути, увидел только что принесенного со двора теленка.
– Жданка отелилась, – заметив мое удивление, проговорила бабушка. – Бог бычка дал, – добавила она, когда я разделся, когда стал оглядывать взошедшую на телячьем лбу рождественскую звездочку.
Да, я не знаю, когда родился мой дед, но я знаю, когда строился наш полудомок, на железной двери его кирпичной кладовой неизвестно кем выведена красной краской четырехзначная цифра – 1876, такой же краской выведена голова и шея скакового коня. Можно догадаться, что мои родичи (по отцу и по матери) любили гривастых скакунов, со временем я поведаю об этой любви, а сейчас возвернусь к деду, к бабушке. Можно предположить, что Петр Матвеевич был обручен с Анисьей Максимовной в том самом году, когда строился полудомок, это предположение подтверждается тем, что рождение старшего сына Петра Матвеевича и Анисьи Максимовны – Федора Петровича – в случайно попавшей в мои руки бумаге обозначено 1877 годом. Второй сын Кузьма родился на два года опосля – в 1879-м, третий сын Иван в 1889-м, отец мой Григорий Петрович – в 1892-м, и последний сын Егор – в 1898-м. Была еще у Петра Матвеевича и Анисьи Максимовны дочь Мария. Когда она родилась – даже предположить не могу, знаю только, что она была старше моего отца.
К моему появлению на свет все потомство деда и бабушки жило самостоятельно, все были определены, сыновья отделены, дочь выдана замуж.
Обычно люди черпают какие-то знания из книг, из учебников истории или географии, но можно многое познать, не прибегая к книгам, к учебникам. Посмотришь на дерево, по его стволу, по его кроне без особого труда определишь породу, возраст, а если попристальней вглядишься, узнаешь, что за бури, что за молнии искалечили его макушку. То же самое с каким-нибудь селом, с каким-либо городом, пройдись по улице, вглядись в поставленные на кирпичные кладовые избы, эти избы поведают тебе о том, в какое время они ставились, возводились.
Я уже оповестил, что на самом видном месте в 1828 году была поставлена в Красном Оселке удивительная по своей простоте и изяществу кирпичная церковь. Она – как лебедушка, она готова взлететь, удерживает кладбище, вернее, кладбищенские кресты, а они придерживают белую лебедушку, умоляют ее, чтоб она не улетала…
Должен признаться: год возведения нашей красноосельской церкви я узнал случайно, в мои руки попал ее чертеж с четко поставленной датой.
Но вот и школа, наша приходская школа – училище, как называли мои односельчане добротное, неподалеку от церкви, деревянное здание. Я не видел его чертежа, его плана с той или иной датой, но не ошибусь, что оно появилось вскоре после 1905 года, когда сам царь убедился в необходимости народного образования. По кирпичному фундаменту, по листовому железу на покатой крыше, по окнам, по водосточным трубам можно узнать время постройки. Определяли его и по частным домам – обращенные своими окнами, своим лицом к Волге, они встали к училищу соломенными задами.
Добротные дома (полудомки) ставились в последней четверти XIX века, когда Россия уверенно ступила на путь преобразования, промышленного подъема. Что бы там ни говорили об отсталости Российской Империи, но Транссибирская магистраль, Туркменская железная дорога проложены русскими людьми, проложены тогда, когда Эйфелева башня горделиво возвещала о торжестве железа и стали в Европе. А железом и сталью одной Трассибирской магистрали можно было опутать всю Германию…
Цивилизованная Европа долго укоряла нас нашей русской печью, полатями, тараканами и, конечно, лаптями. Что ж, была печь, были полати, не было ни перин, ни пуховых одеял, были кирпичи, были голые доски… И все-таки я благодарно вспоминаю не только русскую печь и не только полати, но и того быстро обсохшего бычка, что стучал своими копытцами по устланному свежей соломой, только что вымытому полу.
– Как назвали? – гладя четвероногого белолобыша, с явно издевательской ухмылкой спросил рядом живущий и часто заглядывающий в родительский дом младший сын моего дедушки – Егор Петрович. Егорка голоштанный, как в глаза и за глаза звали навеки проклятого отступника не только от старой – от всякой веры, басурмана, христопродавца.
– Ты бы шапку сперва снял, – выглянув из чулана, из-за его ситцевой, усыпанной блеклыми цветами занавески, укоризненно пропела моя бабушка Анисья Максимовна, пропела и горестно притихла.
Егор Петрович спохватился, снял шапку и опять стал спрашивать, как назвали на удивление крупного, огненно-красного телка.
– Никак не назвали…
– Назовите Иисусом.
Бабушка схватила ухват и выкатилась из чулана.
– Нечистый дух, сгинь с моих глаз, не погань моей избы!
– Изба-то не твоя…
– А чья она, твоя, што ли?
– Моя.
– Господи! – воззрясь на освещенные светло горящей лампадой древние, дониконовского письма, образа, слезно взмолилась ошарашенная неслыханным богохульством сердобольная старуха. – Господи!.. – повторила она, – за какие прегрешения наказал меня? Ежели б я знала, ежели б я ведала…
– А разве ты не знала?
– Што я знала? Ничего я не знала.
Не знала Анисья Максимовна, что ее последыш, встав на ноги, пойдет не по тому пути, не по той дороге. Да и кто мог знать, неисповедимы пути Господни…
А и в самом деле, неисповедимы всякие пути, всякие дороги. Помыслить страшно: от Бога отступился? Без Бога – ни до порога. Пословица-то не зря бается, не зря говорится.
«Темнота» – так Егор Петрович отзывался обо всех, кто держался за старину, за религиозные каноны, особо потешался над старой верой, к которой он сам когда-то принадлежал, сам когда-то ходил в моленную, читал тропарь и другие священные книги.
Как же так произошло, почему человек так легко расстался с тем, что для многих людей составляло сущность всей жизни?
Без всякого домысла, следуя непомерной в моей памяти житейской правде, постараюсь запечатлеть типичный для своего времени еще один облик «борца» за новые идеалы, за новое миропонимание.
«Бедовый был, дом-то вон у вас какой высокий, а он залезет на крышу да и ходит по коньку, не то в трубу зачнет кричать, Онисью, бабушку твою, пугал. Сколько раз в колодезь залазил, спустит бадью, а опосля по цепи сам спустится. На звезды из колодезя-то глядел, рассказывал, какие звезды посреди дня видел. Крупные, как яблоки. Озорник был. Но учился хорошо. Схватывал все быстро, с похвальным листом училище-то закончил. Нады бы дальше учиться, а дедушка твой воспротивился, не пустил. Тогда-то он и убежал из дому, долго на барже плавал. Вскорости война зачалась. В войну-то я не знаю, где он пропадал. Знаю только, коли подошло время призыва, дома его не было. Меня-то призвали, а его дезертиром признали. Домой заявился, когда царя свергли. И опять – временные власти меня призвали, а его почему-то дома оставили. Што он делал дома, мне неизвестно, будто советскую власть устанавливал. Может, и устанавливал, я не знаю. Я супротив Колчака воевал, домой заявился по окончании гражданской войны, в пору продразверстки. Через год оженился. Оженился и Егор Петрович, невесту он взял из Кременок[5]5
Село на правом берегу Волги, недалеко от Красного Осёлка.
[Закрыть], взял не по вере. Тогда дедушка-то твой и проклял его, анафеме предал».
Так рассказывал мне наш сосед Михаил Федорович Туманин, рассказывал незадолго до своей смерти.
«Следуя житейской правде», – эти слова мои вряд ли можно воспринять без оговорок. Кто подтвердит, что я говорю сущую правду? Вот ежели б жива была моя мать, она что-то бы сказала, что-то подсказала.
– Ты, чай, помнишь, как он иконы-то в колодезь побросал, – сказала бы мать и тяжело б вздохнула.
Как не помнить! Хорошо помню, как влетела в нашу избу жена Егора Петровича, дородная Овдотья (не она ли принесла меня в мокром подоле?), как эта Овдотья прямо с порога ошарашила сидящую за светло начищенным самоваром Анисью Максимовну:
– Жулик-то, жулик-то иконы утопил!
Бабушка долго не могла сообразить, что произошло, она могла воспринять конец света, но, чтоб кто-то утопил сгребенные с божницы медные, дониконовского литья иконы, такого богохульства и представить невозможно.
– Ты што, што ты буровишь? Святые образа нихто не в силах осквернить. Господь не потерпит!
Я видел, как мой старший брат Арсений в одной рубашонке, без шапки выскочил на улицу. Я тоже слез с полатей, тоже в одной рубашонке хотел было выскочить за дверь, добежать до колодца, заглянуть в него, дабы узнать, что сталось с иконами, но на пороге столкнулся с дедом. Дед, отстояв заутреню, возвратился из моленной, он стащил с головы старенький малахай и, ступив на половик, стал класть поклоны. Встала из-за стола бабушка, она тоже начала креститься. А я растерялся, я встал пообочь деда, возле его усыпанных еще нерастаявшими снежинками, изрядно поношенных валенок, стоял недвижимо, мне было жалко брошенных в колодезь икон. Но я верил, что иконы не утонут, они ведь святые…
– Поздравляю вас всех, тебя, Овдотьюшка, тебя, Онисьюшка, – дед глянул на печь, но никого не увидев на печи, на какое-то время прервался, потом благоговейно, с прослезившимся умилением повторил свое поздравление: – Поздравляю всех вас с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!
Бабушка приблизилась к божнице, празднично горящей лампаде и – пала на колени. А я почему-то глянул на огненно-красного бычка, мне подумалось, что есть какое-то сходство между Святым Младенцем и отмеченным той же Вифлеемской звездой, недавно народившимся телком, оба появились на свет в коровьих яслях…
Кто-то открывал дверь и никак не мог открыть. Думалось: старший брат Арсений, думалось: он напрягает свои силенки, но дверь открылась, через ее порог перешагнуло две пары лаптей и три пары валенок.
– Слава тебе, Христе Боже наш, – не в лад, но чисто-чисто, так, как могут причитать только детские голоса. Они и причитали, они и славили рожденного в коровьих яслях Младенца.
Дед не поскупился, двум мальчикам, что были в лаптях, дал по гривеннику, а трем девочкам, что были в валенках, – по пятаку.
– Вы чьи будете? – спросила бабушка, но ответа не дождалась.
Открылась дверь, по вымытому полу, бело клубясь, пополз мороз, он прикоснулся к смирно лежащему бычку, лип к его губам, потом дверь, скрипя, затворилась, прищемила приподнявшийся хвост нахально влезшему в избу морозу.
Анисья Максимовна уж больно любила почаевничать, посидеть за самоваром, но то, что она услышала от своей невестки, от дорогой Овдотьюшки, отбило не только от чая, но и от желания что-то сказать. Посредь белого дня свечерела Анисья Максимовна, омрачила свой светлый праздник, зато Петр Матвеич благодушно снял полушубок, пригладил редкие волосы, тронул тоже редкую бороду, обычно он не обращал внимания на свою старуху, на ее поведение, а тут взял да и спросил:
– Ты што, Онисья, захмурела? Грех в праздник Бога гневить.
– Я не гневлю…
– Кормила ли внука-то?
– Сейчас ватрушку подам, пущай ест.
Бабушка метнулась к печи, взяла в одну руку сковородник, другой открыла заслон, и через какую-то минуту на столе, румянясь запёкшимся творогом, духмяно дышала та самая ватрушка, которая так радовала все моё существо, я ведь шесть недель говел, шесть недель не брал в рот скоромного, довольствовался сухарями да похлебкой.
Помыл руки и – долго-долго молился, шептал вошедшие в мою детскую память молитвы.
Дед не переставал восхищаться моим усердием, он даже прослезился – от умиления.
– Овдотьюшка, ты видишь?
– Вижу, батенька, вижу, – отвечала сидящая у подтопка, убитая неслыханным богохульством, несчастная женщина.
Я быстро набил свое брюхо зарумянившейся, разрезанной на крупные куски ватрушкой и хотел вылезть из-за стола, но дед придержал меня.
– Ешь досыта.
– Я наелся.
– И впрямь наелся, – заголив подол моей рубахи и похлопав по животу, удовлетворенно проговорил мой благодетель и тут же вручил гривенник, сказав, чтоб я шел в лавку и купил себе конфет и пряников.






