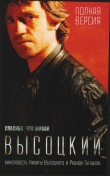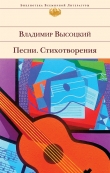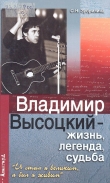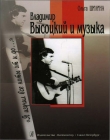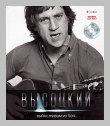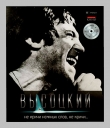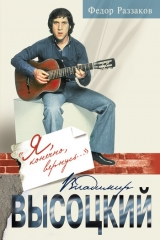
Текст книги "Владимир Высоцкий. По лезвию бритвы"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
1970 год
Начало нового, 1970 года повторило печальную судьбу всех предыдущих лет: в канун своего дня рождения Владимир Высоцкий напился до такой степени, что устроил в квартире настоящий погром. После него Высоцкий виновато каялся Валерию Золотухину: «У меня такая трагедия… Я Марину вчера чуть не задушил. У меня в доме побиты окна, сорвана дверь… Что она мне устроила… Как живая осталась…»
К счастью для Высоцкого, его очередное «помешательство» закончилось довольно быстро, и январь для него завершился серией концертов, один из которых он дал в НИИ на 2-й Фрунзенской, на той улице, где они с Мариной Влади снимали тогда квартиру. В целом же этот год, в отличие от «застойного» прошлого, с точки зрения концертной деятельности для Высоцкого пройдет более активно – он даст 30 концертов, и география его поездок проляжет от Москвы до Чимкента и Усть-Каменогорска.
К этому времени подоспел и развод с Людмилой Абрамовой. Сама Л. Абрамова об этом вспоминает так: «Мы ведь действительно с Володей по-хорошему расстались… У нас не было никаких выяснений, объяснений, ссор. А потом подошел срок развода в суде. Я лежала в больнице, но врач разрешил поехать. Я чувствовала себя уже неплохо. Приехали в суд. Через пять минут развелись… Время до ужина в больнице у меня было, и Володя позвал меня на квартиру Нины Максимовны. Я пошла. Володя пел, долго пел, чуть на спектакль не опоздал. А Нина Максимовна слышала, что он поет, и ждала на лестнице… Потом уже позвонила, потому что поняла – он может опоздать на спектакль.
Когда я ехала в суд, мне казалось, что это такие пустяки, что это так легко, что это уже так отсохло… Если бы я сразу вернулась в больницу, так бы оно и было…» Это февраль семидесятого года…
Весной того же года Л. Абрамова познакомится с Юрием Овчаренко, за которого вскоре выйдет замуж. Весной 1973 года у них родится дочь Серафима…
В феврале 1970 года Театр на Таганке переживал не самые спокойные свои дни. Поводом к новым нападкам на него со стороны властей стал спектакль «Берегите ваши лица». В связи с его премьерой 1-й секретарь ЦК КПСС Виктор Гришин написал в Общий отдел ЦК КПСС письмо под грифом «Совершенно секретно». В нем он писал:
«Московский театр драмы и комедии показал 7 и 10 февраля с. г. подготовленный им спектакль «Берегите ваши лица» (автор А. Вознесенский, режиссер Ю. Любимов), имеющий серьезные идейные просчеты.
В спектакле отсутствует классовый, конкретно-исторический подход к изображаемым явлениям, многие черты буржуазного образа жизни механически перенесены на советскую действительность. Постановка пронизана двусмысленностями и намеками, с помощью которых проповедуются чуждые идеи и взгляды (о «неудачах» советских ученых в освоении Луны, о перерождении социализма, о запутавшихся в жизни людях, не ведающих «где левые, где правые», по какому времени жить: московскому?) Актеры обращаются в зрительный зал с призывом: Не молчать! Протестовать! Идти на плаху, как Пугачев! и т. д.
Как и в прежних постановках, главный режиссер театра Ю. Любимов в спектакле «Берегите ваши лица» продолжает темы «конфликта» между властью и народом, властью и художником, при этом некоторые различные по своей социально-общественной сущности явления преподносятся вне времени и пространства, в результате чего смазываются социальные категории и оценки, искаженно трактуется прошлое и настоящее нашей страны.
Как правило, все спектакли этого театра представляют собой свободную композицию, что дает возможность главному режиссеру тенденциозно, с идейно неверных позиций подбирать материал, в том числе и из классических произведений…
21 февраля 1970 года бюро МГК КПСС, рассмотрев вопрос «О спектакле «Берегите ваши лица» в Московском театре драмы и комедии», вынесло взыскание начальнику Главного управления культуры исполкома Моссовета тов. Родионову Б. Е. за безответственность и беспринципность, проявленную при выпуске спектакля…»
Но драматические события вокруг родного театра, кажется, мало волновали Владимира Высоцкого. В том феврале 70-го он дал всего два концерта в Москве и вновь ушел в загул. Январский разрыв с Влади и новые друзья-собутыльники, которые периодически появлялись возле Высоцкого, сказывались на его образе жизни. Дело вновь дошло до госпитализации, и в середине марта Высоцкий лег в больницу. И опять он полон надежд на успех лечения: он сменил больницу, врачей (прошлые, подпадая под его влияние, пили вместе с ним), принимает новое эффективное лекарство. Лечение с перерывами длилось до середины мая и, кажется, привело Высоцкого в равновесие. В театре приступили к репетициям «Гамлета», а Высоцкий давно буквально бредил этой ролью. Ради успеха в ней он готов был пойти на любые жертвы и воздержания. В июне к нему вернулась Влади, и это событие прибавило уверенности Высоцкому. Он приступил к репетициям «Гамлета», хотя ввод в эту роль для него был сопряжен с массой трудностей и всевозможных проблем. Сам Высоцкий об этом вспоминал: «У меня был совсем почти трагический момент, когда я репетировал «Гамлета» и когда почти никто из окружающих не верил, что это выйдет… Были громадные сомнения – репетировали мы очень долго, и если бы это был провал, это бы означало конец – не моей актерской карьеры, потому что в этом смысле у нас намного проще дело обстоит: ты можешь сыграть другую роль, – но это был бы конец для меня лично как для актера: я не смог этого сделать! К счастью, этого не случилось, но момент был очень такой – прямо как на лезвии ножа, – я до самой последней секунды не знал, будет ли это провал или это будет всплеск…»
Говоря о тех, кто сомневался в нем как в Гамлете, Высоцкий имел в виду и главного режиссера Таганки Юрия Любимова. И надо сказать честно, что уставший от постоянных срывов Высоцкого, от его бешеных загулов Любимов вполне имел право на эти сомнения. Переживая все это, Высоцкий писал Марине Влади в письме от 25 мая: «Любимов пригласил артиста «Современника» (Игоря Квашу) репетировать роль параллельно со мной. Естественно, меня это расстроило, потому что вдвоем репетировать невозможно – даже для одного актера не хватает времени. Когда через некоторое время я вернусь в театр, я поговорю с «шефом», и, если он не изменит своей позиции, я откажусь от роли и, по-видимому, уйду из театра. Это очень глупо, я хотел получить эту роль вот уже год, я придумывал, как это можно играть… Конечно, я понимаю Любимова – я слишком часто обманывал его доверие, и он не хочет больше рисковать, но… именно теперь, когда я уверен, что нет больше никакого риска, для меня эта новость очень тяжела. Ладно, разберемся…»
В тот год состояние нервного возбуждения, балансирования на лезвии ножа преследовало Высоцкого не только в театре. По Москве в связи с его официальным разводом со второй женой поползли новые слухи о том, что Высоцкий собирается «съезжать» за границу. Ответом на все эти слухи явилась песня «Нет меня, я покинул Расею», которая заканчивалась весьма лаконичными строчками:
Не волнуйтесь, я не уехал!
И не надейтесь, я не уеду!
Тогда же вновь обострились отношения Высоцкого с родителями. Он писал в Париж Марине Влади: «Я позвонил матери, оказалось, что сегодня она ночевала у одной из моих знакомых с радио. Могу представить себе их разговор!.. Идея все та же, чтобы люди знали, «какая она исключительная мать» и т. д. Она могла пойти как минимум в пять мест – к родственникам, но она пошла к моим «друзьям», бог с ней!.. Я сегодня злюсь, потому что к тому же она снова рылась в моих бумагах и читала их».
В том году на 40-м году жизни от рака умер один из ближайших друзей Высоцкого по Большому Каретному Левон Кочарян. Сняв всего лишь один фильм «Один шанс из тысячи» (1969), он так и не сумел ухватить этот шанс в собственной жизни и угас преждевременно.
На его похороны пришло огромное количество народу, так как люди любили его за веселый нрав и хлебосольство. Высоцкий на эти похороны не пришел. После этого случая большинство его старых друзей отвернулись от него. М. Туманишвили вспоминает: «Когда Лева Кочарян попал в больницу, мы не просто приходили и навещали его – мы его похищали… То домой, то в шашлычную… Лева все время спрашивал: «А где Володя?» А Володя в больницу так и не пришел… Лева это жутко переживал… А Володя все не приходил и не приходил – я думаю, поэтому он и не пришел на похороны. В этом тоже, как мы тогда считали, был элемент предательства.
И мы не общались с Володей до 73-го года, причем вообще не встречались. На концерты мы его не ходили, я, например, не был ни на одном концерте Высоцкого…»
Даже с самым старым и верным другом И. Кохановским у Высоцкого отношения вконец испортились. Вспоминая об этом, А. Н. Чердынин пишет: «Между ними пробежала кошечка – причем не серая, а черная… Володя переживал этот разрыв… И не потому, что был виноват, – нет! Он переживал сам факт разрыва. Ведь Володю и Гарика связывала очень давняя дружба, их очень многое связывало…»








Что тогда творилось в душе у В. Высоцкого после стольких разрывов с близкими ему людьми, знал только он один. И порой отчаяние от таких поворотов судьбы выплескивалось у него на бумагу.
Ох, сегодня я отмаюсь,
Эх, освоюсь!
Но сомневаюсь,
что отмоюсь!!
(1970)
20 апреля 1970 года, не дожив трех дней до своего 43-летия, умер замечательный советский актер театра и кино Павел Луспекаев, бывший коллега Изы Высоцкой по Киевскому театру. Луспекаев умер преждевременно, не успев сыграть и малой доли тех ролей, о которых мечтал и на какие был способен в силу своего яркого и многогранного таланта. Многим в своей артистической и человеческой судьбе они были схожи с Высоцким: тем, что тяжело уживались с высоким начальством, не шли наперекор собственной совести, часто бывали одиноки, окруженные не друзьями, а собутыльниками.
28 июня, заполняя в Театре на Таганке анкету, Владимир Высоцкий, отвечая на вопрос: «Что тебя огорчило в последний раз?», ответил коротко: «Все!» Внутреннее состояние Высоцкого в те дни было не из лучших.
Кинематограф в тот год ничем не порадовал Владимира Высоцкого, если не считать утверждения на роль Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «Двенадцать стульев». Но, пройдя утверждение, Высоцкий роль не сыграл.
Высоцкого утвердили на эту роль после того, как не заладились дела у первого исполнителя роли Бендера Александра Белявского. Но, уже отснявшись в первых съемках, Высоцкий, по словам самого Л. Гайдая, «ушел в подполье» очень надолго. Поэтому, не имея возможности ждать того момента, когда Высоцкий из подполья выйдет, режиссер от него отказался и в конце концов нашел нового исполнителя – Арчила Гомиашвили, который с этой ролью справился блестяще.
Невнимание к себе со стороны кинематографа Владимир Высоцкий в тот год компенсировал концертной деятельностью и песенным творчеством. В тот год им было написано в два раза больше произведений, чем в предыдущем году, – более 45. Среди самых известных и популярных: «Товарищи ученые…», «Горизонт», «Песня певца у микрофона», «Иноходец», «Беда».
Между тем страна входила в новое десятилетие, и до принятия очередного антиалкогольного постановления оставалось около двух лет. Взамен 3,9 литра алкоголя, что советские люди принимали в себя в 1960 году, в этом году это количество выросло до 7,6 литра, чтобы через десятилетие достигнуть отметки в 8,7 литра!
В марте 1970 года советский писатель Венедикт Ерофеев после трех месяцев творческих мук родил на свет самое знаменитое свое творение – поэму «Москва – Петушки». Как писал позднее А. Генис: «В поэме нет ни одного слова, сказанного в простоте. В каждой строке кипит и роится зачатая водкой небывалая словесная материя… Клинически достоверная картина описывает лишь внешнюю сторону опьянения. Есть и другая – глубинная, мировоззренческая, философская…
Многие оправдывают пьянство Ерофеева его страданиями. Между тем водка – суть и корень ерофеевского творчества».
К этому времени Леонид Брежнев, пройдя через неудачную попытку покушения на него в начале 69-го и попытку его свержения командой Суслова в декабре того же года, окончательно укрепился на кремлевском Олимпе. Начиналась эра «брежневизма», и пропагандисты всех мастей уже точили свои перья, чтобы воспеть подвиги и свершения «дорогого и любимого Леонида Ильича». От несогласных старались избавиться.
В феврале 1970 года вынужден был уйти со своего поста главный редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский. После скандала в горкоме партии с инфарктом свалился Аркадий Райкин. Когда его в больнице навестил актер Театра на Таганке В. Смехов, Райкин с грустью произнес: «Если я от одного крика так сломался, то кем же надо быть Юре Любимову, чтобы по три раза в год такое выдерживать?»
28 мая 1970 года получил инфаркт и пенсионер союзного значения Никита Хрущев, доведенный до этого «заботливым» вниманием к своей персоне со стороны своих бывших товарищей со Старой площади. «Товарищи» обвинили его в продаже на Запад собственных мемуаров. 11 ноября многострадальный Н. Хрущев был вновь вызван в ЦК КПСС, где ему опять было предложено немедленно отречься от своих мемуаров, вышедших на Западе. Хрущев ответил достойно и вновь ушел, хлопнув дверью. Результатом этого стал еще один микроинфаркт. Личный повар Н. Хрущева Анна Дышкент, вспоминая события тех дней, рассказывала: «Никита Сергеевич с охранником вернулись из Кремля часа через два, Хрущев бледный, как полотенце. Лег на диван, плохо с сердцем. Вызвали «Скорую». Пока врачи не приехали, он все время повторял: «Ничего я не продавал. Чего они от меня хотят, сволочи?» Охранник мне тихонько пояснил: «Они его насчет мемуаров вызывали. Он так кричал, в коридоре слышно было».
Кто-то в тот год падал от инфарктов, а кто-то устраивал свою личную жизнь, вкушая все ее прелести. В середине сентября Галина Брежнева, придя с подругами поужинать в ресторан Московского Дома архитекторов, что на улице Щусева, познакомилась там с молодым человеком по имени Юрий Чурбанов. Вскоре он станет очередным мужем любвеобильной дочери Генерального секретаря ЦК КПСС.
Вот и для Владимира Высоцкого и Марины Влади этот год, начавшись с крупной размолвки, закончился вполне благопристойно и торжественно: 1 декабря они наконец официально стали мужем и женой. Марина Влади в своих воспоминаниях пишет: «Молодой человек, встречающий нас у входа, весь взмок. Впрочем, мы тоже. Как и во всех московских учреждениях, во Дворце бракосочетания слишком сильно топят. Мы оба в водолазках, ты – в голубой, я – в бежевой. Мы уже сняли пальто, шарфы, шапки, еще немного – и разденемся догола. Но торжественный тон работника загса заставляет нас немного угомониться…
Тебе удалось упросить полную даму, которая должна нас расписывать, сделать это не в большом зале с цветами, музыкой и фотографом, а в ее кабинете. Нам бы и в голову не пришло, что именно заставило ее согласиться! Она это сделала вовсе не из-за нашей известности, не потому, что я – иностранка, не потому, что мы хотели пожениться в узком кругу друзей. Нет! Что возобладало, так это – неприличие ситуации: у нас обоих это третий брак (Марина Влади до Высоцкого была замужем за известным французским кинорежиссером Робером Оссейном и владельцем авиакомпании в Африке Жаном-Клодом Бруйе), у нас пятеро детей на двоих! Пресвятой пуританизм, ты спасаешь нас от свадебного марша! А если не будет церемонии, можно и не напрягаться. В конце концов мы так и остаемся в надетых с утра водолазках…
Мы бодро расписываемся против галочки, и уже через несколько минут все кончено. Ты держишь свидетельство о браке, как только что купленный билет в театр, вытянув руку над толпой. Мы выходим, обнявшись, среди невест в белом тюле под звуки неутомимого марша. Мы женаты. Ты наконец спокоен».
Сразу после бракосочетания молодожены сели на теплоход «Грузия» и отправились в свадебное путешествие по маршруту Одесса – Сухуми – Тбилиси. По приезде в Москву на 2-й Фрунзенской, где тогда жили Высоцкий и Влади, состоялась их скромная свадьба. Среди приглашенных на ней были Макс Леон, журналист из «Юманите» и свидетель со стороны Влади, Юрий Любимов с супругой Людмилой Целиковской, А. Вознесенский, В. Абдулов, А. Митта с супругой Лилей, художник З. Церетели. По словам свидетелей, Высоцкий в тот день был тихим и спиртного не употреблял.
1971 год
Год 1971-й был годом Гамлета, той роли, к которой Владимир Высоцкий шел всю жизнь. Именно для того, чтобы в конце концов сыграть ее, он шел наперекор воле своих родителей пятнадцать лет назад, поступая в театральную студию, ради этой роли он столько лет терпел нищету и душевную неустроенность, ради нее он поднимался с колен, порой скрипя зубами от боли и от злости на себя и на весь белый свет. Начинались 70-е, эпоха Высоцкого, и именно «Гамлет» сформирует его как сознательного борца с тяжелым временем безвременья. Именно «Гамлет» послужит серьезным толчком Высоцкому в его дальнейших размышлениях о смысле жизни, о своем месте в этом мире, о том пути, который он выбрал. Между тем начало 1971 года было для Владимира Высоцкого печальным. Не успело стихнуть свадебное застолье, как в середине января, после очередного конфликта с Ю. Любимовым, Высоцкий вновь запил и на три дня лег в институт Склифосовского в одну палату с буйными больными. Обезумевшая от отчаяния Влади тут же собрала вещи и улетела во Францию.
«Я застегнула чемоданы и уехала из Москвы после долгого и тяжелого периода твоего этилового безумия. В то время терпения у меня было не так много, и, смертельно устав, не зная еще никакого средства, чтобы заставить тебя прекратить весь этот кошмар, я сбежала, оставив записку: «Не ищи меня». Это, конечно, было наивно. Я к тому времени недавно стала твоей законной женой, и свидетельство о браке, по твоему мнению, обязывало меня безропотно терпеть все твои выходки».
Вконец уставший от загулов «премьера», Юрий Любимов предложил главную роль в «Гамлете» Валерию Золотухину. Тот согласился. А 31 января трудовой коллектив Театра на Таганке в сотый, наверное, раз обсуждал поведение актера Владимира Высоцкого. И в сотый раз его оставили в театре, сделав последнее и решающее из всех звучавших ранее предупреждение. Но не все, кто хорошо знал Высоцкого, простили ему его поведение. Жена Юрия Любимова актриса Людмила Целиковская, с которой Высоцкий случайно столкнулся, позвонив на квартиру шефа, высказала ему все, что накипело у нее на душе: «Я презираю себя за то, что была на вашей этой собачьей свадьбе… Тебе тридцать с лишним, ты взрослый мужик! Зачем тебе все эти свадьбы? Ты бросил детей… Как мы тебя любили, так мы теперь тебя ненавидим. Ты стал плохо играть, плохо репетировать. Ты стал бездарен, как пробка».
Казалось, что в начале того года на Высоцкого навалились все мыслимые и немыслимые напасти: ушла жена, работа в театре не ладилась, ходили слухи, что в КГБ на него шьют дело, близкие друзья от него отвернулись. Во многом из всего этого был виноват сам Владимир Высоцкий с его безволием и неразборчивостью в друзьях, большинство из которых и друзьями-то назвать было нельзя.
Я шел по жизни как обычный пешеход,
Я, чтоб успеть, всегда вставал в такую рань.
Кто говорит, что уважал меня, – тот врет.
Одна… себя не уважающая пьянь.
(1971)
От беспросветности собственной судьбы Высоцкий в начале февраля вновь запил. Видевший его в те дни фотохудожник Анатолий Гаранин с горечью заметил: «Он испортился по-человечески, стал не тот, он забыл друзей, у него новый круг знакомств, это не тот круг».
Имея своей женой иностранную артистку и получив через нее возможность приобретать дефицитные вещи, Высоцкий за короткий срок сильно изменился. О своих впечатлениях о Высоцком образца лета 67-го Марина Влади писала: «Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий плохо одетый молодой человек». К лету 71-го Высоцкий приобрел очередной автомобиль, теперь это был престижный «Фиат», полностью сменил свой гардероб.
О таком Высоцком Валерий Золотухин с недоумением писал: «Володю, такого затянутого в черный французский вельвет, облегающий блузон, сухопарого, поджатого, такого Высоцкого я никак не могу всерьез воспринять. Я не могу полюбить человека, поменявшего программу жизни». Но если программа жизни Высоцкого менялась, то образ жизни оставался неизменным. В конце февраля он вновь лег в больницу, теперь за его лечение взялся брат кинорежиссера Александра Митты. Лечение длилось около месяца. К моменту выписки Высоцкого из больницы в Москву вернулась Марина Влади. Пророчество поэта Евгения Евтушенко сбылось. В феврале, в не самые лучшие для Высоцкого и Влади дни, он подарил им книгу своих стихов «Идут белые снеги» с дарственной надписью: «Марине и Володе, чтобы, даже разлучаясь, они не разлучались никогда. Ваша любовь благословлена Богом. Ради него не расставайтесь. Я буду мыть Ваши тарелки на Вашей серебряной свадьбе. Женя Евтушенко».
«Всего два раза в жизни у меня не хватило сил, – писала позднее Марина Влади. – Первый раз – в самом начале нашей совместной жизни, когда в бреду ты назвал меня не моим именем. Второй раз – когда ты вышвырнул меня в коридор и заперся в ванной, чтобы допить бутылку. Задыхаясь от ярости, я хлопнула дверью и послала тебя к черту. В обоих случаях, естественно, ты провел полгода в адских мучениях. И я тоже».
Ядовит и зол, ну словно кобра я, —
У меня больничнейший режим.
Сделай-ка такое дело доброе, —
Нервы мне мои перевяжи.
У меня ужасная компания —
Кресло, телефон и туалет.
Это же такое испытание,
Мука и… другого слова нет…
(весна 1971)
Удивительно, но собрат Владимира Высоцкого по профессии и по тяжелому недугу Олег Даль почти в те же дни переживал такие же чувства, что и Высоцкий, что нашло отражение в его откровенном дневнике:
«5 день самосуда (январь).
Жрал грязь и еще жрал грязь.
Сам этого хотел. Подонки, которых в обычном состоянии презираю и не принимаю, окружали меня и скалили свои отвратные рожи. Они хохотали мне в лицо, они хотели меня сожрать. Они меня сожрут, если я, стиснув зубы и собрав все свои оставшиеся силы, не отброшу самого себя к стене, которую мне надо пробить и выскочить на ту сторону. Стена – зеркало, в котором отражаюсь я сам, и я не могу глядеть на себя. Я себе противен до омерзения».
Супруга артиста Елизавета Даль, говоря о подобном состоянии мужа, писала: «По собственному его выражению, ему нужно было иногда «окунуться в грязную лужу». Может быть, ему нужно было выпачкаться, чтобы потом все это сбросить и опять стать самим собой. Это были так называемые срывы. Не знаю, болезнь ли это времени или профессии. Но почему-то так получается, что срываются и выходят из формы именно большие актеры. Я думаю, что дело прежде всего в нервной системе, которая поставлена в тяжелые условия. Отсутствие работы, отсутствие выбора, вынужденность работы – все это приводило к срывам, к болезни, с которой он боролся, побеждал и был счастлив».
Победы Владимира Высоцкого и Олега Даля над своим недугом в тот год отдаляли от них ту роковую дату, что у одного наступит через девять, у другого через десять лет. Места Высоцкого и Даля в том году занимали другие, и смерть их порой была ужасна.
19 января, в дни, когда Высоцкий только выписался из больницы, в Вологде после очередной попойки принял смерть от рук своей любовницы замечательный советский поэт Николай Рубцов. Смерть нелепая и бессмысленная, пришедшая к молодому, 34-летнему человеку.
Не успела остыть земля на могиле Николая Рубцова, как через 48 дней, но уже в Москве, земля приняла в свои объятия тело 38-летней советской киноактрисы Изольды Извицкой, той самой, что в 1956 году исполнила роль Марютки в фильме Г. Чухрая «Сорок первый». И вновь не последнюю роль в столь преждевременном уходе из жизни молодой женщины сыграл алкоголь. Изучая причины трагической гибели актрисы, А. Бернштейн писал: «Она любила мужа, но жизнь с ним была для нее далека от той идеальной семьи, которую она представляла в юности. Киноартист Эдуард Бредун был человеком талантливым, энергичным, но в нем нередко пробуждались грубость и бесцеремонность. (В 1968 году Э. Бредун снялся вместе с В. Высоцким в фильме «Хозяин тайги»). Именно он, может быть, сам того не желая, приучил молодую жену к спиртному. Но это не помешало ему впоследствии оскорблять ее, обвиняя в пьянстве… Первый раз в жизни бокал шампанского актриса выпила на свадьбе, когда ей было двадцать три года, в 1955 году. Потом, по инициативе Бредуна, начался длительный период домашних застолий, на которых царствовали крепкие напитки – водка и коньяк.
В 1970 году Бредун ушел от Извицкой, не заплатив за квартиру, обвинив в алкоголизме, забыв о тех временах, когда пользовался ее славой. После этого Извицкая некоторое время лечилась в больнице от нервного истощения, но через месяц после окончания курса лечения все вернулось на круги своя – теперь к алкоголизму добавилось серьезное душевное расстройство. В последние месяцы жизни… она голодала, не могла платить за квартиру. Близкие друзья приносили ей бутерброды, продукты, помогли продать ненужные книги.
Изольда Извицкая умерла в одиночестве 1 марта 1971 года, но только через неделю ее тело было обнаружено у нее дома. Еды в доме не было никакой, лишь кусочек хлеба, наколотый на вилку, лежал в металлической селедочнице. После ее смерти радиостанция Би-би-си сообщила, что в Москве от голода и холода, всеми забытая, умерла известная киноактриса Изольда Извицкая. Маленький некролог о ее смерти появился в «Советской культуре».
Развившийся в Извицкой недуг алкоголизма был вызван множеством причин, как житейского, так и чисто профессионального свойства. Внезапно оказавшись на вершине мировой популярности (в 1957 году фильм «Сорок первый» попал на Каннский фестиваль), она не устояла перед теми соблазнами, что обрушились на нее в те годы. Многие мужчины в подобной ситуации теряли голову, что там говорить о хрупкой 25-летней женщине. Хотя и тут были счастливые примеры. Известный советский киноактер Владимир Коренев, покоривший в 1961 году советских зрителей своим Ихтиандром в «Человеке-амфибии», вспоминая соблазны того времени, признался: «Не дай бог этого вина выпить когда-нибудь в такой мере, как я! Хорошо, что я не стал алкоголиком. Честолюбие у меня как бы выбито с детства, и я спокойно прошел через это чудовищное испытание».
Как отмечает А. Бернштейн: «У Извицкой не было той мертвой хватки, с помощью которой иные актрисы добывают интересные роли, получают почетные звания, выгодные контракты. Она не роптала, но в ее хрупкой душе постепенно накапливались обиды, разочарования, горькие размышления…»
Спустя несколько лет после смерти И. Извицкой, в июне 1976 года, Олег Даль, переживая те же чувства, что когда-то переживала и она, напишет в своем дневнике: «Пусть все летят к чертовой матери в пропасть, на дне которой их «блага», звания, ордена, медали, прочие железки, предательства, подлости, попранные принципы, болото лжи и морального разложения».
Высоцкий стал алкоголиком в силу своих непростых отношений в семье, затем этот недуг закрепился в нем из-за долгой житейской неустроенности и творческого неудовлетворения. И если в начале болезни он еще как-то пытался с ней бороться, сохраняя хоть какую-то надежду на успех, то позднее он уже смирился с собственной судьбой, и попыток сопротивления становилось все меньше и меньше. Шедший с ним в этом нога в ногу Олег Даль писал: «В грязи не вываляешься – чистым не станешь. Может быть, в этом и есть смысл, но не для меня. Не надо мне грязь искать на стороне: ее предостаточно во мне самом. На это мне самому стоит потратить все мои силы, то есть я имею в виду искоренение собственной гнуси. Все мои отвратительные поступки – абсолютное безволие. Вот камень, который мне надо скинуть в пропасть моей будущей жизни».
Описывая те дни, когда Высоцкий погружался в «этиловое безумие», Марина Влади вспоминала: «Ты заказываешь мне пантагрюэльские ужины, ты зовешь кучу приятелей, тебе хочется, чтобы в доме всегда было много народа. Весь вечер ты суетишься возле гостей и буквально спаиваешь их. У тебя блестят глаза, ты смотришь, как кто-нибудь пьет, с почти болезненной сосредоточенностью. На третий или четвертый день почти непрерывного застолья, наливая гостям водки, ты начинаешь нюхать ее с видом гурмана. И вот уже ты пригубил стакан. Ты говоришь: «Только попробовать». Мы оба знаем, что пролог окончен.
Начинается трагедия. После одного-двух дней легкого опьянения, когда ты стараешься во что бы то ни стало меня убедить, что можешь пить, как все, что стаканчик-другой не повредит, что ведь ты же не болен, – дом пустеет. Нет больше ни гостей, ни праздников. Очень скоро исчезаешь и ты…
Как только ты исчезаешь, в Москве я или за границей, начинается «охота», я «беру след». Если ты не уехал из города, я нахожу тебя в несколько часов. Я знаю все дорожки, которые ведут к тебе. Друзья помогают мне, потому что знают: время – наш враг, надо торопиться…
Обычно я нахожу тебя гораздо позже, когда твое состояние начинает наконец беспокоить собутыльников. Сначала им так приятно быть с тобой, слушать, как ты поешь, девочки так польщены твоим вниманием, что любое твое желание для них – закон. И совершенно разные люди угощают тебя водкой и идут за тобой, сами не зная куда. Ты увлекаешь их по своей колее – праздничной, безумной и шумной. Не всегда наступает время, когда наконец, уставшие, протрезвевшие, они видят, что вся эта свистопляска оборачивается кошмаром. Ты становишься неуправляем, твоя удесятеренная водкой сила пугает их, ты уже не кричишь, а воешь. Мне звонят, и я еду тебя забирать… После двух дней пьянки твое тело начинает походить на тряпичную куклу. Голоса почти нет – одно хрипенье. Одежда превращается в лохмотья».
В те дни 71-го, когда Владимир Высоцкий взлетал на вершину успеха на сцене Таганки и падал в грязь, безумствуя в пьяном угаре, в Москве медленно угасал от той же страшной болезни опальный Александр Твардовский. Видевшая его в те дни В. Герасимова вспоминала: «Серым февральским днем я пошла к Твардовскому. Как страшно он изменился сравнительно даже с недавним временем! Одутловатое, бескровное лицо и какие-то белые глаза. Даже руки казались налитыми той же серой жидкостью, что и лицо. От былой ладности тоже ничего не осталось. Только серые, теперь поредевшие волосы были по-прежнему по-крестьянски откинуты назад. И по-прежнему был заметен выпуклый, высокий лоб. Так же как Фадеев, он был снедаем недугом, некогда грустно именовавшимся «русской болезнью». Об этом недуге замечательного поэта близко знавший его писатель Ю. Трифонов писал: «Горе Александра Трифоновича, горе близких ему людей и всех, кто любил его, заключалось в вековом российском злосчастии: многодневном питии. Это было то, что вкупе с врагами Александра Трифоновича – отнимало у него силы в великой борьбе, почти в одиночку, которую он вел в последние годы. «России веселие есть питие» – в этой легендарной премудрости, столь годной для гусарских пиров и одинокого пьянства, скрыта, если вдуматься, тысячелетняя печаль. Дачники Красной Пахры тщеславились перед знакомыми: «Заходит ко мне на днях Твардовский…», «Вчера был Александр Трифонович, часа три сидел…» Господи, да зачем заходил? И с тобой ли, дураком, сидел три часа или с тем, что на столе стояло? Один дачник, непьющий, признался мне, что всегда вписывает в продуктовый заказ бутылку «Столичной» «для Трифоныча».