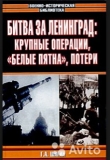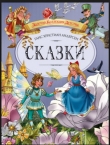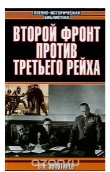Текст книги "Ошибки Г. К. Жукова (год 1942)"
Автор книги: Федор Свердлов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Да что У-2, даже ТБ-3 немцы однажды ввели в заблуждение. В деревне Клюшки они разожгли точно такие сигналы, какие были в группе Белова, и ТБ-3 приземлился. Когда личный состав понял ошибку, было уже поздно. Началась перестрелка. Три человека из состава экипажа погибли, а троим все же удалось пробиться к своим.
Несколько слов о снабжении личного и конского состава продовольствием и фуражом. Вопрос работы тыла фронта был довольно серьезным и до того, как группа войск Белова прорвалась в тыл врага. В ходе рейда он приобрел первостепенное значение. Оставался он очень тяжелым и до конца пребывания группы в тылу врага. Правда, тыл фронта несколько исправил свои ошибки, допущенные им до рейда, и, особенно в первые месяцы рейда. Все же он далеко не справился с работой и не смог наладить снабжение группы Белова. В первые дни рейда, когда люди и лошади форменным образом голодали, все телеграммы во фронт с просьбами о снабжении, как правило, оставались без ответа. В крайнем случае, получались телеграммы за подписью Жукова типа «Жми, действуй нахальнее, и Вязьма будет наша». Но все равно, все донесения во фронт в начальный период рейда заканчивались воплем: «Люди, лошади голодают! Белов». До 18 февраля лишь три раза – 4, 5 и 16 февраля группе было сброшено немного продовольствия – сухари, чай, сахар, соль, табак и патроны к автоматам. Но еще труднее было разделить полученные крохи между частями и соединениями. Хотя был строжайший приказ Белова -продовольствие в первую очередь тем, кто ведет бой.
Группе сбрасывали и снаряды, но по какой-то причине не все они рвались, и Щелаковский сообщал в политотдел фронта генералу Макарову: «Больше половины сбрасываемых снарядов не рвутся». Еще хуже было с заменой зимнего обмундирования, когда начал таять снег и потекли весенние ручьи. В это время 2-я гв. кавдивизия действовала в районе болот и на местности залитой водой. Бойцы находились по колено в воде, будучи обутыми в валенки, и когда ночью начинались заморозки, положение еще больше усложнялось. 8 апреля в донесении Белова сообщалось: «К исходу дня противник занял станцию Вертерхово, 2 гв. кд с трудом удерживает рубеж Новинка, Вербилово, Ильинка, Селище. Бойцы совершенно выбились из сил, в мокрых валенках, в плохом обмундировании. Кожаной обуви нет. Люди лежат в мокрых снежньгх окопах». С лошадьми было не лучше. Животные совершенно были истощены. Кавалеристы кормили их всем, чем могли, – молодыми побегами кустарника, соломенными крышами с изб и амбаров, но это не могло помочь строевой лошади, которая привыкла к регулярному приему определенной порции овса, сена и прочим условиям сохранявшим ее работоспособность. В конце концов, лошадь не человек, в группе начался массовый падеж лошадей. 14 мая начальник штаба группы полковник Заикин в своем донесении в тыл фронта генералу Виноградову писал: «Фуража совершенно нет. Лошади голодают, увеличился падеж. Прошу срочно подать овес, комбикорм».
Хочется привести очень «интересный» документ – ответ Жукова на мольбы Белова о подаче продовольствия и фуража. Вот этот документ от 16 марта:
«Если местные ресурсы продфуража исчерпаны, то маневрируйте. В большие бои не ввязывайтесь. Жуков».
Потребовалось более полутора месяцев для того, чтобы ответить на просьбу – «дайте кушать людям и лошадям!» Было рекомендовано «маневрировать». Кому и что оно давало? О каких местных ресурсах могла идти речь, когда население само голодало. Если бы группа начала «маневрировать», то кроме усиления чувства голода и большего истощения конского состава ничего другого она не добилась бы. Возможно слово «маневрировать» сказано «иносказательно»? Возможно. Или Командующий фронтом шутил? Возможно. Тут есть еще одна «тонкость». Жукову потребовалось полтора месяца и слишком много жертв – добавляет Кононенко, – чтобы понять и дать указание: «В большие бои не ввязывайтесь».
26 апреля генерал Белов был вынужден отдать распоряжение перевести весь конский состав на «подножный» корм. Это была прошлогодняя засохшая трава, но другого выхода у него не было: в противном случае кавалеристы остались бы без лошадей, то есть без средств передвижения и тогда им была бы грош цена.
ДЕЙСТВИЕ РАЗВЕДКИ
По мере расширения района действий группы войск Белова в тылу врага, усложнялись и увеличивались задачи разведки разведдивизиона. Дивизии группы занимали часто непомерно широкие полосы обороны, и их разведывательных средств было недостаточно для ведения активных действий. Разведчиков едва хватало для организации наблюдения. Особенно это относилось к полосам обороны партизанских дивизий, в которых разведподразделений почти не было. Поэтому на разведдивизион группы ложилась основная тяжесть ведения разведки в интересах всей группы. Главной задачей было постоянно следить за мероприятиями противника, направленными против действий кавалеристов. На авиаразведку рассчитывать не приходилось, ее вообще не было. Все коммуникации врага и районы сосредоточения его резервов необходимо было брать под свой контроль. При ведении наступления на соединение с 11-м кавкорпусом Соколова, разведчики дивизиона дважды проникали через боевые порядки противника, железную дорогу и автостраду Москва – Минск к кавалеристам Калининского фронта. Хорошо действовал дивизион и в период, когда шло наступление на Издешково и Яковлеве Проникая в тыл врага, разведчики минировали дороги, нападали на штабы и узлы связи врага, уничтожали линии и средства связи. Но в группе в то время было еще очень мало мин и специалистов разведчиков-диверсантов.
После овладения Дорогобужем 1-я гв. кавдивизия вместе с партизанским соединением «Дедушка» несла ответственность за очень широкую полосу фронта, но разведчики дивизии всегда своевременно выполняли стоящие перед ними задачи и очень редко подводили, хотя такие случаи тоже были.
Разведывательный эскадрон во 2-й гв. кавдивизии был замечательный. Начальник разведки 2-й гв. кавдивизии капитан Бойченко (в рейде, в марте 1942 года получил звание майора) был исключительно энергичным и исполнительным. Ему пришлось не мало потрудиться, чтобы доказать элементарные понятия о необходимости иметь специалистов-разведчиков и на практике доказать, что там, где разведкой не занимаются и за нее не отвечают командиры полков и дивизий, там нет и успеха. 2-я гв. кавдивизия до того, как ею стал командовать полковник Осликовский, была тому живым примером.
Замечательно работали разведчики 8-й воздушно-десантной бригады, а в последствии и 4-го воздушно-десантного корпуса. Они ночными действиями небольших разведывательно-диверсионных групп, систематически минировать в системе обороны врага все дороги, служившие ему для передвижения ночью. Теперь читателю ясно, почему с первых дней действий группы Белова в тылу врага, так остро встал вопрос о создании специальных диверсионно-разведывательных групп.
Одновременно возник вопрос о производстве мин для минирования. Одновременно с подготовкой специальных разведывательных групп, в группе приступили к оборудованию «фабрики» по изготовлению таких мин. Были подобраны столяры-краснодеревщики, слесаря и электрики. Нашелся столярный и слесарный инструменты, началась заготовка материала. «Фабрика» расположилась в одной мастерской бывшей МТС, в стороне от населенного пункта и от любопытных глаз.
Директором «фабрики» стал замечательный мастер, прямо-таки – «золотые руки» – воентехник из разведдивизиона, фамилия которого, к сожалению, не сохранилась ни в памяти Кононенко, ни в записях архива. Под его начальством работало семь человек, из них – 3 столяра-краснодеревщика, 2 слесаря и 2 электрика. Вот копия одного из его отчетов:
«За апрель месяц изготовлено 200 мин. Из них было выдано в отдельный разведывательный дивизион 103 штуки. Одновременно заготовлено деталей на 100 штук. Получено 500 электродетонаторов, 100 метров электропровода, 40 м бикфордова шнура, 10 кг бертолетовой соли, 112 ампул с бертолетовой кислотой. Воентехник К…».
Источником тока для электродетонаторов мины служила батарейка для карманного фонаря, но их было слишком мало, а поэтому широко использовались элементы из батарей радиостанций БАС-80. Сначала разведчиков, хотя и неохотно, снабжал начальник связи кавкорпуса майор Я.М. Давыденко, а впоследствии фронт присылал их в достаточном количестве. Кроме взрывчатых веществ в шашках, присылаемых фронтом, разведчики широко использовали их из авиабомб, мин и даже снарядов своих и противника, которых было в достаточном количестве.
Вскоре «фабрика» начала изготавливать мины большими партиями, снабжая ими разведчиков в дивизиях. С марта месяца, когда действия группы Белова носили, в целом, чисто оборонительный характер, разведывательные группы вели самую напряженную минную войну в тылу, на коммуникациях врага. Каждую ночь там устанавливалось несколько десятков мин, производились нападения из засад, портилась связь, взрывались его склады, Неся большие потери от действий разведывательных групп и мин, противник, в конце концов, прекратил всякое передвижение ночью. Теперь он совершал их только днем. Кстати, ни наша артиллерия, ни, тем более авиация, не могли ему помешать в этом. Теперь каждое утро немцы начинали с того, что тщательно проверяли, не заминированы ли их дороги и, подорвав обнаруженные мины, а иногда и подорвавшись на них, робко начинали движение. Разведчики-наблюдатели внимательно следили за всем, что делает противник, и больше ничего от них не требовалось. Суммируя данные наблюдений и дополняя их показаниями пленных, в которы[недостатка не ощущалось, штаб группы мог делать довольно правильные выводы и прогнозы о предполагаемых действиях противника на ближайшее время. 4 апреля 1942 года генерал Белов писал Жукову: «… Виноградов подготовил отправке мне ВВ. При получении буду снабжать диверсионные отряды специально изготовленными майором Кононенко минами для подрыва ж. дор. и крушения поездов…».
26 апреля Белов сообщал Жукову:
«Переходя к обороне, буду активизировать диверсионную работу в тылу противника и производить мелкие частные операции по улучшению своих позиций».
К обучению диверсионных групп разведчиков в штабе группы приступили еще в первых числах февраля 1942 года. Сначала была создана группа, состоявшая из разведчиков всех частей и соединений, в ней готовились будущие руководители диверсионных групп и инструкторы по подготовке разведчиков в соединениях. Их подготовка шла не только теоретически, но и практически в тылу врага. Каждый разведчик проверялся на практике и лишь после такого «экзамена», курс обучения считался законченным и «диплом» защищенным. В марте месяце специальным приказом по группе войск были созданы диверсионные группы и отряды при штабе группы, а также в каждой дивизии и десантной бригаде. В каждом полку создавалась группа по 10 человек. В партизанских отрядах на каждые 100 человек партизан создавалась диверсионная группа в 10 человек. Указанным приказом каждая дивизия, полк, партизанский отряд, соединение получали сектора и полосы для диверсионных групп. И действия этих групп разведчиков-диверсантов развернулись во всю ширь. Теперь каждую ночь до десяти групп разведчиков проникали в тыл врага, у каждой группы в вещмешках было по четыре, пять, а иногда и более «чемоданчиков». На железной дороге противника работали особо подготовленные группы разведчиков, так называемые «специалисты по железной дороге». Они не только знали, как установить и умело замаскировать мину, этот сложный и опасный «агрегат», но и знали, где ее установить, а последнее -главное. Почему? Очень просто. Крушение воинских эшелонов производилось не на ровной местности, или, что еще хуже, на высокой насыпи. Нет, разведчики искали выемку, да еще такую, чтобы она проходила на крутом повороте дороги. Они не гонялись за эффектами, за шумным и грохочущим полетом эшелона под откос. Паровоз подрывался ими в середине выемки, на повороте, для чего мина устанавливалась под рельс на короткой, внутренней дуге. Подорвавшись на такой мине, паровоз по инерции летел через второй путь на противоположную сторону выемки и, выскочив на насыпь -переворачивался. А вагоны, наползая друг на друга, плотно закупоривая выемку, создавали прочную пробку на обоих путях. При таком крушении противнику приходилось затрачивать уйму времени для того, чтобы очистить выемку. Здесь полностью исключался способ сбрасывания, или стаскивания тягачом (танком) перевернутых вагонов в стороны. Тут приходилось резать спутавшиеся и переплетенные между собой вагонные каркасы автогеном или подрывать их взрывчаткой и уже затем вытаскивать их как из забоя по частям. Ну, а если эшелон был с танками или с артиллерией, автомашинами или другой техникой, пробка в такой выемке-забое получалась еще более плотной и «твердой». Для восстановления пути после такого крушения требовалось много времени, людей и техники.
Места для крушений выбирались сначала по карте. Затем велась тщательная разведка, как самого места, так и охраны противником указанного участка. Так работали разведчики-«железнодорожники».
Мины-«чемоданчики» немцы часто находили прикрепленными к штабелям снарядов, к складам боеприпасов. Их «находили» и немецкие часовые на тропинках, по которым они обычно обходили объекты охраны. Всякие были курьезы с минами. Разведчики – народ находчивый и не лишенный чувства юмора.
В политдонесении 1-й гв. кавдивизии от 14 марта сказано: «… когда в отдельном мин. дивизионе подбирали добровольцев-разведчиков для направления в тыл противника с разведывательными целями, было очень много желающих. Создан отряд разведчиков-диверсантов в составе 33 человек под командой лейтенанта Веригина. В марте отрядом было совершено пять крупных диверсий в тылу врага, произведено четыре крушения на железной дороге в районе Свинцово, Федорово».
Группой одного из полков 1-й гв. кавдивизии командовал сержант Решетилов. Одно отделение этой группы, под руководством Решетилова в составе красноармейцев Федулова, Ковач и Светлова 31 марта взорвало мину под бронепоездом, а второе отделение, где были красноармейцы: Архонов, Жуков и Иванов произвели крушение поезда с танками. Два паровоза тянувшие состав, сошли с рельс, перевернулись и разрушили оба пути, движение было прекращено на 16 часов. Крушение произошло в 8 км западнее станции Дорогобуж. В ночь на 1 мая группа в составе Решетилова, Иванова, Жукова, Суханова, Светлова, Ковач, Береснева и Любенкова произвела большое крушение воинского эшелона в районе платформы Малахово. В ночь на 3 мая эта же группа произвела крушение большого эшелона с техникой. Вагоны эшелона плотно забили выемку на крутом повороте железной дороги. В 1-м гв. кавполку была создана группа под командованием лейтенанта Троицкого. В группу вошли красноармейцы: Мосулов, Орехов, Смолько, Прудников, Рыбников, Шашурин, Митошкин, Абрамов, Богомолов, Куров, Жариков и Буряк. Группа за март месяц произвела несколько диверсий на дорогах в тылу врага. В 5-м гв. кавполку группой командовал сержант Кудренко. Здесь особенно отличались красноармейцы Киселев, Ковригин, Афросинин, Муравьев. В партизанском соединении «Дедушка» только двумя группами разведчиков за март-апрель месяцы были взорваны один железнодорожный мост и два моста на шоссе. В 329-й стрелковой дивизии разведывательно-диверсионная группа под командой лейтенанта Симачева за март месяц произвела разрушение линий связи, взорвала мост через реку Озерная и большой склад боеприпасов в районе Бели. На складе было более 50 тонн боеприпасов. Взрыв был настолько сильным, что его слышали далеко в окрестности. Группа 1114-го стр. полка этой дивизии, руководимая лейтенантом Галицким, действуя в тылу врага, уничтожила до 20 немцев и захватила весьма ценные документы. А группа 250-го воздушно-десантного полка под командой сержанта Усенкова с 7 по 28 апреля, заминировала в нескольких местах дороги, захва
тила пленных, два миномета с минами и почту одной из дивизий врага. В 92-м отдельном разведывательном дивизионе кавкорпуса в состав отряда вошли четыре группы. Отрядом командовал лейтенант Тищенко, а группами: лучшие и отважные сержанты Матвейченко, Логвинов, Захарченко и Вахмистров. За два месяца группы произвели 12 вылазок в тыл врага, минировали шоссейные и железную дороги, производили нападения из засад, захватывали пленных и документы, производили налеты на отдельные небольшие гарнизоны немцев. Особенно отличились в этих группах сержант Санитаров, красноармейцы Журавлев, Мостовой, Жарков, Воронков, Богданов, Котов, Шарафиев, Берестович и Андрущенко.
Ну, а лучшим командиром группы все же был сержант Вахмистров. Он отличился в день начала наступления немцев 24 мая. Когда начался бой за деревню Всходы, противник бросил на запад несколько танков с десантом пехоты вдоль южного берега реки Угра. Шел сильный дождь, особенно раскисла и расползлась дорога, по которой шли танки. Часть немецких танков застряли и отстали, но несколько из них с десантом пехоты продолжали упрямо продвигаться вперед и подошли к самому штабу группы, который располагался у реки Угра.
Кроме небольшой охраны у генерала Белова и двух часовых шифровального отдела никакой другой вооруженной охраны не было. В разведотделе у Кононенко получали очередное задание сержант Вахмистров и два его разведчика. Было у них одно противотанковое ружье.
Быстро собравшись, разведчики выступили, и скоро скрылись в кустах. Они бежали бегом. Вахмистров принял решение встретить танки как можно дальше от штаба группы. Он нес ПТ ружье и должен был первым начать единоборство, а тем временем его разведчики должны были заминировать дорогу с таким расчетом, чтобы при взрыве мины образовался завал. Вскоре Вахмистров увидел немцев и три их танка. Один из танков застрял, и немцы, окружив его, цепляли буксир, пытаясь вытащить. Вахмистров быстро отошел назад, выбрал два огромных дерева, которые стояли у самой дороги, и заминировал их. Затем, обойдя немцев лесом, вместе с разведчиками вышел немцам в тыл. Пока разведчики били из автоматов по пехоте немцев, Вахмистров бил из ружья по танкам, бил по тем, которые не застряли. Оба танка загорелись. Немцы разбежались, и на том их поход по южному берегу реки Угра закончился.
В отчете, направленном в штаб фронта, по работе разведывательно-диверсионных групп за период с 23 марта по 5 мая, указывалось, что в 1-й гв. кавдивизии работало 19 групп. Взорвано 4 железнодорожных и 3 шоссейных моста, произведено шесть крушений и массовое минирование шоссейных, проселочных и других дорог между гарнизонами в тылу врага.
Во 2-й гв. кавдивизии работало 15 групп. Произведено 10 крушений поездов в районе Буда, станции Баскаковка, минировались дороги, нарушалась связь, велась разведка гарнизонов в тылу врага.
В 329-й стрелковой дивизии и в 92-м разведдивизионе работало по десять групп. Во всей группе войск Белова лишь с 1 по 23 апреля работало 50 групп на коммуникациях в тылу врага. Систематически минировались все дороги, которыми пользовались немцы для передвижения и снабжения своих войск. Немцы не позволяли кавалеристам производить передвижение днем, они изводили их своей авиацией, а те заставили их прекратить передвижение ночью и изводили своими минами.
23 марта в 14 км восточнее Ярцево на основной железнодорожной магистрали Смоленск, Вязьма произошло большое крушение, в результате которого были разрушены оба железнодорожных пути. На сей раз немцам, в течение 9 суток, пришлось заниматься ремонтом дороги, и всякое движение здесь было прекращено. 5 мая на железной дороге Смоленск, Вязьма в 11 км юго-западнее Ярцево произошло большое крушение. Немцы почти четыре дня устраняли повреждение, а 10 мая тут снова полетел вверх тормашками большой эшелон с техникой. И опять немцы работали три дня. Скоро поезда вновь пошли, но 15 мая воинский эшелон, шедший из Издешково на Ярцево, взорвался на мине и прочно закупорил одну из железнодорожных выемок. Три дня немцы «выковыривали» из выемки остатки эшелона. 18, 21 и 23 мая на указанной дороге снова были произведены крушения. Таким образом, немцам здесь приходилось чаще работать, чем пользоваться магистралью для снабжения и эвакуации.
Разведчики 1-й и 2-й партизанских дивизий действовали отдельно или совместно с разведчиками кавдивизии. Так, разведчики 1-й партизанской дивизии «Дедушка» чаще всего работали вместе с разведчиками 1-й гв. кавдивизии. 21 мая они взорвали легковую автомашину на автостраде Смоленск, Вязьма. В машине погибли два немецких офицера и шофер. Обыскивая убитых, разведчики увидели, что по шоссе мчится грузовая крытая автомашина. Они остановили грузовик, в нем оказалось 15 человек пленных из состава 33-й армии. Пленные были освобождены, а конвоировавшие их немцы – попали в плен.
Таковы сухие сводки о действиях героев-разведчиков.
Об одном разведчике 41-й кавдивизии ст. сержанте Безвершенко можно написать большой рассказ. В ночь на 17 февраля 1942 года он проник к окруженным десантникам 9-й ВДбр и передал командиру бригады приказ командира 4-го ВДК полковника Казанкина, а ведь связь с бригадой была прервана и надежды на то, что ее выручат почти не было. Затем, даже не отдохнув, Безвершенко пробирается через плотные боевые порядки немцев, переходит Варшавское шоссе и попадает в штаб 50-й армии. Информирует здесь о создавшейся обстановке и возвращается назад с данными от 50-й армии. Более трех дней, без отдыха и сна в постоянной опасности действовал этот герой-разведчик. 9-й ВДбр была вовремя оказана помощь.
Только за один месяц, с 1 по 30 апреля разведывательно-диверсионными группами были захвачены в плен солдаты и офицеры следующих частей и соединений немцев: 82 пп 31 пд, 431 пп 131 пд, 17 пп 31 пд, 7 корректировочный отряд, 66 ап 43АК 4-й армии, 82 пп 31 пд, 31 ап 31 пд, 558 пп 331 пд, 504 мото-саперный полк, 14 мп 5 тд, 557 пехотный запасной батальон, 82 пп 31 пд, 557 пехотный запасной батальон, 66 ап 43АК 4-й армии, 422 дивизион тяж. артиллерии, 34 ап 34 пд, 253 пп 34 пд, 13 моторизованный запасной батальон 11 тд, 17 ап 17 пд, 67 запасной пехотный батальон 23 пд, 23 ап 23 пд, 44 ап 121 221 пд.
Поскольку находящиеся в тылу группы армий «Центр» наши группировки: 33-я армия, 11-й кавкорпус Калининского фронта, 4-й ВДК и группа войск Белова в самом начале действовали почти изолированно друг от друга и, поскольку Жуков категорически запретил им соединиться, немцы приняли правильное решение – громить их по частям. 33-я армия не смогла организовать и закрепить захваченный ею район так, как группа Белова и противник решил громить ее первой. Вскоре, как мы уже знаем, 33-я армия прекратила свое существование. Запрет Командующего Западным фронтом позднее был снят. Теперь он требовал прорыва остатков 33-й армии к Белову, но, увы, было слишком поздно. Гибель такого большого количества людей и разгром основных сил 33-й армии с ее боевым оснащением и штабом никогда не оправдает того, кто пытался забыть или чем-то смягчить свои ошибки в руководстве операцией по овладению Вязьмой.
Разгром 33-й армии поставил под угрозу и судьбу группы войск Белова, которому было ясно – следующая очередь – его. Жуков и здесь допустил ошибку, он не хотел верить и не хотел видеть надвигающейся опасности. Теперь все зависело от того, как сумеет враг организовать и провести операцию по ликвидации группы войск Белова. Судя по тому, как он провел ее с 33-й армией, он делал это не так уж плохо, и что Белов сумеет ему противопоставить? Перед разведкой стояла ясная задача -установить какие силы и где противник начнет сосредотачивать, когда, где и какими силами он нанесет удар? Конечно напрашивался ответ, что до того, как закончится весенняя распутица и просохнут дороги, противник активных действий проявлять не будет, во всяком случае не начнет своей главной операции. А когда просохнут дороги, он сможет бросить против группы войск Белова танки, артиллерию в любом количестве и прикрыть свои действия с воздуха. Вопрос, где будут сосредоточены главные силы врага, и на каких направлениях он начнет действовать, требовал ответа. В первую очередь такое решение немцев зависело от задачи, которую они ставили в этой операции, затем от нашей группировки и, наконец, от местности. Белов имел полное основание предполагать, что противник поставит перед собой задачу – громить группу по частям и оттеснить ее главную группировку от «Большой земли». При разгроме 33-й армии он тоже так делал, но там сначала он вбил крепкий клин между группой Белова и 33-й армией, а затем, полностью отрезал ей пути на восток. Ставя так вопрос, Белов предполагал, что противник главный свой удар по его группе тоже нанесет с востока, а не с запада. Всю восточную часть занятой группой Белова территории занимал и удерживал 4-й воздушно-десантный корпус, который хотя и был подчинен Белову, но не особенно был примером для других в своей исполнительности и дисциплинированности. У него было слишком много склонностей к местничеству. Возможно, что полковнику Казанкину, как командиру десантного корпуса и не плохому командиру, не совсем нравилось подчинение командиру корпуса кавалерийского. На территории десантного корпуса оборонялся и ему подчинялся полк Жабо. О его недугах уже говорилось. Все немецкие дивизии, действовавшие против 33-й армии, пока продолжали оставаться на своих прежних местах, в районе севернее и северо-восточнее Знаменка. В восточной части территории группы войск Белова противник продолжал держать четыре танковые дивизии (5-ю, 11-ю, 17-ю и 20-ю). Одна танковая дивизия (19-я тд) располагалась южнее Всходы. Здесь же находились и две механизированные дивизии (3-я и 10-я мд).
Сильные морозы сковали реки, озера, болота и сделали весь район одинаково проходимым, а обильные снегопады зимы 1942 года сгладили рельеф местности, не видно было ни крутых берегов рек, ни оврагов, ни болот и заболоченных речных пойм. На всех реках района не было ни одного уцелевшего моста. Весна и таяние снежного покрова сулили уйму сюрпризов.
Здесь были районы настолько заболоченные, что в весеннее время, а иногда и на протяжении всего лета, даже отдельный пешеход рисковал провалиться в болото. Реки Днепр, Угра, Сож, Десна и целый ряд их притоков и речушек, представляли досадную загадку, и их поведение весной при таком снежном покрове было неизвестно.
Весьма важную для группы войск Белова роль играло то, что на занимаемой ею территории было много подготовленных оборонительных рубежей. Здесь были и траншеи, и проволочные заграждения, и даже минные поля. Но все рубежи готовились нашими войсками и были обращены фронтом на запад. Кроме того, не было известно, где точно они есть. Пока что они прятались под глубоким снегом. Их необходимо было найти, отрекогнасцировать, повернуть в нужную сторону и приспособить для себя, исходя из условий создавшейся обстановки. Под снегом скрывалось много кое-чего. Здесь были фронтовые склады снарядов и авиабомб, инженерного имущества, артиллерия, тягачи, автомашины, мотоциклы, танки, зенитки. Все было замаскировано чрезмерно щедрой на снег и лютые морозы зимой 1941-42 годов. Специальные группы разведчиков, в которые входили связисты, танкисты, саперы и артиллеристы, тщательно вели разведку местности и решали задачи, связанные с поисками оборонительных рубежей, боеприпасов, артиллерии,танков.
Строго выдерживалось правило: ни на один день не оставлять противника в покое. По приказу Белова разведчики искали, находили и уточняли слабые места в обороне врага, а войска группы вели активные и непрерывные боевые действия. Они проникали в боевые порядки немцев, окружали его небольшие гарнизоны, захватывали отдельные опорные пункты. Такие действия вырывали из рук врага инициативу, не давали ему времени на перегруппировку и сосредоточение войск для активных действий. Противнику постоянно приходилось перебрасывать свои резервы с одного участка на другой. Только заканчивались бои в одном месте, как уже нужно было спешить на выручку окруженному гарнизону в другое место, нужно было закрывать образовавшиеся бреши в боевых порядках, охранять коммуникации, ремонтировать произведенные разведчиками разрушения. Группа Белова находилась в положении обороняющихся, но противнику не давала возможности выйти из такого же положения.
В больших и важных трудах провели разведчики весь март месяц. Были обнаружены и артиллерия и танки. Танкисты тут же приступили к их восстановлению, артиллеристы тоже. Автомобилисты нашли и начали ремонт автомашин, нашлись и тягачи для артиллерии. К апрелю месяцу при штабе группы было восстановлено пять танков и шел ремонт еще двух. Во 2-й партизанской дивизии отремонтировали четыре танка. В 1-й гв. кавдивизии, уже к 11 марта восстановили один танк и заканчивали ремонт еще двух.
Отличились и связисты под руководством начальника связи майора Л.М. Давыденко. Перед уходом в рейд он был помощником начальника связи корпуса полковника Буйко. Но
Буйко заболел и не мог пойти в тыл врага. 19 апреля генерал Белов ходатайствовал через начальника отдела кадров фронта Алексеева об утверждении Давыденко начальником связи. Просьба была удовлетворена. После войны генерал-майор Давыденко продолжал службу в рядах Советской Армии. Связисты, обнаружив некоторое количество имущества связи и кое-что получив от фронта, установили на всей территории группы устойчивую и безотказно действующую связь. Ими была восстановлена разрушенная линия государственной связи и, частично, районные линии.
Немалую работу провели и саперы. Они не только разведали рубежи прежней обороны и разыскали много инженерного имущества, но с помощью немногочисленных частей, не занятых в бою, начали восстанавливать такие рубежи, наводили мосты и готовили аэродромы.
Выполняя многочисленные задачи разведки, штаб группы Белова к апрелю месяцу уже имел довольно подробные данные о группировке, состоянии обороны и расположению огневых средств противника.
Неплохо была изучена и местность. Весьма серьезным и неприятным препятствием с наступлением весенней распутицы оказалась река Угра. Она дважды пересекала район группы, а значит и ее боевые порядки. Пришлось серьезно подумать о переправах через эту реку, но о таких переправах, которые не бросались бы в глаза воздушной разведке противника. Наводились, так называемые, наплавные и подводные мосты.
С наступлением весенней распутицы активные боевые действия на переднем крае приутихли, а кое-где и совсем прекратились. Наступило сравнительное затишье. Но разведчики ни на минуту не прекращали своих действий в тылу и на переднем крае врага.