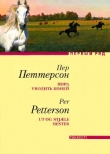Текст книги "Песни пьющих"
Автор книги: Ежи Пильх
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
4. Полсотенная купюра
В отделении для делирантов вспыхнул спор о плагиате. Кстати, попав туда впервые, я понятия не имел, что переступаю порог дома творчества, вливаюсь в сообщество тружеников пера, писателей, без устали сочиняющих делирантские автобиографии, поверяющих страницам обыкновенных общих тетрадей, именуемых дневниками чувств, самые сокровенные мысли, в поте лица своего трудящихся над алкашескими исповедями. В первой половине дня делиранты писали либо часами, ожидая вдохновения, бродили по коридорам с распухавшими по мере пребывания в отделении манускриптами под мышкой, после обеда выслушивали наставления доктора Гранады, психотерапевта Моисея, он же Я, Спиритус, или ординаторш, посещали лекции и сеансы групповой психотерапии, а по вечерам собирались на авторские чтения, после которых завязывались жаркие дискуссии. Во время одной из таких дискуссий многочисленная публика обвинила делирантку Марианну в том, что ее только что заслушанная исповедь поразительно похожа на прочитанную неделю назад исповедь делирантки Иоанны. Поскольку обе стороны избрали для защиты метод взаимных оскорблений, решить проблему, кто у кого списал видения пьяной ночи: делирантка Марианна у делирантки Иоанны или наоборот, – оказалось не так-то просто. Сообщество делирантов единогласно потребовало очной ставки: пускай на следующий день обе прочитают свои работы; затем, после обсуждения, можно будет путем голосования вынести вердикт.
Сочинение делирантки Марианны звучало примерно так:
«Было это 21 декабря 1985 года. Я проснулась в середине ночи. С похмелья меня жутко мутило, я была мокрая от пота и вся тряслась. Денег у меня не было ни гроша. Я знала, что у спящего в соседней комнате мужа деньги есть. Я прокралась туда, обыскала его костюм и в заднем кармане брюк нашла бумажник. Вынув из него пятьдесят злотых, я по-тихому оделась и пошла в ночной магазин, до которого было рукой подать. В магазине я купила шампанское, которое принесла домой. В кухне, не зажигая света – там и без того было светло, потому что мы живем на первом этаже и прямо за окном у нас неоновая уличная реклама, – я открыла это шампанское, хотя все время боялась, что пробка выстрелит и выстрел разбудит спящего мужа. Но мне повезло, я открыла бутылку бесшумно и за полчаса все выпила. И почувствовала себя гораздо лучше. Во мне появилась характерная отвага, и, уже не соблюдая осторожности и даже нагло включив в прихожей свет, я смело вышла из дома, чтобы выбросить бутылку на помойку. По дороге, однако, мне стукнуло в голову, что неплохо бы сделать запас на остаток ночи, а поскольку деньги я истратила не полностью, снова отправилась в ночной магазин и купила четвертинку белой. На этот раз, вернувшись домой, я опять пошла на кухню, хотя пить там не собиралась. Достала из буфета пол-литровую бутылку малинового сока, который сама приготовила летом из произрастающей на нашем садовом участке малины. Половину сока вылила в раковину, а к оставшейся половине через воронку добавила закупленную в ночном магазине водку. Правда, не целую четвертинку, потому что, пока я выливала сок в раковину, мне стало грустно и, еще до приготовления смеси, я отпила приличный глоток прямо из горла. Бутылку я несколько раз хорошенько встряхнула, чтобы водка хорошенько перемешалась с соком и казалось, что в бутылке чистый сок. Ведь я собиралась взять ее в комнату, лечь и отхлебывать, лежа в кровати. Я знала: это мне поможет, я буду хорошо спать, а когда проснусь, смогу для оттяжки в любую минуту выпить. Однако я учитывала, что могу крепко заснуть, и хотела, на всякий случай, чтобы муж, если проснется раньше и застанет около моей кровати бутылку, подумал, что это чистый сок. Пустую четвертинку я на помойку выносить не стала, спрятала за диван. И легла; время от времени, правда, просыпалась, но сразу отпивала глоток, и всю ночь мне было хорошо. Утром муж, хоть и не заметил ни бутылок, ни того, что мне пришлось ночью выходить, покупать и пить спиртное, зато заметил отсутствие в бумажнике пятидесяти злотых и начал громко предъявлять претензии. Поскольку меня опять мучило жуткое, подбивающее на агрессию похмелье, я устроила кабацкий скандал, оделась, собрала кое-какие вещи, и так начались мои скитания, которые, честно говоря, были сплошной беспробудной пьянкой».
Марианна прочла свое сочинение срывающимся голосом, поминутно утирая притворные, а может и настоящие, слезы: всеми доступными способами она давала понять, что это ее обокрали, что это у нее Иоанна все списала.
– Мне очень обидно, – сказала она в заключение, – что у меня украли мою жизнь. Сейчас я услышу краденое и уж не знаю, переживу ли. – На этот раз голос ее задрожал совершенно непроизвольно, и она разрыдалась, теперь, вне всяких сомнений, по-настоящему.
Но ее противница повела себя аналогично.
– Это у меня своровали мою жизнь, – сказала Иоанна, – и пока я слушала, как тут самым нахальным образом читают про мою присвоенную жизнь, я думала, что умру на месте.
Свою алкогольную исповедь она читала точь-в-точь как Марианна, у нее точно так же срывался голос, она точно так же утирала притворные, а может и настоящие, слезы; больше того, словно для усугубления гротескной симметрии обе утирали слезы одинаковыми платочками с бледно-розовыми кружавчиками.
Версия Иоанны звучала примерно так:
«Было это в середине ноября 1997 года. Я проснулась в три часа ночи в жутком состоянии. Бодун был страшный, что неудивительно, так как накануне я целый день пила. Меня всю колотило, и я была мокрая от пота. Я знала, что денег у меня нисколько. Жила я тогда с сестрой и ее мужем и догадывалась, что у зятя есть деньги. Зять почти совсем не пил и всегда был при деньгах.
Осторожно, чтобы их не разбудить, я открыла дверь к ним в комнату и вошла на цыпочках. Зять аккуратно вешал одежду в шкаф, и я знала, что там и надо искать. Однако я боялась, что, когда буду открывать шкаф, дверца может заскрипеть, и тогда проснется или сестра, или зять, или оба разом проснутся. Но мне повезло, шкаф открылся бесшумно. В кармане одного из висящих пиджаков зятя я нащупала бумажник. Не вынимая бумажник из кармана, я вслепую вытащила купюру. Я не знала, какая это купюра, и боялась, что ее номинал окажется слишком низким. Однако, когда я вернулась в свою комнату и проверила, оказалось, что мне удалось вытащить целую сотню, что меня даже обрадовало, но и слегка напугало; денег, правда, у меня теперь было выше крыши, но одновременно возникало опасение, что зять заметит отсутствие настолько внушительной суммы. В растерянности я, однако, пребывала недолго, вариант вернуться к ним в комнату, положить обратно в зятев бумажник сотенную купюру и попытаться найти что-нибудь помельче я даже не рассматривала. Тихонько одевшись, я вышла из квартиры и на лифте спустилась на первый этаж – так уж совпало, что в нашей башне на первом этаже ночной магазин. Я вошла туда и купила шампанское. Поскольку терпеть уже было невмоготу и поскольку я боялась, что, когда стану открывать дома шампанское, пробка выстрелит и разбудит спящих домочадцев, бутылку я открыла у двери лифта. Мои опасения были напрасны: пробка не выстрелила. Я села в лифт и нажала все двенадцать кнопок, так как мы живем на двенадцатом этаже. Благодаря этому лифт поминутно останавливался, и я на протяжении всего долгого, прерываемого частыми остановками подъема пила шампанское. Но пила, наверно, чересчур жадно, потому что, когда лифт наконец дополз до двенадцатого этажа, оказалось, что шампанского в бутылке уже на донышке. Поскольку денег оставалось еще много, а выпитые пузырьки меня здорово разохотили, я решила прикупить спиртного про запас. Снова спустилась вниз и снова вошла в ночной магазин.
На этот раз я взяла две четвертинки белой. Одну я намеревалась спрятать на черный день, а вторую смешать с кока-колой, пол-литровую бутылку которой я тоже купила. По возвращении домой я продолжала соблюдать осторожность, но чувствовала себя гораздо свободнее. Часть кока-колы я выпила, часть вылила в раковину: я старалась так рассчитать, чтобы в бутылке осталась ровно половина, что мне полностью удалось. К оставшейся кока-коле я добавила четвертинку водки, чтобы казалось, будто я пью чистую колу. Пустую водочную бутылку спрятала за холодильник. Эта как бы кола, которую я собиралась поставить около своей диван-кровати, выглядела бледновато, но меня это не напрягало: зять был помешан на здоровом питании, не пил никаких газированных напитков и наверняка не знал толком, какая на вкус и на цвет настоящая кола. Сестры я не боялась, зная, что в случае чего она встанет на мою сторону или, по крайней мере, меня прикроет. Я легла и, отхлебывая из бутылки в минуты пробуждения, хорошо спала практически целую ночь. Утром, хотя оказалось, что зять не заметил ни отсутствия сотенной купюры, ни странноватого цвета колы, которой, впрочем, осталось всего ничего, сестра на ровном месте устроила мне скандал. Слова не сказав, я собралась и покинула этот негостеприимный дом. Я была спокойна, у меня оставалось еще около сорока злотых, а на дне сумки лежала четвертинка.
Не знаю, куда меня понесло, не знаю, долго ли продолжался запой, не знаю, как я здесь очутилась. Так или иначе, сейчас я изо всех сил хочу бросить пить».
К дискуссии, развернувшейся после выступления авторов и, вопреки ожиданиям, протекавшей довольно вяло, я прислушивался с замиранием сердца. Самый Неуловимый Террорист взял сторону Иоанны, Королева Красоты – Марианны. Сестра Виола подчеркивала, что списывание, во-первых, никоим образом не способствует излечению, а во-вторых, неэтично. Колумб Первооткрыватель утверждал, что списывать, конечно, плохо, но, быть может, и что-то хорошее в этом есть: авторы, хоть и неосознанно, руководствовались добрыми намерениями – не исключено, что они распознали поразительное сходство своих приключений и общность судеб. Доктор Гранада и психотерапевт Моисей, он же Я, Спиритус, молчали.
– В восемьдесят пятом году никак нельзя было купить пузырь за полсотни, – отозвался под конец сидевший у стены Дон Жуан Лопатка, тем самым вроде как предлагая разрешить спор в пользу Иоанны.
Я с замиранием сердца выслушал мнения собравшихся, но ничего не сказал, хотя должен был, безусловно должен был, просто был обязан, с какой стороны ни глянь, взять слово – ведь это я был автором обеих спорных работ.
Когда меня привезли в отделение для делирантов, на мне была провонявшая блевотиной рубашка и пригодные только для публичного сожжения в котельной брюки. При себе я не имел ни одного злотого, ни одной сигареты, у меня не было ни белья, ни мыла, ни зубной щетки, ничего. Однако, если не через неделю, то уж точно через две я начал обрастать разным добром. Теперь, по прошествии шести месяцев (за вычетом перерывов, после которых я сюда в беспамятстве возвращался), на мне элегантный, цвета травы спортивный костюм. В верхнем кармашке позвякивают пятаки, тумбочка завалена бананами, апельсинами, шоколадными конфетами и прочими лакомствами. Открывая ящик, я вижу поистине беспредельный запас сигарет. Каждая шоколадка, каждый пятак, каждая банка ананасового компота – эквивалент по крайней мере одной написанной мною делирантской исповеди или одного дневника чувств.
Когда по отделению разнеслась весть (а разнеслась она молниеносно или, скажем, со скоростью выпущенной из лука стрелы), что на гражданке я занимаюсь сочинительством, не слишком искусные по письменной части делиранты стали дружно обращаться ко мне за – небескорыстной, разумеется, – помощью. И я им помогал – с чистой, надо сказать, совестью. Я не столько за них писал, сколько переносил на бумагу их речи. (Конечно, бывали случаи, когда приходилось кое-что менять: в случае Самого Неуловимого Террориста, например, я вынужден был написать все от «а» до «я», – но, как правило, я писал под их бессознательную диктовку. Они рассказывали истории из своей жизни, я же, внося только мелкие стилистические поправки, практически слово в слово записывал все, что они говорили.) В конце концов, нет большого секрета – ни литературного, ни экзистенциального – в том, что говорить умеют все, а записывать свои речи способен далеко не каждый. Да, порой я искажал их чересчур гладкие фразы, добиваясь необходимой для правдоподобия шероховатости, но если подобная стилизация для кого-то что-то и значила, так этим человеком был я, а не они.
Иными словами, я не был писателем, сочиняющим в отделении для делирантов подписываемые чужими фамилиями тексты. Я был секретарем чужих умов. Как Иоанна, так и Марианна продиктовали мне свои ночные кошмары, я же – уверен – записал эти кошмары буквально. И уверен, что об извлеченной из мужнина кармана полсотенной купюре Марианна говорила с искренним волнением, ничего не придумывая и все еще продолжая испытывать страх.
5. Пролегомены идеального порядка
Говорят, чрезмерная любовь к порядку свидетельствует об отвратительном состоянии нервной системы – в моем случае так оно и есть: и любовь к порядку у меня чрезмерная, и нервы никуда. Предметы без устали меня атакуют, я вынужден сопротивляться, рано или поздно это превращается в бесплодную борьбу с ветряными мельницами, но на короткий срок, на скромной площади в сорок восемь квадратных метров (две комнаты с кухней) их все же удается приструнить. Беда в другом: сплошь и рядом просто забываешь, куда чего кладешь. Не подумайте, будто я чванливо и лицемерно утверждаю, что погруженному в размышления о высоких материях уму не до мелочей, что постоянно думать о мелочах вредно; я так не говорю, хотя, возможно, это чистая правда, я так не говорю, хотя почти наверняка это чистая правда. Можно ли считать яблоко, упавшее на голову Исаака Ньютона, мелочью? Космическая мелочь, скажете? Да других и не существует. Сто тысяч бочек арестантов! Не нужно призывать законы мироздания на защиту вечно теряющихся зажигалок, кошельков, документов, перьевых и шариковых авторучек, рукописей, книжек, носков, пепельниц, шарфов, перчаток und so weiter[2]2
И так далее (нем.).
[Закрыть]. Так же, как не нужно в этой связи – в связи с безобразным поведением вещей – ссылаться на «размышления о высоких материях». Постоянная сосредоточенность на мелочах необязательно должна нарушать ход «размышлений о высоких материях», достаточно, что она нарушает повседневные размышления, и не просто нарушает, а разрушает – если мыслишь целыми фразами. Я, к примеру, мыслю целыми фразами. Скажу больше: я еще жив благодаря тому, что, проявляя отчаянное упорство, мыслю целыми фразами. И не сочтите это графоманским тренингом, хотя для литератора нет ничего важнее умения мыслить целыми фразами. С пронзительной печалью я думаю о той минуте, когда последние абзацы, фразы, фрагменты фраз выветрятся из моей головы и там останутся лишь неразборчивые каракули, призраки названий, миражи. Это конец. Ироикомический выбор между слабоумием и смертью ни в малейшей степени меня не привлекает.
Когда думаешь – пускай только короткими, простыми, нераспространенными, но все же целыми предложениями, – нельзя одновременно думать о мелочах, например, о том, куда ты положил ключи. Ключи должны лежать на своем месте. Возможно, плодом неустанной работы над фразами о пропавших ключах могли бы стать захватывающие литературные произведения для избранных, но захватывающие литературные произведения для избранных следует выдавать дозировано. Ключи должны лежать на своем месте. Ключи должны лежать на своем месте? Боже мой. Боже правый. Ты, который все для меня делаешь, скажи: неужели ради этого я изливаю на бумагу свое отчаяние? Неужели ради этого часами просиживаю с пером в руке? Ради того, чтобы мой изощренный мозг открыл ньютонову истину, что ключи должны лежать на своем месте? Ради такой истины я загубил свою жизнь? Ради такой истины у меня дрожат руки и разрушается печень? Ради такой истины я опустился на дно бездны? Однако, с другой стороны, ключи должны лежать на месте. Если бы Ася Катастрофа клала ключи на место, я бы ее любил, она была бы любовью всей моей жизни, любовью до гроба, мы всегда были бы вместе.
6. Ася Катастрофа
Ася Катастрофа была красивая, умная и высокая. Сплошные достоинства. Кроме того – что для меня имеет первостепенное значение, – она классно одевалась и пользовалась классной косметикой. Но… Ася Катастрофа входила в квартиру и – шмяк пальтишко, шмяк сапожки, шмяк сумочка. После пятнадцатиминутного пребывания Аси на моей территории (занимаемая ею территория – девичий покой в загородной вилле – описанию не поддается), на моей территории начинался… Я чуть было не написал «апокалипсис», но удержался: во-первых, это прозвучало бы, на мой вкус, чересчур остроумно – «апокалипсис после катастрофы»; во-вторых, было бы неправдой, начинался не апокалипсис, начинался карнавал, что в тыщу раз хуже апокалипсиса, после апокалипсиса, скорее всего, нечего было бы убирать, а после нашествия Аси Катастрофы я и принадлежащие мне предметы приходили в себя очень долго.
Шмяк шарфик, шмяк шейный платок, шмяк чашка, шмяк блузка, шмяк газета, шмяк книжка, шмяк юбка… «Ася, – терпеливо объяснял я, – свобода не означает, что выходные туфельки следует бросать посреди комнаты».
Если бы это свидетельствовало исключительно о хищной чувственности – тогда б еще полбеды. Наши изголодавшиеся тела накидываются друг на друга, срывают одежду, и – как во французском или американском фильме о любви: разбросанные по пушистому изумрудному ковру туфельки, платье, колготки, рубашка, черные джинсы, кружевные трусики и семейные трусы обозначают путь, ведущий к голливудской кровати. Увы, Ася устраивала вокруг себя хаос не только на пути в кровать, как раз на пути в кровать она устраивала (мы устраивали) меньший хаос, наша чувственность была хищной, но, поскольку нам обоим были известны законы искусства, мы, в целях обострения чувственности, умеряли ее хищность – первое правило: никакой спешки. Так ли, сяк ли, целые сутки, то есть целую вечность выходные туфельки – посреди комнаты. А также пряжка для волос, пепельница, старинная молочная бутылка, карандаш для бровей, шампунь «Пальмолив», вчерашняя «Газета выборча», влажное полотенце, обертка от плитки молочного шоколада, упаковка от чипсов, упаковки от всего, всё.
Ах, Ася Катастрофа была не лыком шита и отлично знала, что свобода не означает, будто выходные туфельки следует бросать посреди комнаты, с Асей о понятии «свобода», а также о многих иных понятиях можно было вести долгие интересные разговоры. Ася изучала экономику и изящные искусства, Ася была из очень хорошей семьи. Отец – директор элитарной гимназии, по образованию историк, а также – как выяснилось после падения коммунизма – владелец домов и земельных участков; мать – зубной врач с многолетним стажем и кабинетом в центре Старого города, элегантная, ухоженная, удручающе соблазнительная в своей перезрелости.
Не могу сказать, что во время одного-единственного воскресного обеда в загородной резиденции семейства Катастрофа совесть у меня была чиста. Какое там чиста! – совесть моя была очень даже нечиста, я был нечист как боров и голоден как волк. Все, что ни подавали на стол, я пожирал с волчьим аппетитом и по-волчьи пожирал глазами особу, которая чуть не стала моей тещей: на ней было желтое воздушное платье, а желтые платья всегда действуют на меня ошеломляюще. Я ел бульон с клецками, заливной телячий язык, жаркое из телятины по-охотничьи, фруктовый салат, мороженое, ел и наступал на горло рвущейся из меня разнузданной песне. Я был тогда в фантастической форме, я вообще не пил, не пил ничего, кроме минеральной воды без газа (при коммунизме минеральной воды без газа не было), не выпил ни капли вина за обедом, ни наперстка ликера за десертом, поданный к кофе коньяк даже не пригубил, а пополудни, естественно, отказался от предложенного хозяином дома стаканчика «Джека Дэниэлса». Я вообще не пил, и меня это нисколько не угнетало, я был в отличной форме, слушал, говорил, сдерживал развивающийся в уме сюжет порнографической новеллы об интимных отношениях с матерью и дочерью разом – однако сдерживал не настолько, чтобы он совсем угас, сдерживал ровно настолько, чтобы он не вытеснял прочие мысли, а тлел на их фоне. Я принимал живое участие в беседе и с неподдельным интересом выслушивал суждения хозяев, свидетельствующие об их, весьма, кстати, обширных, литературных познаниях. Пан Катастрофа – немецкоязычная литература, предпочтительно австрийцы XX века; пани Катастрофа – латиноамериканская литература без особых предпочтений; Ася – русская и американская литература, в первую очередь Владимир Набоков. Я слушал, говорил, по поводу Набокова высказал очень смелую (в моем положении) мысль о том, что дьявольская, темная проницательность этого писателя и блестящее владение бесстрастной формой идеально предрасполагали к беллетризованному изложению результатов исследования известного порока; к сожалению, добавил я с фривольностью эрудита, слухи о тяжелейшем алкоголизме писателя оказались ложными. Я слушал, говорил, признавался в своих литературных пристрастиях, а потом, когда смерилось, оказался в Асином девичьем покое.
– Видишь, как замечательно я убралась, – шептала Ася, – это для тебя, для тебя я навела порядок.
Действительно, в комнате царила настораживающая, противная не только Асиной, но и вообще человеческой натуре симметрия; невооруженным глазом было видно, что здесь возведен показушный, потемкинский монумент образцового порядка, который того и гляди рухнет.
– Ася, я люблю тебя в хаосе, люблю тебя среди твоих разбросанных вещей.
Но Ася, явно окрыленная приобщением к новому для нее искусству гармоничного размещения предметов, пропустила мимо ушей мое признание, а может быть, не поняла его поэтической глубины.
– Даже ключи, – шептала она с ребячьим пылом, – даже ключи я теперь кладу на место. И сегодня утром, представь, сегодня утром я не могла их найти – не могла найти ключи, так как забыла, что положила их на место.
Я чувствовал, как от волнения у меня перехватывает горло – меня взволновала реальная перспектива провести остаток дней своих с Асей Катастрофой.
– Я тебя Люблю, – повторил я, – я тебя люблю независимо оттого, куда ты кладешь ключи.
– Пойдем, – сказала Ася и взяла меня за руку, и повела по лестнице на второй этаж, и открыла дверь в глубине коридора. Я увидел еще не обставленную комнату с белыми стенами; там было светло и тихо. Из окна открывался вид, о котором может только мечтать графоман: внизу лежал остывающий город, над ним сгущались массы знойного воздуха, переулки зарастали азиатской травой темноты, в далеких окнах загорались первые огни.
– Здесь у тебя будет свое кресло, свои стеллажи, книги и письменный стол, здесь ты сможешь писать, – сказала Ася, а я понял, что грядет великая и неотвратимая перемена, которую я с давних пор ждал и в осуществимости которой с годами начал сомневаться. Я понял, что отныне жизнь моя изменится и исправится, и нежно, будто душу, дарующую новую жизнь, нежно и осторожно заключил Асю в объятия.
А потом, уже ночью, когда все взрослые давно спали и в нашей части земного шара погасли почти все огни, я вызвал по телефону такси (при коммунизме радиотакси не было), сладко зевающая Ася проводила меня до садовой калитки, за которой уже ждал белый «мерседес», спи спокойно, Ася. Такси ехало по темному пригороду, с обеих сторон – пустые поля, непрочные стены домов, я готов был обнять весь мир, мне понравилось даже то, что за мной приехал не какой-нибудь там «фиат», а белый «мерседес».
Я сидел, удобно развалившись, и высматривал освещенные окна – меня всегда притягивали окна, в которых поздней ночью горел свет, кто-то ночь напролет читал главную книгу своей жизни, кто-то умирал, кто-то задыхался от страшного кашля, кто-то просыпался с криком от кошмарного сна, кто-то кого-то обнимал, кто-то принимал успокоительное, кто-то плакал от тоски, кто-то шел в туалет. Я посмотрел на часы, было три утра, созвездия наверху перемещались как зыбучие пески, мы на минутку остановились перед круглосуточно работающим магазином и вот уже ехали дальше по пустой мостовой. В моей темной башне никто не бодрствовал, никто не умирал, никто не читал захватывающую книгу, но то были последние мгновенья всеобщего сна: сейчас на двенадцатом этаже загорится свет. И загорелся свет на двенадцатом этаже, и горел непрерывно сорок дней и сорок ночей, и сорок дней и ночей я непрерывно пил. Над моим бесчувственным телом светила лампочка, занимались зори, опускались сумерки, моя бесчувственная рука тянулась к бутылке и вливала водку в бесчувственное горло, постельное белье и кожа зарастали хитиновым панцирем блевотины, разруха поселилась в доме моем. Господи, беспорядок, который устраивала Ася Катастрофа, был образцовым порядком по сравнению с тем, что учинял я, когда ползал на четвереньках в поисках припрятанной на черный день бутылки (содержимое которой давно кануло в оцепенелое нутро, черный день давно миновал, и все последующие дни тоже были черными, один чернее другого) или когда в смутном проблеске сознания доползал до телефона, чтобы сделать ритуальный заказ. Мне, пожалуйста, две бутылки абрикосовой палинки и большую кока-колу. Диктую адрес. При коммунизме системы заказов по телефону не было.