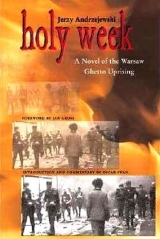
Текст книги "Страстная неделя"
Автор книги: Ежи Анджеевский
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Один из солдат отделился от своих товарищей и направился к калитке. Чуть погодя двое других последовали за ним. Юлек потерял их из виду. Потом услышал скрип ворот и тяжелые, мерные шаги перед домом. Сердце на миг остановилось. Он стиснул кулаки, зажмурил глаза, и тотчас мучительное напряжение ослабло, им овладело спокойствие. Он уже протянул руку к револьверу, чтобы спрятать его меж балконных дверей, когда позади дома, со стороны поля, грянула автоматная очередь. Эхо повторило ее.
Солдаты внизу остановились. Слышны были их голоса. Потом они поспешно повернули назад. Стало тихо. Снова защелкали выстрелы, – теперь уже явно удаляясь, – где-то там, в глубине мрака.
Юлек сунул револьвер в карман брюк и откинул волосы. «Пронесло», – подумал он.
Пройдя в прихожую, он отворил дверь в столовую. Шторы затемнения были опущены, горел яркий свет. Ян сидел с книгой у стола, рядом Анна раскладывала пасьянс. Только Ирена не прикидывалась занятой. Она как-то сжалась вся, сидела бледная, лицо осунулось, не могла унять дрожание рук. Сейчас не требовалось особой наблюдательности, чтобы распознать в ней еврейку.
При виде Юлека Ян отодвинул книжку, вскочил.
– Ушли?
Юлек презрительно махнул рукой.
– Надеюсь, тот парень не даст себя поймать. Сюда они уже не вернутся, можем спать спокойно.
Автоматы снова застрочили, на этот раз где-то далеко. Это уже походило на беспорядочную пальбу устрашения ради.
Юлек перегнулся через стол к Анне, которая продолжала невозмутимо раскладывать пасьянс.
– Ну как? – спросил он мягко. – Выходит?
Анна подняла голову и спокойно отложила карты.
– Увы! – улыбнулась она. – Не может выйти, я ошиблась в самом начале.
Он ничего не ответил.
– Ну, – промолвил Ян, – прямо скажем, происшествие не из приятных.
Ирена вдруг поднялась.
– Послушайте! Снова голоса.
Они минуту прислушивались. Тишина была полная.
– Ничего не слышно, – определил Юлек. – Точно! У меня хороший слух.
Но Ирена, не доверяя, прошла в мастерскую. И минуту спустя тихо их окликнула.
Она стояла посреди комнаты, лицом к балкону.
– Поглядите! – шепнула она охрипшим голосом. – Как там светло…
Тьму ночи освещало вдали огромное, взмывающее высоко в небо, розовое зарево.
– Горит! – сказал Юлек.
Сияние ширилось, становилось все более кровавым. Пожар охватил весь ночной небосвод.
Малецкие еще долго не спали. Юлек, едва успев раздеться и с шумом скинуть на пол сапоги, мгновенно, видимо, заснул: когда Ян шел из ванной, в столовой было темно и тихо. В мастерской свет тоже был погашен. Но оттуда доносились приглушенные, кружившие по комнате шаги.
Анна уже лежала. Он присел рядом, положил ладонь на ее руку.
– Устала?
Да, она устала.
– Ужасный день, – подтвердил он. – Многовато, пожалуй, на один-то раз…
Свет лампы резал Анне глаза, он отодвинул лампу и склонился над женой.
– Ты мне должна была что-то сказать. Помнишь?
Она только кивнула.
– Что же?
– Всякие такие мысли…
– Не хочешь говорить?
Она чуть приподнялась и оперлась на локоть.
– Предпочла бы не говорить, – искренне призналась она и поспешно объяснила:– Это никакая не тайна, родной! Просто трудно говорить об этом…
– О чем?
– О том! – Она показала глазами в сторону окна.
Он догадался, что она имела в виду восстание в гетто.
– Понимаю, – согласился он.
– Вот видишь! Мне как-то стыдно слов, когда я думаю о тех людях и о том, что их ждет. И когда о нас думаю, о нас, по эту сторону.
– Нас гибнет еще больше.
– Да, – ответила она, – но по-другому, не так.
Она хотела еще сказать, сколь важна и необходима для нее вера, в которой она выросла и верность которой сохраняла, находя в ней понимание вечного смысла и порядка в мире. И еще, что ей, верующей католичке, трагедия евреев, с веками все более обостряющаяся, представляется самым мучительным испытанием для совести христианина. Кого же, как не христиан, должна волновать жестокая судьба несчастнейшего из народов, племени, которое, однажды отринув истину, платит за это немыслимыми страданиями, унижениями и оскорблениями? Кто же, если не христианин, должен делать все, чтобы облегчить долю несчастных и разделить одиночество тех, кто умирает без надежды? Она много думала обо всем об этом, но не могла себе позволить высказать свои мысли вслух.
Ян больше не настаивал. Он лег и погасил свет.
– Знаешь, – чуть погодя проговорила Анна в темноте. – К будущей пасхе наш ребенок уже вырастет большой, а там и ходить начнет…
Он сразу последовал за ходом ее мыслей, чтобы избавиться от собственных.
– К будущему лету должен уже пойти.
– К будущему лету! – повторила она. – Вроде бы так просто это звучит, так буднично, правда?
– Год.
– Да. Но как подумаешь, что будет через год, словно в кромешный мрак заглядываешь. Ты можешь вообразить себе, что нашему ребенку, как и нам, тоже придется когда-нибудь пережить такое ужасное время?
Ян, положив руки под голову, смотрел вверх, во тьму.
– Наши родители тоже не могли себе этого вообразить.
– Не говори так! – шепнула она с оттенком упрека. – Еще совсем недавно я думала, что мир никогда не изменится. Но теперь уже не могу так думать. Я должна верить, что наш ребенок в другие, лучшие времена будет расти человеком…
Они долго молчали.
– Засыпаешь? – спросила она.
– Нет! – ответил он голосом отнюдь не сонным.
– А там, наверно, все еще горит.
Он сел на кровати.
– Сейчас взгляну!
Он откинул одеяло и, босиком подойдя к окну, поднял светомаскировочную штору.
Зарево было огромное, больше прежнего, его кровавый отблеск освещал всю южную сторону неба.
Ян отворил окно и выглянул наружу. Ночь была холодная. Пахло весной. Очень издалека доносились мерно пульсирующие отголоски выстрелов. И так беспрерывно, всю ночь…
– Слышишь?
– Да! – шепнула она.
Чем дольше он прислушивался, тем более грозной и зловещей казалась сотрясаемая выстрелами пылающая тьма. Внезапно он вздрогнул. Незнакомый, пронзительный звук, какого он никогда в жизни не слышал, вырвался из глубин мрака.
Анна вскочила, встала на колени в постели.
– Что это?
Ян невольно отпрянул от окна.
– Не знаю… Но ведь это невозможно?
– Закрой окно! – попросила Анна. – Такое нельзя слушать.
Не успел он исполнить ее просьбу, как Ирена, видимо пробудившись от первого сна, выбежала из мастерской в коридор.
Ян быстро отворил дверь в прихожую и повернул выключатель. Ирена стояла в дверях ванной, в одной рубашке, вся сжавшись, дрожа, стиснув ладонями уши.
– Ты слышал? – Она взглянула на него безумными глазами. – Что это? Кто так кричит? Ведь не люди же?
III
Назавтра пожар еще усилился. Пока что трудно было определить, кто поджигал дома: немцы или евреи, отступающие от стен в глубь гетто. Только позже стало известно, что немцы.
Одними из первых, а именно в ночь с двадцатого на двадцать первое, заполыхали большие дома на Бонифратерской, те самые, в которых евреи так упорно защищались. От них занялись соседние дома, и, когда Малецкий, как обычно к восьми утра, ехал в свою контору, над гетто уже издалека видны были огромные, достигавшие зенита клубы черного дыма. День был погожий, но ветреный, и ветер, дующий с той стороны, доносил едкий запах гари до самого Жолибожа.
С Бонифратерской сражение перенеслось теперь на Муранов и на Ставки; бои, судя по всему, были ожесточенные: даже в самом конце жолибожского виадука, куда доходили трамваи, все сотрясалось от непрекращавшейся канонады. Одной из повстанческих групп ранним утром удалось как будто выбраться за стены и завязать уличные бои даже у фортов Цитадели. Но сейчас в тех кварталах воцарилось спокойствие. Улочки, выходящие к стенам гетто, патрулировали усиленные наряды солдат.
Между тем раздуваемые ветром пожары обдавали зноем Бонифратерскую. Хотя день стоял солнечный, воздух вокруг сделался серо-голубым, стеклянистым. Люди в этом странном свечении походили на тени. Толпы спешивших из Жолибожа, из Марымонта и Белян молча выходили из трамваев и так же молча, торопливо пересаживались в кузова грузовиков, которые довозили их до центра. Один за другим грузовики отъезжали, громко тарахтя средь тишины.
В глубине опустевшей, замершей Бонифратерской воздух становился все темнее. Из нутра одного из отдаленных домов меж клубов черного дыма выползали красные верткие языки огня.
Была Страстная среда.
Малецкому предстояло сперва уладить дело фирмы, о котором он напрочь позабыл во вчерашней сумятице, потом весь день у него была масса работы, так что домой он направился уже незадолго до комендантского часа. Занятый своими делами, он не успел даже съездить в Мокотов к супругам Маковским.
В сумерках пожары выглядели еще грознее, чем утром. Горели новые дома – совсем близко к теперешней конечной трамвайной остановке.
Когда Малецкий сошел с повозки, горела как раз крыша углового дома на перекрестке Бонифратерской и Мурановской. Здание было пятиэтажное, и огонь клокотал и бушевал высоко над землей. Вокруг все почернело от густого дыма. Ветер сметал огненные искры на крыши соседних с гетто домов. У одного из них, наиболее угрожаемого, стояла пожарная команда. Маленькие черные фигурки людей шныряли по крыше средь дыма и огня.
В Муранове борьба продолжалась. Грохотали пулеметы и автоматы. Время от времени мощные взрывы сотрясали землю.
Из белянского района весь день видны были пожары. Выглядели они не столь грозно, как ночью, однако клубы дыма, вздымающиеся в ясном небе, постоянно напоминали о том, что творится в городе. Взрывы тоже были слышны.
Ирена, то ли притворяясь, то ли и вправду победив нервное напряжение, сравнительно с вчерашним днем держалась очень спокойно. К тому же у Малецкой было много хозяйственных дел, и она так сумела вовлечь Ирену в будничные хлопоты, что та, казалось, временами совсем забывала о своих тревогах.
Зато Анне в тот день спокойствие давалось с трудом. Хотя особых поводов тревожиться о муже не было, она нервничала уже оттого, что его весь день не будет дома.
Юлек вскочил очень рано, еще до шести. Оделся в этот раз на редкость тихо, дверями не хлопал и ушел бы, наверное, без завтрака, если бы Анна, которая как раз проснулась, не вышла и не задержала его в прихожей.
Весь дом еще спал. Вокруг было тихо, снаружи едва светлело.
– Погоди, – шепнула она. – Тебе поесть надо.
Он бурно запротестовал, это, мол, совсем не нужно. Однако на кухню все же пошел. Был он уже в плаще и шапке.
– Разденься, – предложила она. – Я сейчас кофе поставлю.
– Но у меня в самом деле нет времени, – объяснял он. – Это не имеет смысла, мне надо ехать!
Он говорил так убежденно, что она заколебалась.
– В самом деле? Но ведь это быстро… каких-нибудь десять – пятнадцать минут. Через четверть часа пойдешь!
Он подумал, что расстроит ее, если уйдет без завтрака, и согласился.
– Ну хорошо.
Анна просияла.
– Вот видишь!
Она зажгла газ и поставила воду для кофе. Потом накрыла скатертью стол у окна и стала вынимать из буфета хлеб, масло, творог. Юлек, все еще в плаще и в шапке, молча наблюдал за нею. Она заметила это.
– Почему не раздеваешься? Ну, сними же плащ!
– Снимаю! – Юлек словно очнулся от задумчивости.
Он подсел к столу, все так же глядя на Анну. Она стояла у плиты, ожидая, пока закипит вода.
– Знаешь, – сказал он наконец. – Семейный очаг это, однако, неплохо придумано.
Она обернулась к нему.
– Конечно! Ты только сейчас это заметил?
– Да, – искренне признался он. – Ведь мы с Янеком по сути воспитывались вне семьи.
Родителей, поселившихся в провинции в Люблинском воеводстве, они потеряли очень рано. Ян кончил к тому времени гимназию, а Юлеку едва исполнилось десять. С тех пор они жили вместе, снимая комнаты; немного помогал им только дядя, бухгалтер крупного сахарного завода в Поморье – изредка высылал небольшие деньги. С шестнадцати лет Юлек стал совсем самостоятельным и жил отдельно.
– Женись! – серьезно сказала Анна.
Юлек рассмеялся.
– После войны! – И, как бы шутя, добавил:– Разумеется, если встречу женщину, похожую на тебя.
Анна покраснела и склонилась к уже закипавшей воде.
– Я вижу, ты начинаешь говорить мне комплименты?
– Нет, это правда! – сказал он уже другим, серьезным тоном.
Через четверть часа, как Анна и обещала, он позавтракал.
– Когда приедешь? – спросила она, когда он поднялся из-за стола.
– Не знаю, – медленно ответил Юлек, надевая плащ. – Ничего еще не знаю. Есть у меня кое-какие планы, но что из этого получится…
Так что целый день Анна провела вдвоем с Иреной. Ближе к полудню к ней зашла Карская.
Пани Карская, которая обычно принимала на веру все кружившие в городе слухи, принесла на этот раз весть, как она утверждала, из очень надежного источника о том, что готовится восстание. По ее сведениям, оно должно вот-вот начаться. Потом она подробно рассказала о последних политических покушениях. Они и в самом деле случались теперь очень часто. Суток не проходило, чтобы среди бела дня не застрелили нескольких немецких чиновников, жандармов или гестаповцев. Разумеется, Карская несколько сгущала краски. Еще она утверждала, что вся история с гетто это начало конца и предвещает большие события.
Она была возбуждена, говорила быстро и нервно, куря сигарету за сигаретой. О ночной перестрелке она тоже успела собрать множество подробностей. Говорили, что в одном из домов на Цегловской улице обнаружен склад боеприпасов. По другой версии, там были вовсе не боеприпасы, а тайная типография. На самом же деле, как позднее узнала Анна, масштабы ночного происшествия были не очень значительны; просто немецкий патруль наткнулся после комендантского часа на двух молодых людей. Один из них был убит на месте, другому, кажется, удалось бежать.
Когда пани Карская управилась наконец с клубком свежайших новостей, она перешла на другую тему: о постоянно возникавших прогнозах на будущее. Предполагают, говорила она, что нынешний год должен стать последним годом войны. Создавалось впечатление, что пани Карская черпает из весьма сомнительной и мутной молвы слишком много надежды. А может, так только казалось, и для ее оптимизма вовсе не было никаких оснований. Но на что-то надо же опереться! Жизнь ей выпала очень трудная. Кроме мужа, находившегося в плену, у нее не было близких, и ей приходилось надрываться, чтобы прокормить подросшего Влодека и маленькую Тереску, да к тому же посылать продуктовые посылки мужу в лагерь. У нее вечно была куча неотложных дел, бесчисленных сделок и операций, из которых, как правило, ничего или почти ничего не выходило.
Вот и теперь, хотя Карская и жаловалась на небольшую температурку – у нее были слабые легкие, – она спешила в город, поскольку кто-то из знакомых позвонил, что у него по случаю есть для продажи пятьсот пар мужских ботинок. Она надеялась найти на них покупателя и, хотя никого пока не присмотрела, стала подсчитывать предполагаемый заработок и даже планировать, что из самого необходимого сможет купить на эти деньги. Увы, даже куда более значительной суммы ей не хватило бы, чтобы свести концы с концами. Принявшись перечислять, что нужно ей для дома, она сама была поражена.
– Ну просто руки опускаются! – приуныла она. – Понятия не имею, что буду делать, если не продам те ботинки.
Однако же самым большим ее огорчением, причиной постоянных забот и тревог был Влодек. Хотя он выказывал глубокую привязанность к матери, она чувствовала, что за последний год он все больше ускользает из-под ее опеки. Теперь она уже не всегда знала, где он проводит долгие часы вне дома, когда вернется и с какими людьми общается. От ее вопросов он отделывался уклончивыми ответами, общими словами, из-за этого она мучилась в одиночестве, предполагая наихудшее. Целыми днями и средь ночи, пробудившись ото сна, она терзалась страхами, что Влодек может совершить какой-нибудь глупый, безумный поступок, опрометчиво позволит втянуть себя в неотвратимое, слишком трудное и серьезное для его шестнадцати лет дело.
Она никак не могла осознать, что Влодек перестал быть ребенком. Он был ее самой большой любовью, ее гордостью и надеждой. И вместе с тем, – хотя в каких-то высказываниях сына, в его мимолетных взглядах и недомолвках, даже в его нежных улыбках и ласках она угадывала грозящую мальчику опасность, – пани Карская все же не смела открыто протестовать, врываться в его тайную, неведомую ей жизнь.
Она неоднократно решала поговорить с Влодеком серьезно и принципиально, однако боялась его аргументов. Предвидела их. Чувствовала, что не смогла бы противостоять им, ибо они опирались на те истины, которые она сама внушала сыну с младенческих лет.
Обо всем этом она долго размышляла, прежде чем решилась сойти вниз к Малецкой, в надежде узнать подробности вчерашнего разговора Влодека с Юлеком. Младшего Малецкого она лично не знала. Только слышала о нем от Влодека. Он несколько раз упоминал в последнее время о Юлеке в связи с частыми молодежными сборищами, на которых, по словам Влодека, они занимались самообразованием. О Юлеке Малецком Влодек говорил вскользь и равнодушно, но пани Карская научилась многое угадывать в сыне и знала, что за скупыми фразами, за нарочито холодным и даже ироничным тоном он обычно скрывает страстное восхищение и самую горячую привязанность.
Получилось же, что она долго говорила с Анной вовсе не о том, о чем ей более всего хотелось говорить, да так и ушла, даже не затронув самую важную тему.
Из-за военной дороговизны и больших расходов в связи с ожидаемым прибавлением семейства Малецкие не намеревались в этом году праздновать Пасху. Однако
Анна решила сделать мужу сюрприз и тайно от него испечь незамысловатые мазурки. Ирене эта идея очень понравилась. Она тотчас стала припоминать разные рецепты мазурков, какие пеклись у них в Смуге. Увы, все они были слишком дорогостоящие или, из-за нынешних нехваток, недоступные. В конце концов, после долгих обсуждений, наиболее подходящим был признан рецепт уже военного происхождения, придуманный пани Карской. Ирена жалела, что из лильеновских шедевров ничего не получится, однако же очень увлеклась идеей мазурков и усердно помогала Анне.
Обед планировался на вечер, а к возвращению Яна Анна приготовила второй завтрак – так, в кухонных хлопотах, у них с Иреной ушло время до полудня. После завтрака Анне надо было выйти за разными покупками.
День был ясный и теплый, пронизанный солнцем. Только небо, над Белянами чистое, весеннее, затемнял над городом дым пожаров. Но борьба велась далеко, за позорными стенами гибли люди, которых многие считали чужаками, и ни их одинокая оборона, ни предрешенная их судьба не меняли течения жизни.
Спускаясь по ступенькам помещавшейся в подвале лавки Банасяка, Анна наткнулась на толстуху Пётровскую. С огромной сумкой, полной снеди, та как раз взбиралась вверх по лестнице.
– О, пани Малецкая, я вижу вы тоже за праздничными покупками! – И она остановилась, увидев Анну.
Анна ответила, что не устраивает в этом году никаких праздников. Та понимающе усмехнулась.
– Так только говорится! Но если в доме еще и гости…
– Да, брат мужа приехал на несколько дней, – объяснила Анна слишком торопливо.
По снисходительному взгляду Пётровской она сразу поняла, что допустила оплошность, что надо было сразу сказать об Ирене. И тут же попыталась исправить ее.
– Еще гостит у меня давняя моя приятельница, но я не уверена, останется ли она на праздники, скорее нет…
Пётровская покачала головой, как бы сочувствуя. И тут же переменила тему.
– А знаете, что я только что слышала… Такая трагедия! На Саской Кемпе нашли немцы еврея в одном доме. Прятался, как они обычно… И за одного такого, представляете, пятерых наших расстреляли. Ну, вы подумайте, какая трагедия!
Анна минуту молчала.
– Да, – наконец подтвердила она.
– Столько невинной крови! – Пётровская поднялась ступенькой выше. – Я считаю, что поляк, который прячет у себя еврея, это, прощу прощения, свинья! Да, да! – Она ударила себя в грудь. – Я, полька, так вот думаю! Это не по-христиански, чтобы из-за одного еврея гибли добрые католики, такого не должно быть!
Она стояла, потрясая сумкой, распаленная собственным возмущением.
– Такого не должно быть! – повторила она. – Каждому его собственная жизнь дорога… Не для того человек неволю терпит, чтобы из-за евреев пропасть ни за грош!
Анна решила не рассказывать Яну об этом разговоре. Хотела уберечь его от новых тревог. Она, правда, не допускала, что Пётровская способна на прямой донос, но все же домой возвращалась с тяжелым сердцем.
Перед домом играли дети: пухлощекий, очень похожий на мать Вацек Пётровский; прыгавший, как кенгуру, Стефчик – сын Осиповичей с третьего этажа, и смуглая, как цыганенок, Тереска Карская.
В отворенном настежь окне первого этажа грелся на солнце Пётровский. Насвистывая сквозь зубы, он сидел, развалясь на подоконнике, в распахнутой на темной груди рубахе, спиной и босыми ступнями опершись об оконную раму. Проходившую мимо Малецкую он искоса окинул ленивым взглядом.
После ухода Малецкой Ирена не находила себе места. Все утро прошло у нее в мелких хозяйственных хлопотах, и она только сейчас, оказавшись одна и не зная, чем заняться, почувствовала себя узницей. Сколько же месяцев приходилось ей побеждать, преодолевать в себе потребность свободно двигаться? Где бы она ни находилась, везде надо было скрываться, каждую минуту помнить, что никто чужой не должен знать о ее существовании. Свобода ее была ограничена, ненадежна, замкнута в четырех стенах. И чем дольше она вынуждена была жить взаперти, унизительно скрывая семитскую свою внешность, тем острее ощущала безысходность такого насилия над собой.
Двери на балкон отворены были настежь, а сам балкон залит солнцем. Снизу, где-то за домом, слышались голоса игравших детей.
Ею овладело вдруг такое страстное искушение дохнуть теплым воздухом, что она не смогла удержаться и вышла на балкон. Минуту она стояла там, откинув голову, одурманенная весенним теплом. Ей было так хорошо, что даже этот малый глоток свободы показался чем-то близким счастью.
Но кинув взгляд вниз, она увидела молодого мужчину, который, вероятно, уже заметил ее, потому что явно смотрел на балкон.
Он стоял в распахнутой на груди рубахе, держа руки в карманах брюк.
Ирена вздрогнула. Однако же ее хватило на то, чтобы взять себя в руки и не слишком поспешно покинуть балкон. Она даже заставила себя равнодушно взглянуть в ту сторону. И сразу догадалась, что это, конечно, Пётровский. Заметив, что она посмотрела в его сторону, он нагло усмехнулся.
Когда вернулась Анна, Ирена уже лежала на кушетке с французской книжкой, «Пармской обителью». Но не читала. Подперев лицо руками, она смотрела в окно. Низкая кушетка прислонена была к стене, так что Ирена полулежа могла видеть только небо. Полосы грязно-серого дыма медленно ползли по нему, пока не растворялись в безоблачной лазури. Снизу доносились голоса детей. На фоне громких мальчишеских выкриков явственно слышался прелестный щебет маленькой Терески.
– Как много детей в этом доме! – заметила Ирена.
Анна, немного уставшая, присела рядом на кушетку.
Ирена продолжала прислушиваться.
– Как мило щебечет там девочка! – сказала она.
– Это дочурка пани Карской, – сказала Анна. – Родилась уже в военное время.
Ирена внимательно взглянула на Малецкую.
– Вы, верно, радуетесь тому, что у вас будет ребенок? – вдруг спросила она.
– О да, очень! – искренне призналась Анна.
– У вас уже есть приданое? Оно теперь должно страшно дорого стоить…
Анна кивнула.
– Да, очень дорого. Но кое-что нам от людей перепало, а кое-что я сама сшила.
– Вы умеете шить? – удивилась Ирена.
– Да, невелико искусство.
– А я никак не могла научиться, – сказала Ирена. И попросила:– Пожалуйста, покажите мне что-нибудь из этих вещичек, ладно?
Когда они прошли в спальню Малецких, Ирена заметила – только теперь – стоявшую там у стенки маленькую плетеную кроватку.
Анна тем временем выдвинула нижний ящик комода. Он был полон детского белья. Аккуратно, старательно сложенные лежали там крохотные рубашонки, распашонки, слюнявчики, кофточки, простынки, полотенца и пеленки, всевозможная смешная, забавная мелочь.
– Вы и вправду все это сами сшили? – склонилась над ящиком Ирена.
– Почти.
– Как тут много!
Анна улыбнулась.
– Это только кажется… Вот эти фланелевые распашонки – из старой пижамы Яна. А эти рубашечки – из моей рубашки… видите, целых три вышли!
Ирена очень оживилась. Она стала копаться в мягоньких фланельках и батистах, рассматривала на свету малюсенькие голубые распашонки и смеялась – до чего они забавные. В какую-то минуту, оживленно любуясь самой прелестной рубашонкой, она машинально перевела взгляд на комод и, заметив там несколько фотографий, помещенных в одну старинную рамку из карельской березы, склонилась к ним:
– Это ваши родители, верно?
Анна кивнула головой.
– А эти трое, наверно, братья?
– Братья.
Ирена, удобней опершись о комод, продолжала рассматривать фотографии.
– Вы похожи на мать, – заметила она. – У вас такие же красивые глаза. А братья, вот эти двое, наверно, старше вас, а третий – моложе, да?
– Да, Гжесь, он был моложе нас всех.
– Был? – не поняла Ирена.
– Да, его уж нету, – спокойно пояснила Малецкая. – В сентябре в Модлине погиб…
– Ах, так? – Ирена немного смутилась. И чтобы скрыть это, торопливо спросила:– А ваши родители?
– Мама в Вильие. Отца сразу же после занятия Литвы расстреляли немцы.
Она оперлась о комод рядом с Иреной и вблизи вгляделась в фотографии.
– Из всего нашего семейства, кроме меня, только мама жива и, может быть, старший брат – вот этот! – Она показала снимок, вероятно, старый, на нем изображен был еще совсем юный парнишка. – Брат воевал в нашем войске в Англии, мы получали от него известия, что он был в Норвегии, потом в Африке… а теперь, уже очень давно, – ни единой строчки. А этот, Франек, умер в Дахау в прошлом году.
Минуту царила тишина.
– Значит, вы многих близких потеряли, – шепнула Ирена.
– О да! – кивнула головой Малецкая. – У меня был очень хороший отец и очень хорошие братья. Мы были очень привязаны друг к другу.
Она выпрямилась и начала старательно укладывать в комод разбросанное белье.
Ирена молча наблюдала за ее затрудненными движениями. Анне тяжело было наклоняться, и она опустилась на колени.
– Еще это! – Ирена вспомнила, что все еще держит в руках одну рубашечку.
– Эта рубашонка на крестины. Самая красивая!
Ирена вздрогнула, словно что-то рвануло ее изнутри.
– А вас никогда не возмущала бессмысленность смерти, хотя бы вот этих, самых близких людей?
Анна задумалась.
– Да, бывало так, – ответила она, помолчав. – Даже очень. Однако я изменилась.
– Но зачем все это, зачем? – воскликнула Ирена.
Анна пригладила складки на рубашечке и положила ее в комод.
– Я тоже не всегда знаю, зачем. И все же верю, что все имеет свой смысл, только нам он не всегда доступен.
– Разве это не одно и то же?
– О нет! – ответила Анна с глубоким убеждением. – Это совсем иное.
Ирена покачала головой.
– Нет, не могу этого понять! Что толку, если я стану внушать себе, будто все, как вы говорите, имеет смысл? Какой смысл могут иметь ужасные страдания человеческие, все, что творится вокруг? Ради чего это? Страдание никого не облагораживает!
– Я знаю, – шепнула Анна.
– Вот видите! Ведь я это по себе замечаю… Я теперь гораздо хуже, чем была когда-то. И все стали хуже!
Анна вдруг подумала о Юлеке.
– О нет, – возразила она. – Не все стали хуже…
– Ну, допустим! – уступила Ирена. – Но большинство наверняка. Я не говорю об отдельных людях. Быть может, есть такие… Но большинство…
Анне нечего было возразить.
– Да, это правда.
– Ну, и какой же в том смысл? – повторила Ирена. – А когда гибнут тысячи лучших из лучших, которые могли бы еще столько дать людям, столько доброго сделать, в этом тоже есть смысл? Какой? Ну, скажите, какой?
Анна, все еще стоя на коленях, медленно задвинула ящик.
– Не знаю, – сказала она минуту спустя. – Я не могу на это ответить. Однако верю, что миром правит порядок и ничего не происходит без причины.
– Что с того? – пожала плечами Ирена.
Анна склонила голову.
– Я хотела бы стать лучше, – тихо ответила она. – Это все!
И тут же подумала, что из всех возможных желаний насущной ее потребностью все больше становится желание гордиться любимым ею человеком. Но этого она не сказала.
Ближе к вечеру неожиданно явился Юлек. Анна обрадовалась. Но оказалось, что он заскочил лишь на минутку.
– Самое позднее в семь я должен вернуться обратно, – объявил он. – А добраться теперь от вас до города – целое дело. Так что надо бежать.
Юлек был возбужден и разгорячен – видно, очень быстро шел от трамвая. Он снял плащ и, небрежно кинув его на ближайший стул, отбросил со лба слипшиеся от пота волосы.
– На ночь не вернешься? – спросила Анна.
– Нет! – качнул он головой. – И вообще не ждите меня…
Анна беспокойно шевельнулась.
– Уезжаешь?
Юлек вынул коробочку с табаком и принялся скручивать цигарку.
– Что-то в этом роде.
– Надолго?
– Понятия не имею!
– Жаль, – огорчилась Анна. – Ян еще не вернулся…
Юлек махнул рукой, закурил папироску.
– Янек? Это мы как-нибудь переживем! – сказал он добродушно и подошел к окну. – Я в общем-то хотел прежде всего с тобой увидеться, – сказал он, стоя к ней спиной.
Он выждал немного, но она ничего не ответила, и он снова повернулся к ней. От легкого румянца лицо его казалось еще смуглее.
– Я хотел кое-что рассказать тебе… Если не возражаешь, разумеется! – торопливо прибавил он.
И, усевшись верхом на поручень кресла, подался к Анне.
– Дело видишь ли в том… – начал он. – Складывается все так, что я не очень уверен, смогу ли вернуться…
Она смотрела на него молча, сидела, не шелохнувшись, немного напряженно, неловко сплетя руки на коленях. Едва заметная тень скользнула в ее глазах.
Юлек засмеялся.
– Ну конечно, так только говорится! А в общем-то я наверняка буду крестным вашего ребенка…
– Ты в самом деле уезжаешь? – спросила она тихо.
– Нет, – сказал он.
Он никуда не уезжал. Речь шла о вооруженной и, по возможности, скорейшей помощи осажденным в гетто еврейским повстанцам. Разумеется, операция предполагается не слишком широкого масштаба. По необходимости, учитывая ситуацию и силу оккупантов, она может быть только ограниченной, стать некоей манифестацией, помощью скорее в моральном плане, нежели рассчитанной на реальную победу. Восстание евреев с самого начала обречено было на поражение, а гетто – на ликвидацию. Поэтому любая помощь в этих условиях может показаться неразумным умножением числа жертв. И все же Юлеку и еще некоторым удалось убедить руководство одной из радикальных организаций, что независимо от ее эффективности помощь сражающимся евреям со стороны поляков должна быть оказана. Со вчерашнего дня они разрабатывали задуманную операцию. Теперь план уже составлен, оружие и боеприпасы заготовлены, добровольцев набралось около пятидесяти человек. Начало операции – прорыв по ту сторону стены – назначено на нынешнюю ночь, со среды на четверг. Вот и все.








