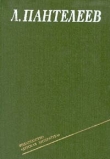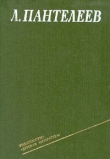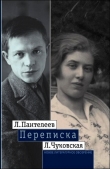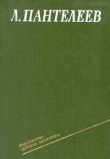Текст книги "…Началось в Республике Шкид"
Автор книги: Евгения Путилова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Наступает новый этап в Ленькиной жизни: дела семейные уходят на второй план, а на первом оказываются события политические. Политические страсти кипели в Чельцове, куда привезла семью мама, с не меньшей силой, чем в том городе, где началась революция; настроения взрослых отразились и на детях, в первую очередь на их играх. Почему так случилось, что, когда начались осложнения в деревне, Ленька и его друг по играм Игнаша Глебов вдруг оказались в разных лагерях? Мог ли Ленька ответить на это вопрос? Вряд ли. А сердце уже сделало выбор, честный и справедливый, с помощью тех представлений о хорошем и плохом, о том, что есть правда, какие он вынес из отцовского дома.
Настоящей, незабываемой школой стали для Леньки несколько дней в Ярославле, куда его, заболевшего дифтеритом, повезла мать. Какие контрастные впечатления обрушиваются на Леньку! Сначала был Ярославль, который потряс мальчика своей красотой. Голубое небо, высокий, утопающий в зелени берег, и на нем, словно выточенные из хрусталя, сахарно-белые дома, белоснежные башни, белые колокольни. Была мирная гостиница, встреча с веселым доктором, и казалось, единственным огорчением стал неприятный укол…
Но проходит всего несколько часов, в Ярославле начинается белогвардейский мятеж, и перед ошеломленным Ленькой предстает совсем другой город – страшный, развороченный, изувеченный снарядами. На его улицах Ленька с ужасом впервые видит убитых и раненых, шальная пуля чуть не обрывает и его жизнь.
Те дни, что Ленька провел в подвале гостиницы и в похожем на цыганский табор ее коридоре, оставили след навсегда. Ограниченный пределами крохотного помещения, мир и здесь оказался поделенным на два лагеря. И здесь, как в капле воды, отразилась современная жизнь, и здесь со всей четкостью надо было выбирать – и Ленька снова выбрал точно, безошибочно.
Ярославские страницы вместили в себя много событий, подробностей, лиц. Слышишь, чувствуешь интонацию голоса немолодой учительницы Тиросидонской, словно видишь ее, когда на вопрос Лешиной мамы, не страшно ли ей было оставаться в гостинице во время обстрела, она отвечает: «Да ведь не страшнее, сударушка, чем другим. А я, вы знаете, что делаю, матушка? Я, когда уж очень сильно пулять начинают, зонтиком закрываюсь». Не случайно эта на вид суровая, а на поверку добрая и справедливая женщина стала в эти дни опорой для Александры Сергеевны и Леньки.
Сильно, просто, на одном дыхании создает Пантелеев еще один образ – молодого человека, тоже оказавшегося в подвале гостиницы, когда шла борьба за город. Между ними тремя – мамой, Ленькой и новым знакомым возникает симпатия. Как будто никакого отношения не имеющая к политике, Александра Сергеевна чутьем догадывается о грозящей ему опасности.
Совсем немного слов сказано о его внешности, манерах, голосе, о выдержка, спокойствие, уверенность этого человека – все подготавливает читателя к последнему эпизоду, так точно завершающему образ.
Подталкиваемый к выходу из гостиничного ресторана и сопровождаемый наглым смехом белогвардейцев, «уже в дверях он оглянулся, прищурился и громко, на весь ресторан, но очень спокойно, легко и даже, как показалось Леньке, весело сказал:
– Смеется тот, кто смеется последний!..
Ленька на всю жизнь запомнил и эту фразу, и голос, каким она была сказана. Даже и сейчас еще она звучит в его ушах».
С каждым днем глубже, полнее раскрывается действительность перед Ленькой. Особенными оказались для него встречи с председателем комбеда Василием Федоровичем Кривцовым. Описывая его наружность, беседы с Ленькой, писатель щедр на краски, подробности. В результате возникает редкий по красоте, значительности характер. Леньку поражает его одухотворенное лицо с длинными, стриженными в кружок волосами, с большой русой, слегка золотящейся бородой. С этим прекрасным лицом гармонируют негромкий глуховатый голос, по-особенному привлекательная речь – плавная, певучая, образная, обладающая магической силой убеждения.
Возникает образ мечтателя, увлеченно верящего в возможность утверждения на земле свободы и вольности, добра и справедливости. Очарованный поэзией Некрасова, он читает Леньке наизусть строки из «Кому на Руси жить хорошо», не замечая, что и сам напоминает героя этой поэмы, готового к дальнему и жертвенному пути правдоискателя. Каждый разговор с ним наполняет Леньку ощущением встречи с чем-то нужным как воздух, с чем-то цельным и подлинным.
В этих трудных и непривычных условиях по-новому открывается и Александра Сергеевна. Теплом и любовью овеяна каждая строка, где автор пишет о матери героя повести: возникает портрет женщины редкого благородства, естественности, простоты такта. Всем своим обликом, отношением к сыну она напоминает написанные трепетной рукой портреты мамы Николеньки Иртеньева, матушки Сережи Багрова, бабушки Алеши Пешкова. Л. Пантелеев продолжает здесь традиции русской автобиографической повести.
Александра Сергеевна очень быстро определяет свое социальное положение, и на вопрос, кто она, ей ответить легко: учительница. Еще в Питере она начала давать уроки музыки. Но тогда это казалось временным, случайным, теперь ее культура, вкус, образование и вдруг открывшийся неожиданно для всех и для нее самой организаторский талант помогают ей найти себя по-настоящему, обрести в работе радость и уверенность.
С каким счастливым чувством вспоминал Ленька день маминого концерта в клубе. В зале было холодно, зрители сидели в шинелях и полушубках, завтра они снова возвращались на фронт. Но как дружно они аплодировали пению Александры Сергеевны, как тепло благодарили ее! Когда медленно шли, возвращаясь с концерта, Ленька вдруг услышал плач.
«– Мама, что с тобой? – испугался он.
– Ах, ты бы знал, – сказала она, останавливаясь и разыскивая платок, – ты бы знал, какие это хорошие, какие чудесные люди!..»
Мама была ближе, нужнее всех для Леньки. Помнит он, как в тревожные ярославские дни, измученная беспокойством за сына, Александра Сергеевна в шутку пригрозила, что будет привязывать его за веревочку. «Привяжи! Привяжи! Пожалуйста! – шептал Ленька, прижимаясь к матери… В эту минуту он только этого и хотел – чтобы всегда, каждый час и каждое мгновение быть рядом с нею».
С отъездом матери в командировку кончается пора детства героя и начинается другая пора, полная испытаний и горя. Рисуя путь Леньки, отправившегося на поиски Александры Сергеевны в Питер, автор ничего не сглаживает: суровой и трудной открывается жизнь перед мальчишкой, пустившимся в одинокое плавание по стране. Он становится беспризорником.
Было это на «ферме», куда следом за братом Васей тетка отправила и Лешу: ферма представляла собой настоящий разбойничий вертеп. Есть краденое ему там уже приходилось: товарищи «великодушно делились с ним», и, хотя он немного стеснялся этого, в конце концов побеждал голод. Но однажды, сидя у костра, компания вспомнила, что утром из города привезли несколько пудов печеного хлеба – для подкормки племенного скота.
«– А ну – питерский! Лешка! Вали сбегай поди… Принеси буханочку.
Ленька вздрогнул, покраснел и ничего не ответил.
– Ты что – не слышишь? Кому говорят?
– Я не умею, – пробормотал Ленька.
– Ха! Не умеет! А чего тут уметь? Иди и возьми – только и делов.
<…>
Идти было страшновато. Екало сердце. В животе было холодно. Но о том, что он идет на кражу, Ленька не думал. Он думал только о том, что нужно сделать все это ловко, чтобы не осрамиться перед товарищами».
Прошло время, и Ленька уже не краснел и не вспыхивал при слове «воровство». Жизнь его покатилась от одного приюта до другого, замелькали дороги, базары, склады, пристани, вокзалы, детские дома, колония, отделения милиции. И все время в нем жила тоска по нормальной человеческой жизни, по вечерам с завистью глядел он на освещенные окна.
Были на этом пути и остановки, и тогда казалось, что все еще может измениться, наладиться. Так, в небольшом городке Мензелинске судьба столкнула его с замечательным человеком – комсомольским вожаком Юркой. Началась работа, учеба, снова захотелось писать стихи, пьесы. Юрка не только физически спас замерзающего на улице Леньку. Рядом с этой деятельной добротой, уверенной целеустремленностью отошла, отогрелась душа мальчика, истосковавшегося по теплу, по честной жизни. Хотелось всеми силами оправдать доверие человека, в котором Ленька почувствовал старшего, верного и требовательного товарища.
Но вмешиваются грозные события, неумолимо напоминающие о времени, Юрка погибает – и оставшегося в одиночестве Леньку опять подхватывает как щепку, снова он плывет, не зная направления, не умея справиться с течением. Однажды он чуть было не остался в деревеньке под Уфой, у старых добрых людей, приютивших его. Но услышанный паровозный гудок снова позвал его в путь, в Питер, к матери.
И вот – через три с лишним года после отъезда – снова Петроград, город детства. Слезы текут по Ленькиному лицу, и он не верит, что шагает по родным улицам. Город и Ленька встречаются друг с другом. Как изменился Ленька за это время, как не похож он на того прежнего благовоспитанного мальчика в черной шинели реального училища. Но и город тоже стал неузнаваем. На каждой его улице, на мостовых и витринах магазинов, на домах и изможденных лицах людей – всюду видны следы прошедшей бури.
Сколько усилий потребуется городу, чтобы преодолеть разруху, голод, чтобы дать людям работу и хлеб? А Леньке? Какой путь выберет он?
Очень быстро приходится ему убедиться, что стать иным самому ему не по силу, не поможет ему тут и встреча с мамой, не спасут попытки снова начать учиться, работать. Всего этого будет недостаточно…
Кончаются воспоминания Леньки. Снова камера, и вроде снова все пойдет по старому кругу. Но нет, повторять пройденное Леньке теперь уже не дадут, аз человека будут бороться, его заставят избрать другую дорогу. Характерен разговор Леньки с бывшей горничной Стешей.
«– Ну что, казак? – сказала она тихо. – Не доплыл?
Ленька угрюмо смотрел на облезлую металлическую пряжку ее кожанки.
– Что же мы делать теперь будем? А?
– Что делать, – пробормотал Ленька. – Не доплыл – значит, на дно пойду.
– Не выйдет! – сказала она сурово. – За уши вытащим».
У повести «Ленька Пантелеев» два финала: мы видим Леньку, входящего в здание интерната, специальной школы для трудных и беспризорных ребят. Вручая свою путевку заведующему школой Виктору Николаевичу, он первым делом осматривает заборы: он вовсе не собирается долго оставаться в этом заведении, поживет какие-нибудь неделю-две и сбежит.
И второй финал, вернее, эпилог. Читатель узнает, что Ленька пробыл в этой школе-интернате почти три года и вышел оттуда полноправным советским гражданином.
Горький опыт Ленькиной жизни заставляет писателя задуматься над сложными поворотами в человеческой судьбе и поделиться своим убеждением: «ведь никто не рождается преступником». Как бесконечно важно, если ты не одинок, если у тебя есть дело, если ты чувствуешь себя нужным людям!
Но не менее важно, как подготовлена для этого трудного пути по жизни твоя душа, каков ты сам, на что ты способен.
Мать, отец, книги, атмосфера дома, в котором жил, а еще больше атмосфера самого времени – все это пересилило то наносное, дурное, что, казалось, накрепко прилипло к подростку. Читатель с радостью узнает о том, как изменилась судьба Леньки: он навсегда обрел для себя твердую землю и жизнь его в дальнейшем – пусть не легкая и не гладкая – была до краев полна честной и большой работой.
Как далека действительность, изображенная в «Леньке Пантелееве» от того мира, в котором живет героиня книги Пантелеева «Наша Маша» (1966). Мир этот в основном ограничен кругом семьи, пределами одной комнаты, дачного садика, прогулками с мамой и папой. Но, несмотря на то, что в одном произведении повествование идет как бы вширь, а в другом как бы вглубь, книги эти отличает большое внутреннее сходство, их объединяет общая тема – становления человек формирования его нравственного облика.
В 1956 году в семье Элико Семеновны и Алексея Ивановича Пантелеевых родился ребенок, и это событие стало для них одним из самых счастливых в жизни. «Семьей я обзавелся уже в том возрасте, – рассказывает писатель, – когда порядочные люди готовятся стать дедушками. Появление в моей жизни дочери было благодатью, чудом – тем чудом, которого не знают, вероятно, родители более молодые».

Тем более хотелось отдать этому ребенку все свои душевные силы, все огромное чувство. Но не просто отдать. Еще до того, как девочка появилась на свет, еще не зная, кто у них будет, Ваня или Маша, родители дали друг другу обещание сделать все, что от них зависит, чтобы воспитать хорошего человека.
Тот дневник, который начал вести Алексей Иванович (некоторые записи делала в нем Элико Семеновна, некоторые воспроизводились с ее слов), был, вероятно, вызван потребностью и отцовской, и писательской одновременно. Теперь можно было вести ежедневные наблюдения за каждым поворотом в жизни поступок – плохой или хороший; дневник открывал и другую возможность: своеобразного самоконтроля, осмысления своих взглядов на воспитание. Каждый день, каждый факт давал повод для размышления, оценок и – шире – для выводов и обобщений.
Записи в «Нашей Маше» делались только себя, «для внутреннего семейного употребления», без всякого расчета увидеть их в руках читателя. Уговорил Пантелеева, настоял на публикации этого дневника выдающийся знаток детства, автор «От двух до пяти» К. И. Чуковский.
В свое время книга «От двух до пяти» ошеломила возрастом «героев». Интерес к человеку такого возраста казался странным, несерьезным. Пантелеев «спускается» еще ниже. Пристально следит он за ребенком, которому несколько месяцев, и в его наблюдениях открывается жизнь, полная смысла и значения.
Обращаясь к самому раннему периоду своей жизни, Л. Толстой в «Первых воспоминаниях» задает вопрос: «Когда же я начался? Когда начал жить? …Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня – только шаг. От новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние…»
Чувствуя, как писатель и отец, это «страшное» огромное расстояние от новорожденного до пятилетнего, уверенный, что именно от этого времени во многом зависит, каким человеком станет Маша, Пантелеев по-настоящему задумывается над сложными вопросами воспитания, и в частности семейного воспитания. Ибо он убежден: вообще нет более трудного и сложного искусства, чем искусство воспитания человека. Еще не родилась Маша, а оба они уже видели многие сложности, стоящие на их пути:
«Родители мы немолодые.
Опыта нет.
Ребенок единственный.
Материальный достаток – выше среднего. («Трудность» эту можно, конечно, взять в кавычки, но в неопытных руках материальный достатоки в самом деле может очень быстро превратиться в недостаток, так как с его помощью еще легче избаловать и испортить ребенка)». С какой открытостью говорит об этом писатель!
Да, еще не родился ребенок, а родители думают уже о том, каким он будет. Этот взгляд веред приводит автора к важнейшему, определяющему все его отношение к ребенку убеждению: «Может быть, с трех, если не с двух месяцев Машка для меня человек, индивидуальность. Я чувствую, куда она может повернуть и куда, в какую сторону, по какому направлению ее следует подталкивать».
Именно поэтому он уверен: воспитание начинается буквально с той минуты, когда ребенок появляется на свет. «Она еще маленькая» – эта привычная отговорка (нужная взрослому для оправдания не только ребенка, но и самого себя) кажется ему «самой вредной, самой антипедагогической формулой, какую только может выдумать человек, имеющий дело с детьми».
Отсюда еще одно важнейшее его признание: «Все дело в том (хотел написать: «беда в том», но не знаю, беда ли), что я отношусь к Машке по-настоящему всерьез… и люблю ее, и жалею, и гневаюсь на нее в полную силу, со всем пылом сердца, на какой способен».
В предисловии к книге автор предупреждает читателя, что он не педагог, а только родитель и, стало быть, не дает рецептов, советов – просто делится своим опытом. Да, делится в буквальном смысле слова – и здесь особенно подкупает откровенность, открытая эмоциональность. Он не стесняется признаться в своем незнании, в своей слабости («Ох, сколько ошибок делаешь! Ошибок, которые так трудно исправлять потом»), где-то он оставляет вопрос нерешенным, вовлекая, таким образом, читателя в этот живой, жизненно важный для него разговор.
Разве одного его интересует, скажем, такой извечный вопрос: почему одни дети (и подростки) быстро приспосабливаются к коллективу, а другие – нет? Почему одни (и не всегда по праву) командуют, верховодят, а другие подчиняются? Когда, в каком случае надо кого-то похвалить, поощрить, вселить уверенность в себе, а кого-то, наоборот, осадить, заставить быть поскромнее? И десятки других, требующих подчас немедленного решения вопросов.
Например: говорить или нет ребенку в любом случае правду? Ведь чуть ли не на каждом шагу ребенка «обманывают, объегоривают, обмишуривают.
– Иди, девочка, иди, дай ручку, больно не будет.
Девочка доверчиво протягивает руку, а ей: р-раз!
– Ничего, не плачь, сейчас пройдет.
Трудно, но надо воспитывать так, что:
– Будет немножко больно, но потерпи…»
И, заключая этот воображаемый спор, он приходит к выводу: «И всегда надо правду!»
И снова вопросы: всегда ли прав взрослый? Всегда ли он обязан выдержать характер? Вот вроде провинилась в чем-то Маша. Было сказано, что с такой девочкой ни мама, ни папа в лес не пойдут. Девочка не поверила, но взрослые на своем настояли. «И все как будто правильно. Проявили настойчивость, твердость. Наказали. Проучили. А меня не оставляет ощущение сделанной ошибки».
Как это, оказывается, непросто вовремя почувствовать, «в какой момент пора идти на мировую. Если этот момент правильно выбран, провинившийся ребенок охотно и по первому зову кинется извиняться или объясняться».
И еще об одном размышляет автор:
«…Не всегда бывает виноват ребенок; очень часто и взрослые виноваты.
Нужно уметь извиниться перед ребенком, покаяться…
Не в угол себя, конечно, ставить, а так, чтобы ребенок понял твою справедливость».
Вместе с тем нельзя и « потакать, откликаться на каждую просьбу и на каждое требование (а просьба очень быстро перерастает в требование)».
Как актуально звучат слова писателя: если думать не только о физическом здоровье ребенка, не только об освоении им грамматических форм языка и если любить ребенка не «сусальной», не «конфетной», а настоящей любовью и видеть в нем «завязь, росток… будущего человека – нет более трудного и сложного искусства, чем это искусство».
Немаловажную проблему затрагивает Пантелеев, когда говорит о том, скольких детей избаловали люди, которые сами трудились не покладая рук. «Сама, бывало, недоем, недосплю, а дочку растила принцессой», – не раз похвалялась перед ним NN, «человек, казалось бы, неглупый, интеллигентный», оправдывая свою позицию тем, что она достаточно хватила в детстве лиха. Пусть уж дочка ничего этого не знает. А в результате – сколько слез, сколько бессонных ночей и преждевременных седин от этой изящной, «воспитанной», «играющей на рояле, говорящей по-французски «принцессы».
Воспитание такого рода писатель называет «внешним», любовь такого рода квалифицирует как животную, – ибо все здесь уходит «на служение чреву на вкусную еду… на башмачки и бантики, и совсем не думается о душе, о воспитании человека, о воспитании в высоком смысле слова, без кавычек».
В книге нет свода правил, наставлений, размышления возникают всякий раз по определенному поводу. Что оставляет благодатный след в душе ребенка? Как воспитать доброту, щедрость, гостеприимство?
Вот Маша вырывает из рук гостьи мячик: «Дай мячик! Это мой мячик!» Как найти слова, чтобы она поняла: так поступать нельзя? «Разве ты можешь представить, – говорит ей отец, – что мама или я, когда наш гость потянется за яблоком, хлопнем его по руке и скажем: «Оставьте! Не берите! Это наши яблоки!» От конкретного примера взрослый уже может подойти к объяснению законов гостеприимства.
Зная, как Маша плачет и сердится, стоит ей проиграть в какую-нибудь игру, взрослый проводит с ней беседу и предлагает ей совсем иной способ поведения: не только не расстраиваться и не надуваться, а, напротив, «взять себя в руки, улыбнуться и поздравить того, кто выиграл, объединив всех играющих общим удовольствием, общей радостью.
В семье поощряется каждое правдивое признание девочки. Но когда оно делается в корыстных целях (чтобы избежать, например ответственности за грубый поступок по отношению к бабушке), в доме чуть ли не объявляется педагогический аврал: человек должен знать, что правда существует одна – бескорыстная, чистосердечная.
Есть в этой книге еще одна очень важная тема – взаимоотношения девочки с миром природы. Понимая, как трудно будет дочери, с ее постоянной готовностью пылко и самозабвенно защищать «меньших братьев», как часто ей придется сталкиваться с бездумной жестокостью и равнодушием, взрослый задается очень серьезным вопросом: «Не делаем ли мы ошибку, что поддерживаем в Машке ее страстную, убежденную любовь ко всему живому?» и уверенно отвечает: «Нет, не делаем!.. Пусть ей будет временами нелегко, но так и только такнадо воспитывать человека!» Писатель уверен: «Маленький мучитель, убийца бабочек или муравьев не может вырасти хорошим, добрым, великодушным человеком».
И эти, и многие другие размышления, убеждения писателя, вызванные озабоченностью, казалось бы, судьбой одного человека, выходят далеко за пределы какого-то личного интереса, приобретают интерес общий, захватывают общие явления современной жизни.
Писатель много думает о воспитанностичеловека. Об этикете. О так называемых хороших манерах. «Нужны ли они? Не глупости ли это, не предрассудок ли как считают многие?» Он убежден: нужны! Ведь «если мы обращаем внимание на словарь, на фразеологию человека, на его костюм, на цвет галстука или сорочки, то не следует ли нам столь же требовательно следить и затем, как мы стоим, сидим, едим, ходим, как мы ведем себя в присутствии старших» и так далее.
Особенное внимание писателя вызывают молодые люди, которые сидят в вагоне трамвая или метро, либо прикрывшись для виду газетой, либо равнодушно взирая на какую-нибудь стоящую перед ними лицом к лицу сморщенную и сгорбленную старушку с узлом, с сумкой. Это проявление ужасающей невоспитанности для него тоже связано с явными упущениями в первоначальном воспитании оказывается, откладывать здесь что-то «на потом» нельзя, просто опасно. Именно в результате этого упущения будет сидеть, развалясь, сначала пятилетний, потом восьмилетний, а потом и шестнадцатилетний. «И когда ему в вагоне чужие люди делают замечание, он смотрит на них с удивлением: это кажется ему какой-то дикостью, каким-то старомодным предрассудком». Написанные чуть ли не двадцать лет назад, размышления писателя актуальны, увы, и сегодня!
Так же как и рассуждения о «спасибо» и «пожалуйста». Обращаясь к правилам своего дома, писатель спрашивает: «Не пересаливаем ли мы с этими «спасибо» и пожалуйста»?.. Говорят: «Не в этом счастье». Вообще-то верно – не в этом. Но отчасти и в этом. Смотря как понимать это счастье». Можно ли забывать о том, как ранит, обижает, мешает жить грубость и, напротив, как украшает жизнь любезность, отзывчивость, дружелюбие. «Мудрость, казалось бы, не велика, а как мало считаются у нас с этим добры законом, как не хватает нашей молодежи этих «внешних форм»!»
Писатель приводит пример:
«Телефонный звонок. Снимаю трубку:
– Я вас слушаю.
Молодой повелительный голос:
– Галю!
Отвечаю как можно мягче и любезнее.
– Простите, вы не туда попали.
И чаще всего в ответ:
– А, черт!..
И скрежет брошенной на рычаг трубки.
Через день, через два или в тот же день попозже – уже другой голос, но опять молодой и опять повелительный:
– Марину позовите!
– Такой у нас, простите, нет.
– Как нет? А, ч-черт!..
Зато как приятно бывает услышать в ответ:
– Ах, простите!..
Или
– Извините, пожалуйста!..
Редко, но бывает».
Воспитывать человека! Пантелеев думает об этом постоянно, делится своими размышлениями, наблюдениями, выводами. И обобщает многое из своего большого опыта в ярких и острых публицистических статьях. Статьи Пантелеева имеют прямое назначение и объединены точным названием «Разговор с читателем».
Ежедневная почта Л. Пантелеева велика. К нему обращаются разные люди – писатели, ученые, родители, ребята.
Удовлетворяя любознательность читателя, он рассказывает о своей юности, о судьбе товарищей по Шкиде, о незабываемом шкидском президенте Викниксоре, о своей работе.
Большинство статей вызвано живым конкретным поводом, событием, взволновавшим его газетным выступлением, чаще всего – письмом с вопросами: от него ждут совета, указания, помощи.
Вопросы разные. Вот, например, ученица 8-го класса Марина Б. признается, что ей неинтересно читать книги, она их просто никогда не дочитывает. Как ей быть? Как полюбить литературу, чтение, книгу?
Писатель дает Марине советы, указания, составляет для нее буквально программу чтения, которая поможет ей уже самой ориентироваться в «том огромном безбрежном океане, который называется «Мировая литература». Но прежде всего, его интересует сама Марина, истоки ее беды.
«Очень хотел бы понять, разобраться, что же происходит с тобой.
Бывают, ты знаешь, такие случаи, когда человек почему-либо теряет аппетит. Он с завистью смотрит, как другие уплетают за обе щеки черный хлеб, огурцы, мятый картофель… а сам отворачивается от самой вкусной, самой изысканной пищи..»
Естественно, речь идет о нездоровом человеке. То, что происходит с Мариной, для писателя тоже болезнь, только другого рода:
«Мне кажется, что у таких, как ты, Мариночка, утрачен аппетит духовный. Но, к счастью, у тебя он утрачен не совсем. И воля к выздоровлению у тебя не потеряна – это самое главное. Ведь ты просишь совета, просишь помочь тебе – значит, дело не безнадежное, а вполне поправимое».
Тем более принципиален писатель, когда вопросы касаются взаимоотношений с товарищем, с классом, когда речь идет о таких понятиях, как честь, порядочность, честность.
Где и как найти ориентир, верно ли ты поступаешь или нет? В вопросах морали, нравственности для Пантелеева нет мелочей, все здесь существенно, все важно: в представлении писателя мирная жизнь тоже всегда бой. Здесь тоже на каждом шагу требуются от человека те же качества, что и на войне: и мужество, и отвага, и честность, и стойкость, и милосердие.
Поэтому самое страшное для него «приблизительность», «относительность» этических требований, готовность пойти на компромисс – все то, чем характеризуется для писателя моральная полуграмотность, или, как он пишет, «нижесредняя нравственная культура». Его усилия направлены на то, чтобы юный человек мог подняться на высоту подлинной моральной культуры, где не прощаются даже малейшая неточность и небрежность, ибо маленькая ошибка часто влечет за собой и большую.
Вот, казалось бы, самый безобидный пример: в небольшой пионерской газете «уголок смекалки» предлагает ребятам решить задачку, угадать, как в числовом отношении должно распределиться вознаграждение между мальчиками, оказавшими помощь своему товарищу. Казалось бы, задачка как задачка. Но Пантелеев обращает внимание на самую суть условия и за хитроумной математической проблемой видит совсем другую – моральную. Ведь, по условию задачи, ребята должны не только получить вознаграждение за помощь товарищу, но еще и разделить его в соответствии с тем, кто сколько помог. «Знаю, что найдутся люди, – пишет он, – которые скажут: «Ерунда! Стоит ли придираться к арифметической задаче!» Но разве можно, возражает он, решать задачу, безнравственную по своему условию?
Есть у Пантелеева статья под названием «о милосердии». В ней он обобщает многие свои тревожные мысли, вызванные бессердечием подростков, бездумным мучительством животных, жестокостью сильных ребят по отношению к более слабым, особенно к людям неполноценным, страдающим природными недостатками.
Разговор в этой статье идее по конкретному поводу. Ребята оставили своего товарища без внимания в больнице, и письмо удрученной матери, обращенное в редакцию одной из газет, не просто волнует писателя.
«…Первое, что вспыхивает в тебе и обжигает тебя… это гнев. Гнев на тех школьников, мальчиков и девочек, которые позволили себе бросить в беде товарища».
Статья написана так, что ее читатели, конечно, должны будут войти в положение покинутого и проникнуться такими чувствами как одиночество, заброшенность, тоска, с одной стороны, сострадание к чужой беде, чужой горести – с другой. Писателю важно, чтобы люди поняли: даже если (предположительно) их товарищ был не самым любимым в коллективе, все равно надо проявлять человечность, милосердие. Вызывают внимание, заставляют вслушиваться слова писателя:
«…Где, в каких заповедях сказано, что помогать надо только хорошим?
Как вам кажется, могла бы кончиться победой Великая Отечественная война, если бы наши солдаты в бою, в атаке оглядывались на соседа и думали: а стоит ли поддерживать его, хороший ли он, не хуже ли он меня? Или медицинская сестра, прежде чем перевязать раненого, стала бы выяснять: симпатичный ли он человек, заслуживает ли он ее забот и милосердия?»

Читая эту статью, каждый поймет, как важно, чтобы такие слова, как «товарищество», «коллектив», «честь коллектива», не употреблялись бездумно, не превращались в простой набор звуков, а были наполнены истинно человеческим содержанием.
Предлагая задуматься над такими понятиями, как добро и зло. Пантелеев обращается к читателю с вопросом: знакома ли ему радость доброго поступка? Он вступает в спор с неумными, нечуткими людьми, которые излишним шумом, преувеличенными похвалами лишают человека верных критериев в оценке, что есть норма человеческого поведения; когда естественный поступок преподносится чуть лине как героический.
Писатель приводит в пример газетную заметку о пионере, который, найдя в развалинах дома запаянную коробку с награбленными фашистами драгоценностями, передал найденный клад в фонд обороны страны. Статья в газете, сообщавшая об этом событии, расценила поступок мальчика как незабываемый для советского народа патриотический подвиг, а в нем самом увидела героя. Нет, для писателя то, что пионер не уподобился фашисту и не украл найденные драгоценности, отнюдь не подвиг, а естественный человеческий поступок. Поступок добрый, хороший, который по праву мог доставить самому мальчику огромную радость.