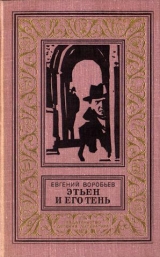
Текст книги "Этьен и его тень(изд.1978)"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
97
Казалось, ни одного человека больше не удастся втиснуть в битком набитый вагон. Но эсэсовцы пустили в ход приклады, жестоко избили для острастки кого-то, кто, уже стоя в вагоне, упрямо жался к порогу, к воздуху и свету, – в вагон удалось затолкать еще с десяток арестантов.
После Флоренции Этьен наконец увидел англичанина. Белые брови и ресницы еще сильнее выделялись, так как состригли его соломенные волосы. Бывшие соседи умудрились обменяться приветственными жестами, и Этьен пожалел, что они попали в разные вагоны.
На аппеле они несколько минут стояли рядом, и англичанин успел передать последнюю новость: в Каире встретились Рузвельт, Черчилль и Чан Кай-ши, решали вопросы, связанные с войной против Японии. И откуда только этот белобрысый узнает все новости? Будто носит в кармане потайной радиоприемник… В двухосный вагон с выпуклой крышей затолкали не менее ста арестантов.
Весь день стояли на затекших, одеревенелых ногах, согласно покачиваясь, сообща дергаясь, когда паровоз брал с места, поневоле опираясь друг на друга, дыша в лицо один другому. Если бы кто-нибудь вознамерился упасть, то не смог бы – некуда.
Эшелон шел как-то неуверенно, с частыми и долгими остановками. Арестантов никто не кормил, не поил. Ни разу не отодвинулась тяжелая, скрипучая дверь. Особенно страдали от жажды. Вагон долго торчал у депо, возле крана, из которого заправляют паровозы, и слышно было, как журчит вода, льющаяся из рукава в тендер и переливающаяся через край. И журчание воды, утекавшей попусту, делало всеобщую жажду еще более мучительной – пытка, придуманная самым изощренным палачом.
Шостак распорядился все фляги и котелки передать тем, кто стоит под форточками, оплетенными редкой колючей проволокой. Кое-как наружу просунули фляги и котелки, привязанные к ремням или обрывкам веревок… На эсэсовцев надежды нет. Но, может, пройдет итальянский железнодорожник и сжалится над людьми, умоляющими о таком подаянии?
И нашлась добрая душа – не то кондуктор, не то стрелочник, не то сцепщик или тот, кто стучал молотком по скатам, заглядывая в буксы. Кто-то залил всю эту посуду свежей водой. Живительная милостыня!
Досыта напился и Этьен.
Он закрыл глаза и увидел себя, бегущего по станционной платформе за кипятком. Состав вот-вот отойдет, а в одной из теплушек сидит малознакомая, но уже дорогая его сердцу девушка из Уфы. Они случайно встретились сегодня с Надей на станции Самара во второй раз. Ее приняли за мешочницу и не пускали в теплушку. Она расплакалась от обиды и отчаяния. Он распорядился, чтобы ее пустили, помог устроиться. Он едва успел, обжигая руки, налить кипятку и добежать с чайником до теплушки, как состав на Москву тронулся. Попрощались второпях. Она оторвала уголок от какого-то объявления, прикрепленного к вагонной стенке, торопливо написала свой уфимский адрес и сунула бумажку ему в руку. Он просил Надю найти его на обратном пути на самарском вокзале, в дорполитотделе. Поезд ускорял ход, а он бежал вдогонку за теплушкой, за прощальными взглядами и словами…
Вся его довоенная биография – как на ладони, но вот военные годы пока рисуются весьма смутно, неотчетливо. Поскорее уточнить «легенду»! На каждой остановке можно ждать выгрузки и допроса с пристрастием: кто таков, на каком фронте и при каких обстоятельствах попал в плен, где обретался позже?
Вот почему Этьен, стоя в тесной, согласно пошатывающейся толпе, прислушивался к разговорам военнопленных и сам не ленился расспрашивать. Хоть по крупицам, по кусочкам, но склеить свою фронтовую «легенду»!
Ну, а поскольку ты, Яков Никитич, назвался полковником, то и кругозор у тебя, Яков Никитич, полковницкий, и военные познания твои нуждаются в обновлении, проверке. Тебе предстоит вот сейчас, на колесах, стоя в тряской душегубке, дыша смрадными испарениями, пройти краткосрочные курсы по усовершенствованию комсостава, курсы, на которых никто не даст тебе переэкзаменовки и где не от кого ждать поблажки.
Опасно не знать важных армейских новостей, особенно предвоенных, не знать нового оружия, не знать фронтовых перипетий до плена.
Он долго стоял в подрагивающей полутьме, лицом к лицу с танкистом. Еще часа два назад можно было заметить, что лицо у танкиста обожжено, и виднелись дырочки на плечах его изорванной гимнастерки. Оказывается, в нашей армии ввели погоны, это дырочки для шнурков. Вот бы поглядеть на погон! Но, как оказалось, погоны ввели только в 1943 году, а потому для «легенды» они ему не нужны. Старостин выспрашивал:
– А верно, товарищ танкист, что немецкий «фердинанд» без пулемета?
– Зато броня у него серьезная.
– Броня броней. Но как же все-таки без пулемета? – удивлялся Старостин. – Значит, для ближнего боя непригоден. Во всяком случае, сильно уязвим.
– А «тигр» – хищник еще серьезнее.
– Забыл, какой толщины у него лобовая броня…
– Кажись, сто пятьдесят миллиметров. А если еще пушка длинноствольная, восемьдесят восемь миллиметров…
Радостно было услышать, что танк «Т-34», потомок той машины, в таинство рождения которой Этьен когда-то был посвящен, оправдал надежды. «Тридцатьчетверка» успешно вела дуэли с немецким танком «T-IV». Немцы могли нанести «тридцатьчетверке» смертельный удар только с кормы или угодить в мотор через жалюзи.
Очень хочется побольше расспросить про «тигры» и «фердинанды». Когда они появились? Если после того, как Старостин попал в плен, – его расспросы будут звучать вполне естественно. А если «тигры» и «фердинанды» – сорок первого года рождения? Какой же он, черт его побери, полковник, если ничегошеньки о танках не знает? Вот и приходится допытываться у танкиста, который назвал себя младшим лейтенантом. А Старостин и про звание такое не слышал, так же как не знал, что теперь в Красной Армии завелись подполковники.
Еще важнее Старостину вызнать географические, календарные данные и все другие подробности какого-нибудь крупного окружения, при котором в плен сразу попало много народу. Выгоднее назвать окружение, которое случилось раньше, чтобы короче была фронтовая анкета Старостина, а длиннее – лагерный стаж.
Опираясь на рассказы спутников, Этьен выбрал для Старостина Западный фронт. Теперь следовало уточнить и должность, какую Старостин занимал до плена, это тоже «белое пятно» в его фронтовой биографии.
Рядом дышал техник-лейтенант Демирчян, в полку он занимался противохимической обороной. Разговорчивый Демирчян и не подозревал, что помог заполнить брешь в «легенде»!
Старостин с трудом повернулся лицом к Демирчяну и начал его выспрашивать.
Пожалуй, начхим – разумная придумка. Немцы не станут допекать Старостина расспросами. Кому интересны устаревшие секреты противохимической обороны?
Безопаснее назваться работником штаба армии по противохимической обороне и собрать разнообразные сведения – прожиточный минимум допрашиваемого…
Эшелон остановился на товарной станции Болонья, а дальний маршрут его по-прежнему уходил в неизвестность. В одном из вагонов везли теперь бывшего начальника химической службы 20-й армии полковника Якова Никитича Старостина. Он уже немало знал об армии, чьи бойцы и офицеры сражались, плутали и снова сражались в смоленских лесах. Знал, что в начале октября 1941 года «его» армия попала в окружение на левом берегу Днепра, западнее Дорогобужа. Старостин заучил фамилии многих командиров, запомнил номер полевой почты и множество других примет, деталей и подробностей, вроде того, например, что первый снег в лесах севернее Дорогобужа выпал в ночь с 6 на 7 октября. Потом Старостина, тяжело контуженного (раненым нельзя сказаться, потому что на теле нет шрамов), взяли в плен, держали в бараке для пленных офицеров на нефтебазе под Вязьмой. Позже его определили в команду могильщиков и подметальщиков при немецком кладбище, устроенном на центральной площади Вязьмы. Затем он сидел в концлагере в Орше, оттуда его погнали по шоссе в Брест и держали там в казематах крепости, затем направили в Майданек, оттуда в Терезин (бывшая крепость, а ныне концлагерь на берегу Лабы). Там набирали химиков на военные заводы, изготовлявшие секретное оружие в Тироле и Ломбардии. Потом их завод в Милане разбомбили, Старостина послали на рытье окопов под Монте-Кассино, а позже посадили в военную крепость в Гаэте. И всю эту правдоподобную «легенду» впитала по-прежнему цепкая и емкая память Этьена…
По всем данным, эшелон должен двигаться дальше к австрийской границе. Но Этьен услышал ночной разговор конвойных: к северу от Болоньи американцы разбомбили железную дорогу и мост через реку По.
Среди ночи началась поспешная выгрузка. С тех пор как теплушку набили арестантами, их так ни разу и не кормили.
С грохотом и натужным скрипом отодвинулась дверь на колесиках, и в смрадный вагонный ящик ворвался свежий воздух, от которого закружилась голова. Люди были спрессованы. Насчитали шесть мертвецов. Тела их давно остыли, но не падали – некуда было.
– Бандиты! – ругался военврач Духовенский.
– Если вы хотите ругать немцев, найдите другое слово, – остерег его Старостин. – «Бандит» и по-немецки «бандит».
Мертвецов выносили из вагонов и складывали в штабель. Возле штабеля устроили аппель, на котором Этьена уже называли не Яковлевым, а Старостиным.
Колонну погнали на Модену, на Милан. Прошел слух, что Милан сильно бомбят. Может, поэтому охрана не торопила колонну на марше, часто устраивала привалы?
Брели в опорках, ботинках с подметками, привязанными обрывками проволоки, в деревянных башмаках. Брели в серо-голубой полосатой форме немецких лагерей и серо-коричневом каторжном одеянии итальянского покроя. Иные брели в плащах, драных макинтошах, плащ-палатках. На Старостине – ватник с чужого плеча, а вот шапкой разжиться удалось не сразу.
Остаток дождливой и холодной ночи провели в загоне, за колючим забором, недалеко от дороги. Шостак где-то подобрал старую итальянскую пилотку и молча напялил на Старостина.
Где-то будет следующий ночлег?
Наутро команды на привал раздавались реже, колонну поторапливали. Из хвоста колонны доносились окрики, отстающих подгоняли прикладами. Товарищи вели ослабевших под руки.
Подоспели поздние сумерки, когда колонна втянулась в каменные ворота. Судя по воротам и по солидным запорам, это не скороспелый лагерь, а какая-то тюрьма.
В полутьме двора всю колонну разделили на группы, и душ сорок набилось в большую камеру, в темноте все повалились на нары.
Утром Этьен огляделся. То ли дверь, окованная железом, то ли параша, то ли тюфяк, то ли решетка на окне – что-то показалось ему щемяще знакомым. И очень скоро он, к ужасу своему, убедился, что путь-дорога снова привела его в тюрьму Кастельфранко дель Эмилия.
98
В камере теснее тесного, но у каждого – топчан и тюфяк. Тюфяк – единственная спальная принадлежность на голых досках. К каждому топчану наклонно прибита доска в изголовье. Арестанты распоряжались тюфяком по своему усмотрению: подстилать тюфяк под себя или укрываться им.
На следующее утро Этьен с тревогой узнал, что не весь тюремный персонал здесь обновился. Он увидел несколько старых надзирателей; увидел в тюремном дворе негодяя Брамбиллу, того, кто сидел на втором свидании с адвокатом в роли «третьего лишнего»; работал на своем старом месте все такой же мрачный Рак-отшельник. Но Этьен уже не заговорит с ним! К счастью, не видать фашиста «Примо всегда прав», Этьен больше всего боялся встречи с ним.
А Карузо через день дежурит в коридоре. Нельзя попадаться ему на глаза! Нужно держаться всегда в отдалении, в группе заключенных. Как же Этьен катастрофически изменился, как постарел, если Карузо его не узнал! Тогда у Кертнера были длинные седеющие волосы, он зачесывал их назад, оставляя открытым лоб. Волосы и орлиный нос дали когда-то основание капельдинеру театра «Ла Скала» сказать, что синьор из шестого ряда похож на Франца Листа.
Наверное, сыграла свою роль седая щетина, которой Этьен зарос по самые глаза и уши. И ему очень кстати побрили голову.
Среди глубокой ночи их повели в баню. В дверях камеры стоял Карузо со списком и выкрикивал фамилии, рядом стоял незнакомый надзиратель с фонарем в руке. Если надзиратель сейчас посветит в лицо и Карузо его узнает – Этьен погиб.
Спотыкаясь на каждом слоге, Карузо произнес фамилию: «Ста-рост-тин». Этьен поднялся с нар и подошел ближе. В угольно-черных глазах Карузо зажглось какое-то подобие любопытства. Но тут же глаза его под густыми, нависшими седыми бровями потухли, исчез промельк удивления. Карузо вновь глядел на Старостина невидящим взглядом, будто оба глаза у него стеклянные.
Старостин прошел мимо Карузо, не опуская головы, но лицо его было затемнено. Можно поблагодарить судьбу за то, что фонарь опущен, а Карузо так ненаблюдателен.
Сильно изменился Карузо за последние годы. Он и прежде слегка сутулился, а сейчас время согнуло его еще круче и жестче. Сивая бородка, лицо сморщилось, как печеное яблоко, и весь он скривился. Правое плечо стало ниже, правую руку он держит на отлете все время согнутой, – вот так бывает согнуто туловище у надзирателя в момент, когда он открывает-закрывает тугой замок.
Карузо успел состариться и одряхлеть за семь лет. Глядя на постаревшего Карузо, Этьен, может быть, впервые так отчетливо представил себе всю массу времени, утекшего сквозь решетки. Этьен привык судить о протяженности времени по тому, как слабел сам и как старели его соседи, тюремные товарищи. Но им, людям, лишенным общения с природой, тем, кто получал нищенский паек свежего воздуха и солнца, кто жил впроголодь, преследуемый невзгодами, кто отъединен от близких, обречен на долговечное одиночество, разлучен со своими занятиями, интересами, увлечениями, симпатиями, не знает удовольствий, – таким людям и полагается быстро стариться, утрачивать свой первоначальный облик. Но если тюремщик успел одряхлеть, – значит, действительно утекла уйма времени, утекла безвозвратно.
Этьен, так и не узнанный тюремщиком Карузо, осмелел и теперь внимательнее наблюдал за старым знакомым, с которым они когда-то отводили душу, обращаясь воспоминаниями и чувствами к музыке. А испытал ли на себе Карузо, пожизненно влюбленный в музыку, ее благотворное и благородное влияние?
Карузо вел по коридору группу заключенных, а позади с фонарем плелся второй надзиратель. Карузо шел, нагнув голову, на подгибающихся ногах. Казалось, его длинные, слегка вихляющиеся руки удлинились. Спина стала выпуклой, корпус при ходьбе сильно наклонился вперед, так что сбоку он походил на вопросительный знак.
Встреча с постаревшим Карузо заставила Этьена подумать о незавидной судьбе людей, которые всю жизнь сторожат других людей.
«Как часто я за железной решеткой чувствовал себя более свободной личностью, нежели ты, потому что мог думать о чем угодно. А ты, со связкой ключей в руке, лишен такой возможности, потому что все время должен стеречь меня».
Иногда Этьену казалось, что Карузо и другие старые надзиратели сами подавлены тем, что происходит в тюрьме. Из карцера теперь часто доносились стоны, крики истязуемых, в тюремном дворе чуть ли не каждый день раздавались выстрелы, и там же под окнами гоготали, играли на губных гармошках эсэсовцы. Они и на местных тюремщиков смотрели как на будущих заключенных – просто, мол, еще не дошла до этих итальяшек очередь, скоро их тоже посадят под замки, ключи от которых оставлены им временно. Этьен много знал о природе и сущности фашизма, но никогда не заглядывал в его черную душу, не проникал взглядом до самого дна, не знал, как за последние годы преуспело, расплодилось племя садистов-палачей.
Рассказы соседей по вагону, по камере дополняли друг друга – пережитое, увиденное, выстраданное.
Этьена учили, как всех, почтительности к своим охранникам и палачам. Когда нужно снимать шапку при встрече с наци? За десять метров. Держать шапку при этом полагалось в опущенной книзу руке, опустив голову и наклонив верхнюю часть туловища. «Мютцен аб! Мютцен ауф!» – «Шапки долой! Шапки надеть!» – эта церемония репетировалась много раз подряд.
До чего все-таки изощрен злой ум человекоподобного арийца, воспитанного Гитлером! До чего дошла порочная изобретательность палачей, какие только издевательства не придумывают немцы в отношении пленных антифашистов, партизан, поляков, евреев!
Военный комендант в Лодзи переставлял вперед часовые стрелки, чтобы был повод арестовать побольше пешеходов, якобы нарушивших комендантский час.
В Освенциме и Дахау заставляли бить своих товарищей, а за отказ расстреливали.
В Вене заставляли чистить мостовую зубными щетками.
В Маутхаузене очень популярен ледяной душ. Под ним коченеют узники в одежде. Эсэсовцы называют это «баней».
В Гузене в бараке для пленных офицеров ввели премирование: за сто пойманных блох капо выдавал сигарету.
В Мельке узников, которые еле держатся на ногах, заставляли карабкаться на деревья, разорять птичьи гнезда, доставать яйца. И горе тому, кто, спускаясь, раздавит хотя бы одно яйцо.
В Гросс-Розене и Заксенхаузене заключенным делали ядовитые уколы, проверяя действие ядов и уточняя смертельные дозы…
Кое-что Этьен слышал прежде, а многое узнал, когда в камере зашел спор о нутре и обличье фашизма. Началось с того, что бронебойщик Зазнобин, дяденька богатырского телосложения, назвал немцев фашистской нацией. Кастусь Шостак возразил – такой нации нет. И напомнил про немцев-антифашистов, которые сидят в концлагерях. Но Зазнобин стоял на своем и все твердил басом вполголоса: одних только эсэсовцев насчитывается больше миллиона, миллионы немцев пользуются рабским трудом, и миллионы спокойно нюхают дым, который подымается из труб крематориев и воняет горелым мясом.
Этьена в тот день мучили приступы кашля, и потому в спор он не вступал. Его не так интересовало – можно называть немецкий народ фашистской нацией или нельзя, но преследовала мысль: хватит ли немцам одного поколения, чтобы из сознания вытравилась вся гнусная мерзость и гадость, привитая фашизмом, все нечистоплотные идеи, которые Гитлер втемяшил в головы «сынам арийской расы»?
Каждый день пребывания в Кастельфранко чреват смертельной опасностью: не все такие ротозеи, как старый Карузо. И не всегда успеешь отвернуться, спрятаться за спиной рослого соседа или низко опустить голову.
Но и скорая эвакуация ничего хорошего не сулит.
Старостина вызвали в тюремную контору: брали на специальный учет генералов и полковников. В комнате, где ждали вызванные на регистрацию, он увидел белобрысого летчика-англичанина. Тот исхитрился подойти вплотную и передал, что через неделю после совещания в Каире в Тегеране встретились Рузвельт, Черчилль и Сталин.
– А второй фронт? – шепотом спросил Этьен.
– Ничего не слышно.
– Рано или поздно ваши высадят десант. Но, видимо, Черчилль считает, что русских перебито еще слишком мало.
Англичанин промолчал.
В комнате, где допрашивали Старостина, валялись на полу окровавленные тряпки, их нарочно не убирали. Допрашивал штурмбанфюрер со значком за тяжелое ранение; значок позолоченный, с лавровым венком и скрещенными мечами. Когда штурмбанфюрер выходил из-за стола, то сильно пошатывался, и не только из-за хромоты. Допрос был скоротечный, переводчик не потребовался.
Старостин отвечал по-немецки. После того как штурмбанфюрер узнал, что оберст находится в плену с начала войны, а на фронте занимался противогазами, немец состроил презрительную гримасу, безразлично отвернулся и скомандовал: «Увести назад, в камеру».
И надо же было так случиться, Старостину предстояло возвратиться в камеру под конвоем Карузо. Как он тут очутился? Ведь на допрос его привел другой надзиратель.
Когда шли тюремным двором – Этьен чуть впереди, Карузо следом, – конвойный вдруг ускорил шаг, поравнялся с конвоируемым, повернулся к нему и сказал.
– Я тут подумал… Джильи все-таки прав, когда «Плач Федерико» из второго акта заканчивает чистым си. Здесь так и просится драматическое, напряженное крещендо. Это же кульминация всей оперы!
– А я по-прежнему считаю, – неторопливо, сдерживая сердцебиение, ответил Этьен, – что всякий певец должен строго придерживаться партитуры. Даже Джильи не имеет права вносить свои поправки. Украшать арию выигрышными нотами! А для чего? Только для того, чтобы еще раз вызвать овацию слушателей!
– А какая была овация! Браво, брависсимо!! – Карузо оглянулся и добавил шепотом, будто поверял самую большую тайну, какой только предстояло стать известной заключенному за все триста лет существования тюрьмы: – Я слушал Джильи в «Арлезианке». А насчет чистого си в «Плаче Федерико», когда он поет: «Ты столько горя приносишь мне, увы!..», будем считать, что каждый из нас остался при своем мнении. – Карузо вовремя умолк: мимо прошагали двое заключенных, они пронесли на носилках труп со связанными руками. А спустя минуту Карузо добавил: – Желаю вам, синьор Кертнер, навсегда потерять меня из виду. Наша третья встреча будет, пожалуй, лишней. Тогда австрияк, теперь русский… Скажите по секрету, с кем я буду иметь дело в следующий раз? – Карузо глубоко вздохнул. – Впрочем, в третий раз вы меня здесь не найдете…








