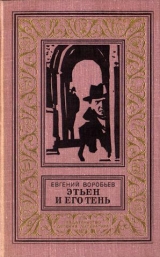
Текст книги "Этьен и его тень(изд.1978)"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
74
За спиной у него котомочка, это и называется «со всем имуществом».
Схваченное решеткой оконце в арестантской карете. В арестантском автомобиле. В арестантском вагоне. И лишь когда менялись средства передвижения, Этьен получал благословенное право смотреть на мир во всей его целостности и слитности. Тогда пейзаж не поделен грубо на квадраты, тогда на панораму, открывающуюся взгляду, принудительно не ложится сетка. Даже отсвет солнца, который кратковременно появлялся на каменном полу камеры, был разделен на квадраты.
Так долго сетка меридианов и параллелей, покрывающая земной шар, представлялась ему тенью тюремной решетки!
Кертнер забрасывал своих попутчиков вопросами.
Что нового в мире? Где сегодня бушует огонь войны?
Этьен, сдерживая и пряча волнение, спросил о Советском Союзе – не доносится ли канонада с Востока?
Он понимал, что лишь меняет сегодня тюремный адрес и не свобода ждет его, а новое заключение.
Впервые его везут в арестантском вагоне. Его провели по проходу между двумя рядами маленьких узких купе, каждое площадью не больше одного квадратного метра. В такой вот клетушке очутился и он.
Едва поезд тронулся, он догадался, что его везут на юг. Может, переселение пойдет ему на пользу? Только бы не повезли в Сицилию или на Устику, где обдает беспощадным зноем Африка. А мягкий морской воздух полезен для больных легких.
И все-таки светозарное утро, а затем длинный весенний день принесли столько нежданной радости, столько скоротечных восторгов!
Он глядел в Болонье сквозь решетку арестантского автомобиля на привокзальные улицы и рад был каждому встречному.
Даже тому, кто провожал арестантский фургон безразличным или неприязненным взглядом.
Одежда прохожих казалась крикливой, яркой. Он забыл, что не все человечество одето в серо-коричневую арестантскую робу, что люди носят цветные платья, косынки, рубашки, шляпы, платки, шарфы, чулки. Он словно заглянул на чужой праздник. Глаз его насыщался давно забытой палитрой улицы – пестрая толпа, яркие вывески, разноцветные дома, веселые колеры трамваев и автомобилей.
Да и лица людей, разгуливающих свободно, без конвоя, так своеобразны! Может быть, потому, что он давно не видел румянца на щеках, живого блеска глаз, не видел капризных чубов, локонов, челок, девичьих кос?
Он счастлив был снова увидеть живой мир, который предстал перед ним в возросшем богатстве красок, звуков и запахов.
Он чутко реагировал на забытые звуки. Автомобильный гудок. Веселые звонки велосипедов. Треньканье мандолины. Скрежет трамвая на крутом повороте. Гулкий топот лошади, запряженной в экипаж. Сквозь открытую дверь донесся звон посуды в траттории. В самое сердце его проник плач грудного младенца. Гоготанье гусей, их гнала через дорогу старуха. Зазывные крики продавцов жареных каштанов, газет.
А позже по радио передавали арию из «Травиаты»; певица тоже была с хрипотцой и шепелявила. Этьену вспомнился тайный радиопередатчик «Травиата». Подает ли он еще признаки жизни, выходит ли Ингрид в зашифрованный эфир?
Отзвуки покинутого им давным-давно, полузабытого мира. И хотя в уличной симфонии нет ничего особенно мелодичного, она полна была для него в то утро божественной гармонии. Необъятный мир существует, и внимать ему, созерцать его можно лишь с потрясенной душой. Солнце, небо, цветы, женщины, дети – вот приметы прекрасного мира, обступившего его!
Но стоило ли так долго сидеть в каменном мешке, чтобы увидеть-услышать все это полнозвучное, яркое богатство и снова быть замурованным в четырех стенах с нищенским клочком неба в «волчьей пасти»? Он не насладился свободой, только глянул на нее вполглаза. Неужели он видит мир для того, чтобы навсегда позабыть увиденное? Не увидеть, как молодые деревца научатся давать первую тень?
Но даже если ему никогда не суждено окунуться в живую жизнь, он был счастлив воскресить в своей памяти былое.
Чем ближе к Неаполю, тем попутчики, скованные с ним одной судьбой, чаще поговаривали о том, что их везут на острова. Вероятнее всего, их ждет ссылка на остров Вентотене.
Два дня их продержали в Неаполе, в тюрьме «Кармине», затем привезли на пассажирскую пристань. Отсюда отходят катера на близкие острова Прочида, Искья, отходят пароходы на отдаленные острова архипелага. Не только город, но залив, восточные холмы, крыша королевского дворца, откуда Неаполь как на ладони, – все покоится в серой полутьме, все в предчувствии близкого рассвета. Карабинеры позволили выйти из автофургона, и арестанты уселись в стороне от пристани на прибрежных валунах.

Глядя на море, трудно вообразить, что вот этот самый Неаполитанский залив обычно бывает лазурным. Сейчас море серо-зеленое, бурое, а под низко висящими свинцовыми тучами – черное.
Узников то и дело обдает брызгами, пеной волн. Шторм разыгрался не на шутку. Неумолчный гул оглушает, и переговариваться между собой нельзя – можно только кричать во весь голос.
Ни один камень, а тем более камешек, не остается сейчас на берегу в покое. Они шевелятся, ворочаются, елозят, трутся друг о друга, все в движении. Ветер срывает пену с гребней волн, когда волны обрушиваются, и в эти мгновения видно, откуда дует ветер. Наверное, отсюда и берет начало шторм – течение не соответствует направлению ветра.
Когда море в покое, линия горизонта кажется более далекой, а сейчас, при плохой видимости, горизонт приблизился.
Прошел час, наступило раннее утро, а шторм все набирал силу. Теперь, когда волна разбивалась о прибрежные валуны, ее пена отбрасывалась назад, на гребень волны, подоспевшей вслед. Теперь волна играючи швыряла большие камни. Казалось, даже массивные валуны подрагивают под ударами волн.
Сейчас Этьена никто не услышит, он может орать все, что угодно. Внезапно им овладело страстное желание говорить, кричать, петь по-русски. Штормовое море и небо стали его собеседниками. Когда еще представится возможность выкрикивать во весь голос родные и запретные слова?
– «Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам…» – Он собрался продолжить, но запамятовал… Продекламировал две строчки из «Онегина» заново, надеясь, что с разгона придут на память последующие. Но сколько ни тщился – не мог вспомнить. Огорченный, он снова и снова громогласно твердил: – «Я помню море пред грозою…» – пока не зашелся от надсадного кашля.
В заливе моталась и дергалась на якорной цепи рыбачья шхуна. Смотреть на нее Этьену было физически больно – будто шхуна привязана не к якорной, а к той самой цепи, которая продета через их наручники. Шхуна пыталась и не могла оторваться от своей каторжной стоянки.
Все последние годы тюремные стены прятали Этьена от шторма, от грома и молнии, от ливня, от наводнения, от бури. А сейчас его восхитила неуемная сила стихии, не подвластная ни капралу карабинеров, ни капо диретторе, ни председателю Особого трибунала по защите фашизма, ни самому дуче. Нет силы, которая может сейчас помешать его восхищению! Такая стихия уравнивает в правах любого диктатора и человека в наручниках. Вот так же стихия уравняла когда-то и всех жителей древней Помпеи, засыпав их вулканическим пеплом Везувия.
Чувства обострились до предела. Ему мало обычных порций воздуха – он дышит порывами свежего ветра! Его обдает брызгами волн? Нет, он плывет по штормовому морю в неведомую даль, в будущее! «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы!..»
Утренний свет прибывал, стал виден Везувий на горизонте, высветило набережную возле пристани. Напротив высился коричневый шестиэтажный дом. Окна закрыты ставнями, все с вечера спрятались от дневного зноя, которого сегодня не будет.
75
У Этьена основательно распухли запястья, и он старался как можно меньше двигать руками. А соседи его, уже опытные кандальники, умудрялись скованными руками зажигать спички, скручивать цигарки, чистить апельсины, бинтовать ноги, шнуровать обувь.
Противная все-таки штука эти наручники! Холодно – от железа еще холоднее, а когда жарко – железо вбирает в себя зной и не остывает до вечера. Разность температур железа и человеческого тела все время напоминает о кандалах. Наконец пришла очередь Этьена подняться по трапу.
Пароход, куда погрузили заключенных, переполнен. Этьен прочел название парохода на спасательном круге – «Санта-Лючия».
Седовласый коммунист – он уже бывал здесь – объяснил, что многие едут проведать ссыльных, провести с ними пасхальные дни. Гуманный и очень старинный обычай этот не решились отменить и при фашистском режиме: два раза в году родным разрешалось навещать ссыльных. Вот почему на пароходе столько женщин с детьми.
Над головами арестантов, на палубе, звучали гитары, мандолины, голоса певцов, слышался топот танцующих.
Аппетитные запахи проникали и сюда, в трюм.
Рядом с Этьеном ехали старые знакомые – четыре молодых дезертира и седовласый коммунист. Оказывается, пожилой синьор уже пробыл несколько лет в ссылке на острове Вентотене и едет туда во второй раз. Он явно хотел подбодрить Этьена – режим на острове не слишком строгий, иным ссыльным прежде разрешали жить не в общих казармах, а снимать комнаты. Если жили с семьями, то стражники запирали на ночь и семью. А к ссыльным повыше рангом приставляли специальных конвоиров.
Три раза в день труба сзывает на перекличку тех, кому разрешено ходить по острову.
Пароход дал гудок, машина за перегородкой уменьшила обороты, пристань близка, машинист замедлил ход.
Над головой протопали матросы, послышалась команда, машина застопорила, на палубе поднялась возня, суматоха. Кто-то истошно кричал кому-то на пристани, перебросили трап, вольные пассажиры сходили на берег.
На верху лесенки появился капрал. Не спускаясь в трюм, он стал вызывать заключенных по одному.
Этьен ждал вызова, но фамилия Кертнер так и не прозвучала.
Значит, его не высадят на Вентотене?
Он остался с уголовниками, которых везли дальше.
«Санта-Лючия» только что отошла от причала, и капрал разрешил подняться из трюма на опустевшую палубу.
Их осталось всего трое, пассажиров-невольников.
Этьен уже более уверенно вскарабкался наверх по крутой лесенке, которая ходила ходуном.
Перед Этьеном высился берег, сильно изрезанный бухтами и бухточками, естественными и искусственными гротами, выдолбленными в вулканическом туфе.
Пристань успела опустеть, пассажиры подымались по узким лестницам-улочкам – кто под конвоем, кто конвоируя, а кто сам по себе…
И тут сосед Этьена показал на скалистый остров, отдаленный от Вентотене проливом шириной километра в два.
Он глухо сказал:
– Санто-Стефано, остров дьявола.
Было что-то зловещее в торчащей из моря скале, на вершине которой белеет круглое трехэтажное здание «эргастоло», то есть каторжной тюрьмы. Или трагическая репутация острова освещает скалу таким мрачным светом?
В зрительной памяти возник замок на скалистом острове Иф, тот самый, в котором томился Дантес, он же граф Монте-Кристо. Но остров Санто-Стефано еще более уединенный, отторгнутый от жизни.
«Санта-Лючия» сбросила ход и задрейфовала метрах в двухстах от скалистого берега.
Он не сразу заметил, что к пароходу направляется лодка.
Лодку швыряло на рваной, неряшливой волне, но гребцы были неутомимы. Подойти вплотную к борту опасно.
Тот, кто сидел у руля, поймал конец, брошенный матросом «Санта-Лючии», чтобы лодку не относило назад. А чтобы лодка не ткнулась о пароход, на носу стоял гребец и, виртуозно балансируя, отталкивался от борта каждый раз, когда их могло сильно ударить.
Первым, когда лодку отделяло от борта не более метра, ловко спрыгнул капрал. Но он прыгал, балансируя руками, а Этьену и его спутникам придется прыгать в наручниках.
С последней веревочной ступеньки Этьен прыгнул так, чтобы угадать между двумя скамейками. Его швырнуло на дно лодки, как груз, и он повалился боком, не в силах опереться руками о скамейку.
Матрос с «Санта-Лючии» выбрал конец, трап подняли, прощальный гудок. Гребцы сели на весла.
Лодка неуместно нарядная, белее пены. Пожалуй, этой лодке больше подошел бы черный цвет, как лодке Харона, который перевозил души умерших.
Очень трудно пристать к скалистому берегу: он весь в белом кипении. Возвратная сила волны отталкивала лодку, отторгала ее от острова, будто хотела помешать высадке Этьена.
«А если бы вообще не удалось пришвартоваться к этому берегу? – мелькнула шальная мысль. – Куда бы меня дели?»
Но гребцы знали свое дело, рулевой учитывал направление ветра и причалил к камням, где волна теряла силу, потому что до того разбивалась о другие, соседние камни.
Так же неловко Этьен спрыгнул с носа лодки на камень, омываемый морем и, может быть, никогда не просыхающий. Со скованными руками он прыгал с одного камня на другой, пока не ступил на сухую почву.
Тропа петляла, лавировала, но куда бы Этьен ни сворачивал, порывистый ветер дул ему в лицо, заставляя вбирать голову в плечи и сильно щуриться.
Очень трудно подыматься на крутую гору, когда на руках наручники и страдаешь от сильной одышки.
Этьен постоял, пытаясь отдышаться, оглянулся назад. «Санта-Лючия» уже маячила в беспокойной дали и стала размером с белую лодку. Этьен торопливо посмотрел наверх. Белое трехэтажное здание тюрьмы так близко, что видны решетки на квадратных окнах. Прямая стена фасада возвышается метров на десять – двенадцать. Тропа подвела их к железной калитке под каменной аркой. На арке высечена надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий».
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

76
Круглые башни стерегут главный вход. Попасть в тюрьму можно, лишь пройдя через трое ворот. Кертнер прошел за капралом налево, в тюремную контору, куда тот сдал пакет с документами вновь прибывшего и конверт с его деньгами. Увы, в конверте перекатывалось несколько самых мелких монеток. Карабинер снял с Кертнера наручники и унес их. Недолго, однако, Конрад Кертнер прожил под своей фамилией. Вместе с тремя годами жизни он оставил в Кастельфранко присвоенный ему там номер 2722. Здесь его вновь разлучат с именем и фамилией. Какой номер заменит их отныне? Этьен знал, что приговоренные к различным срокам заключения получают на Санто-Стефано номера, начинающиеся с пяти тысяч, а те, кто сидят пожизненно, начиная с тысячи.
Человек, обреченный на пожизненную каторгу, занумерован навечно. Имя канет в Лету, а номер будет высечен на могильной плите.
Кертнер получил номер 1055. И пока он сидел в конторе, пока у него снимали отпечатки пальцев, кладовщик уже ставил номер 1055 на вещах, которые выдадут. Из старой одежды ему оставили только грубые ботинки, они еще не просохли от морской воды, которая заливала лодку. Белье, носки, постельное белье, летние полосатые серо-коричневые куртка и штаны, такой же берет с жестким околышем и «казакка» – рубаха, похожая на толстовку, из той же серо-коричневой холстины.
Он вышел из вещевого склада, размещавшегося, как и контора, внутри стены внешнего обвода крепости, прошел через вторые ворота. Внутри эргастоло, построенной в виде трехэтажной подковы, – двор, разделенный, как и в Кастельфранко, на отсеки, а в центре двора – часовня.
Апрельское солнце Санто-Стефано могло бы потягаться с июльским в Ломбардии, на севере Италии.
«Неужели я и сам и тень моя до конца дней своих проживем под конвоем? – горько подумал Этьен. – Мы неразлучны. То я бреду за своей тенью, как приговоренный, то она за мной…»
Конвоир повел каторжника 1055 в баню.
Первые две цифры в обращении к каторжнику для удобства опускались, и конвоир уже называл его Чинкванто Чинкве, то есть «55».
– Послушай, Чинкванто Чинкве, что ты такое натворил, чтобы попасть сюда? – спросил конвоир добродушно, когда они шли по двору.
– Убил богатую синьору, ее конюха и украл двух скаковых лошадей. Это было в Риме, на вилле Боргезе, среди бела дня.
Конвоир даже отшатнулся. Его испуг рассмешил Этьена, и тогда конвоир понял: Чинкванто Чинкве шутит. А Этьен был доволен своим дурачеством. Наперекор всему он еще не разучился смеяться!
Навстречу им шагал другой тюремщик. Конвоир Этьена показал встречному четыре пальца, тот понимающе кивнул – направляются в четвертую секцию.
Еще в конторе капо гвардиа сообщил, что по законам каторжной тюрьмы каждый вновь прибывший 10 дней отсиживает в карантине в четвертой секции. За особо тяжелую провинность каторжника наказывают строгим карцером – без матраца, без постели, хлеб и вода, суп раз в неделю. А обычный карцер-карантин дает заключенному право на матрац, одеяло и суп два раза в неделю. Так как на десятидневку обязательно приходится хотя бы одно воскресенье, выдают суп и в третий раз. Воду приносят два раза в сутки.
Казалось бы, все уже отняли у Этьена – свободу передвижения, право дышать чистым воздухом больше сорока минут в сутки, отняли возможность есть досыта, а вот, оказывается, можно отнять еще нечто и посадить в темный карцер, где лишаешься света.
Четыре квадратных метра темноты.
И не удивительно, что Этьену в первую же ночь приснилось солнце. Он так озяб душой и телом, чувствовал острую потребность в солнечном свете.
А почему каторжника, ничем не провинившегося, заталкивают в день приезда в темную камеру? Это делается для острастки. Подавить склонность к бунтарству, если она еще сохранилась! Сделать новосела покладистым, смирным, послушным, чтобы он не скандалил, не нарушал тюремный распорядок и был доволен камерой, где окажется после карантина, – ведь все относительно.
Глухое окошко над дверью. Четыре железных прута поперек и четыре прута вдоль окошка; поперечные прутья вкованы в продольные. Значит, окошко состоит из двадцати пяти квадратов полутьмы. Когда дощатая дверь карцера открыта, то сквозь ближнюю, решетчатую, дверь виднеется отрезок коридора и окно с решеткой, смотрящее в тюремный двор.
Под тощим матрацем – решетка, достаточно редкая, с дырой посередине. В строгом карцере узник лежит нагишом и привязан к койке, так что прутья впиваются в тело. Под дыру подставляют парашу.
Холодно, знобко. Сонная немочь одолевает замурованного человека. Этьен и не подозревал, каким страшным орудием пытки может явиться тишина. В Кастельфранко тишина не была такой удручающей, гнетущей, как здесь, в сыром полуподвале четвертой секции.
Глухонемая жизнь. Немотствует черная ночь. Такой глубокой тишины он еще не слышал. Казалось, здесь умерло даже эхо.
У Рака-отшельника в одиночке тоже было тихо. Но все-таки Этьен слышал птичьи голоса, хлопанье крыльев, к нему вдруг доносилось далекое дребезжание телеги или чей-то смутный окрик. Лишь раз в сутки, на исходе дня, в карцер проникает слабый отзвук церковного колокола. Он висит во дворе и с наступлением темноты возвещает отбой – израсходовался еще день.
Этьен не подозревал, что перевод из одной тюрьмы в Другую невольно воспринимается как новый арест. А может, это объясняется тем, что при переезде на Кастельфранко он жадно наглотался впечатлений?
Изредка открывался глазок двери, обитой железом. Утром появился уборщик – низенький, уже в летах, с седой бородкой. Он подмел, убрал в карцере, а перед уходом молча протянул маленький, мелко исписанный листочек бумаги.
«Я политический, здесь семнадцатый год. На Санто-Стефано еще двое политических. Считаю своим долгом предупредить, что в ваших документах указано восемь дней карцера, на которые вам дана была отсрочка в той тюрьме по болезни. И еще вам предстоят десять суток карцера как новенькому. Значит, восемнадцать суток карцера подряд, что бесчеловечно. Вызовите врача, пожалуйтесь, потребуйте, чтобы в наказании сделали перерыв. На врачебном обходе пожалуйтесь на острый ревматизм. Или вызовите врача в карцер.
Джузеппе Марьяни».
Пока Этьен читал записку, уборщик стоял и ждал, затем отобрал записку, мелко изорвал ее и бросил в парашу: видимо, таково было указание.
– Я сам неграмотный, – промолвил наконец уборщик, – но синьор Марьяни прочел мне записку… Значит, вы тоже политический?
Этьен кивнул.
– Теперь вас в эргастоло будет четверо? Вот никак не могу взять в толк. Я получил двадцать лет каторги, а у вас она вообще бессрочная. Но я был бандитом! Я жил в свое удовольствие! Я пустил на ветер много тысяч лир! Я кутил с красивыми женщинами! А что вы видели в жизни хорошего?
Видимо и не рассчитывая на ответ, уборщик махнул рукой и вышел из камеры.
Письмо неизвестного Джузеппе Марьяни огорчило Этьена и одновременно обрадовало. Огорчило тем, что на него добавочно обрушиваются восемь голодных, темных, промозглых дней карцера. Но в то же время на него повеяло чьим-то добрым участием. Пожалуй, письмо больше обрадовало, чем огорчило.
«Всего трое политических, может, среди них нет ни одного коммуниста. Вот где я мог бы в свое время подать прошение о помиловании, если бы Старик настаивал! По крайней мере, меня не презирали бы свои и я не принес бы ущерба итальянским коммунистам. Но теперь, слава богу, никакие прошения о помиловании вообще не принимают».
К концу дня дверь снова отворилась, и в камеру вошел капеллан. Однорукий, глаза добрые. Зовут его Айьелло Конте.
Не нуждается ли христианин в помощи в столь трудный для него день? Не хочет ли исповедаться или помолиться вдвоем?
Этьен признался, что он человек неверующий, но относится с уважением к верующим и к пастырям, которые заботятся о своей пастве.
Почему капеллан пришел к нему в сутане? Но тут же все выяснилось – тот достал из-под сутаны два яйца, кусок сыра и ломоть хлеба.
– Так это же пармиджане! – Этьен жадно грыз твердый, пахучий сыр, похожий на швейцарский.
Капеллан предупредил, что яйца вкрутую и что Чинкванто Чинкве может есть не торопясь и не оглядываясь на дверь. Никто не осмелится сейчас войти в камеру. А вдруг узник в эту самую минуту исповедуется?
Пока Этьен ел, капеллан, сидя на его койке, рассказывал об острове Санто-Стефано.
Помимо того, что капеллан облегчает страдания и помогает общению людей с богом, у него есть еще одно занятие: он изучает историю и географию Понтийского архипелага…
Островок, на котором они сейчас находятся, самый маленький во всем архипелаге. Его интересно объехать на лодке, прогулка в два километра. Одна треть квадратного километра -площадь, которую занимает скала, вулканическим потрясением поднятая из морских глубин на поверхность. Когда-то под морем был вулкан, островки Вентотене и Санто-Стефано – его верхушка, размытая надвое. Вчера «Санта-Лючия» проплыла как раз над кратером.
Этьен проголодался до дрожи в руках. Последний раз он ел на пароходе – яблоки и виноград из корзинки и ломтик мацареллы.
– По всему видно, что остров совсем маленький, – сказал Этьен с набитым ртом, – даже по размерам карцера. Остается поблагодарить короля за то, что он предоставил мне эти три квадратных метра своей земли. И еще я получу у государства два квадратных метра на местном кладбище.
Капеллан отрицательно покачал головой:
– Только тюрьма и дом диретторе стоят здесь на государственной земле. А весь остров, в том числе и кладбище, уже в частном владении. Островом владеет род Тальерччо. Он унаследовал Санто-Стефано от братьев Франческо и Николо Валлинотто, которые купили остров еще у короля Фердинанда II за 345 дукатов. Полтора века назад здесь построили тюрьму, остров приобрел невеселую славу. А государство уже полтора века платит роду Тальерччо арендную плату.
Капеллан давно связал свою жизнь с островом, он оказывает милосердную помощь каторжникам, учит их грамоте, арифметике, закону божьему, географии и, конечно, истории. Он единолично ведет пять классов школы для каторжников.
Пока Чинкванто Чинкве ел, капеллан успел ему сказать, что он приводит в порядок местное кладбище и решил выбить над входом надпись: «Здесь начинается суд бога». Нравится ли синьору эта мысль? Чинкванто Чинкве одобрил надпись, но предложил ее дополнить. Пусть надпись будет разбита на две фразы. Слева от входа уместно написать: «Здесь кончается суд людей», а справа от входа: «И начинается суд бога».
Капеллан глубоко задумался и перед тем, как уйти, повторил:
– Здесь кончается суд людей и начинается суд божий… Неплохая мысль. Спасибо, сын мой.
Капеллан собрал яичную скорлупу и спрятал в карман, а крошек подбирать не пришлось. Он обещал наведаться еще и выразил сожаление, что Чинкванто Чинкве попал в карцер на страстной неделе и вынужден будет провести здесь пасху, что само по себе богопротивно.
Чинкванто Чинкве объяснил, что помимо десяти суток карантина он задолжал восемь суток карцера тюрьме Кастельфранко. Полагал, что наказание аннулировали, когда он лежал в тамошнем лазарете.
Капеллан покачал головой: плохой христианин, злопамятный человек оформлял его сопроводительные документы.
Чинкванто Чинкве спросил, сидит ли здесь Джузеппе Марьяни, и получил утвердительный ответ. Но расспрашивать о неизвестном ему синьоре, который поспешил со своим дружеским участием, Этьен не решился.
Совет Марьяни помог. После жалоб Чинкванто Чинкве на приступ острого ревматизма тюремный врач распорядился не оставлять узника в карцере на второй срок и отложить старое наказание до той поры, пока Чинкванто Чинкве не поправится.
Утром в страстную субботу в карцер явился капо гвардиа:
– Завтра пасха. Я разрешаю вам перейти в камеру тридцать шесть, которая вас ждет. А потом досидите еще пять суток. Просьба капеллана.
– Если в связи с праздником пасхи администрация решила быть милосердной и отменить карцер совсем, я с благодарностью приму такой акт милосердия. Но временная отсрочка – милостыня, и я ее не приму.
Капо гвардиа находился в весьма затруднительном положении. Под конец беседы он признался, что требование отпустить Чинкванто Чинкве исходит не только от капеллана. Об этом стало известно всем узникам в эргастоло.
От уборщика с седой бородкой Этьен знал, что каторжники возмущены, ругают тюремное начальство последними словами: весь пасхальный праздник отравлен, когда в карцере томится христианская душа. Заключенным стыдно за администрацию, которая берет на свою душу такой грех. Что же тогда стоят призывы к морали и справедливости?! И держать узника на хлебе и воде в день, когда воскрес Христос, – неприличная жестокость.
Капо гвардиа явился еще раз, снова уговаривал Чинкванто Чинкве, но тот стоял на своем и отказался покинуть карцер.
Этьен успел всесторонне обдумать предложение капо гвардиа и только делал вид, что упрямится, петушится себе во вред. По всем расчетам покидать сейчас карцер невыгодно. Во-первых, где гарантия, что ему не придется отсидеть оставшиеся пять дней карантина плюс старые восемь дней подряд, что будет мучительно? А во-вторых, маловероятно, что в пасхальные дни его оставят в карцере на хлебе и воде. Если же ему будут давать в эти дни суп, то сам бог велел проторчать всю пасху в карцере, чтобы последующее наказание голодом стало не таким чувствительным.
Он оказался прав в своих предположениях. В дни пасхи ему и впрямь делали поблажки, чтобы все узнали о милосердии капо диретторе. И благодаря своей хитрости новосел перенес карцер без голодных обмороков, без приступов головокружения.
Его вывели из карцера в пасмурный день, а он, отвыкший от света, щурился так, словно его ослепило нестерпимое солнце.
Медленно поднялся он на третий этаж и остановился перед камерой 36.
Первая дверь, ведущая в камеру, деревянная, обита железом, с окошечком, в которое едва можно просунуть миску с супом, стена шириной без малого метр, второй дверью служит железная решетка.
На самом деле камера светлая или так кажется после карцера? А насколько здесь суше? Ему полагаются два одеяла и подушка, набитая морской травой.
Он забрался на табуретку и прильнул к окну, закрытому «волчьей пастью». В верхнюю щель, кроме клочка неба, видна полоска моря, оно тускло синеет совсем рядом.
Ему даже показалось, что слышен скрип уключин невидимой лодки. Может, лодка и в самом деле плывет где-то близ берега? Нет, это скрипнула ржавая петля или щеколда.
Долго, очень долго стоял он на табуретке, не отрывая взгляда от моря, уходящего к горизонту. Одни только глаза оставались у Этьена на свободе, и он смотрел на чаек, на море, все в белых гребешках, на дымок парохода в серо-синей дали…








