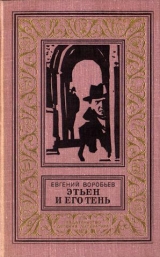
Текст книги "Этьен и его тень(изд.1978)"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
68
Настал день, когда Кертнер, Бруно, рыжий мойщик окон и другие товарищи распрощались с Ренато. Он посидит в карантине, а вскоре его встретит в тюремной канцелярии истосковавшаяся и счастливая Орнелла. Она, как третий карабинер, будет сопровождать его до Турина.
На пороге свободы Ренато подвергнется тщательному обыску, и потому даже микроскопическую записку с ним не передашь. Что Этьену важнее всего передать на словах? Он напомнил своим, что адвокат Фаббрини, клятвенно обещавший приехать наконец на свидание, не вызывает в нем доверия.
Местные товарищи обещали ему в ближайшие дни все выяснить. Если Этьен ошибся, если его подозрения напрасны и антипатия к Фаббрини беспочвенна, Этьен обязательно передаст с адвокатом «сыновний привет Старику».
Если же опасения насчет Фаббрини подтвердятся, «сыновний привет Старику» передан не будет; значит, с Фаббрини нужно срочно рвать всякие отношения…
Через несколько дней их, как обычно, вывели на прогулку в тюремный двор. Кертнер шагал за дружеской спиной Бруно. А в затылок дышал неизвестный Кертнеру узник.
Вдруг донесся шепот незнакомца, шедшего след в след:
– Не оборачивайтесь… Вы интересовались своим адвокатом. Ну, тем, мордастым… Не верьте ему. Тут сидят его «крестники»… За ним и кличка такая в Болонье ходила – «Рот нараспашку». Прошу не оборачиваться…
Это предупреждение не прозвучало для Этьена полной неожиданностью – он давно был во власти тревожных догадок и предчувствий. Теперь понятно, почему таким естественным был стиль и вся манера письма, которое Фаббрини адресовал директору тюрьмы. Видимо, Фаббрини написал на своем веку не один десяток доносов.
Там же, на прогулке, Этьен подумал, что должен скрыть свою осведомленность перед лицом тюремной администрации, выказывать по-прежнему полное доверие к адвокату Фаббрини. Этьен должен продолжать игру в кошки-мышки, пока Фаббрини считает его глупым мышонком. Нужно скрыть все, что Этьену известно, и по-прежнему притворяться недогадливым. И с помощью адвоката-чернорубашечника дать знать своим о том, кто это такой. После памятной прогулки, после доверчивого шепота в затылок Этьен все время опасался, как бы Тамара и Гри-Гри не доверились провокатору.
Ведь не начал же он сотрудничать с охранкой уже после суда! Совершенно очевидно, что, когда миланская коллегия адвокатов назначила его защитником, Фаббрини уже был коллегой того самого агента, который чуть-чуть косит левым глазом.
В комнате свиданий Фаббрини появился с опозданием. Он никак не мог отдышаться, будто долго бежал, и жадно хватал воздух маленьким, женским ртом. Кругообразными движениями руки, с зажатым в ней платком, он вытирал лицо, лоснящееся от пота, и жирную шею.

Он снова был неумеренно словоохотлив.
Этьен слушал Фаббрини и не слышал его. Слова скользили мимо сознания, а думал он только о том, чтобы Фаббрини, когда он на днях увидится с Джанниной, не навредил бы ей, Тамаре и даже Гри-Гри. Фаббрини, конечно, заметил, что Кертнер сегодня чем-то подавлен и молчит – плохо себя чувствует или на него нашла апатия?
Как нужна была бы Этьену сейчас крепкая нитка, связывающая его с внешним миром, нитка, которую прежде держали в своих руках Ренато и Орнелла, нитка, которую не ощупывал бы своими руками цензор или «третий лишний». Но ту гнилую нитку, которую держит в больших нечистых руках Фаббрини, следует оборвать самому.
– Хотите со мной что-нибудь передать? – спросил Фаббрини.
– Нет.
– Может, привет кому-нибудь? .
– Нет.
Только в эту минуту Этьен вышел из состояния тягостного безразличия, в котором сидел на свидании. Он добился того, чего хотел: Фаббрини, сам того не подозревая, оборвет связь между ними.
Много приветов Этьен адресовал Старику на своем разведчицком веку. Но еще никогда отсутствие привета не служило паролем и не было сигналом столь острой тревоги.
69
Бруно и Кертнер спали голова к голове. И когда бессонница одолевала обоих, они вполголоса говорили ночи напролет.
Однажды Кертнер рассказал Бруно, как он сражался за революцию. Другой ночью рассказал, как голодал; он и его бойцы много дней питались только соленой рыбой. И названия этой рыбы Бруно никогда прежде не слышал – вобла.
А когда зашел разговор об охоте, Кертнер рассказал о смелых лесных жителях, которые ходят на медведя с одной рогатиной; пришлось долго объяснять Бруно, что представляет из себя рогатина.
Бруно давно догадался, что речь идет о России, где еще в лесах разгуливают медведи? Нетрудно догадаться, что Кертнер жил там.
Но никогда Бруно не делился своими догадками, ни о чем не расспрашивал, а самое главное – не обижался на Кертнера за то, что за какой-то чертой тот остается скрытным. У Бруно хватило душевной щедрости не отказывать ответно Кертнеру в общительности и не стать менее откровенным.
Никогда Кертнер не произносил русских слов. Иногда он пел незнакомые, берущие за сердце мелодии, но всегда без слов. Бруно был уверен, что это русские песни, чувствовал, что товарищ не по доброй воле отлучает слова от мелодии.
Уже потом, много лет спустя, когда Бруно был мобилизован на русский фронт и до полусмерти мерз в донецких степях, он услышал там знакомую песню. Мелодия не раз звучала когда-то в их тюремной камере. Бруно переписал и выучил текст песни. Она начиналась словами: «По долинам и по взгорьям…»
Время от времени Кертнер получал записки, письма. Они приходили к нему очень сложным путем. Это ясно хотя бы по тому, как бывала скомкана бумажка, которую дрожащими от нетерпения пальцами тайком расправлял Кертнер ночью.
Но Бруно прощал другу скрытность, так как был убежден в его доверии. Иногда чувствовалось, что Кертнер ходит, распираемый важными новостями, его томит жажда неутоленной откровенности, и тем не менее он вынужденно молчит. Изредка у Кертнера бывало приподнятое настроение. Он про себя праздновал годовщину Октябрьской революции или День Красной Армии в конце февраля, не забывал хоть чем-нибудь отметить день рождения дочери Тани 21 октября и день рождения Нади 28 января. Бруно воспринимал те дни и как свои праздники.
Бывали такие счастливые совпадения, когда русские революционные праздники или Первое мая приходились на воскресные дни. Тогда их можно было отметить хотя бы более приличным обедом. Пять крошечных кусочков мяса, нанизанных на деревянную лучинку, и миска мясного супа. Настоящий банкет! В такие воскресные дни Кертнер бывал особенно доволен – будто обманул все тюремное начальство, а заодно с ним самого дуче.
Бруно знал, что когда Кертнер отказывается от прогулки, ссылаясь на недомогание, тому нужно остаться в камере в полном одиночестве и тайком от всех что-то написать. В таких случаях Кертнер не гнушался ничем и не брезговал подолгу торчать в углу, где стоит параша.
Однажды ночью Бруно ненароком подсмотрел, как Кертнер прячет записку в хитроумный тайник – в щель между кирпичами, замазанную глиной, над самым полом. Но Бруно не стал задавать никаких вопросов.
И, может быть, высшей мерой их доверия друг к другу были не беседы, а обоюдное молчание о делах, которым противопоказаны слова, даже самые дружеские.
Бруно был прилежным учеником Кертнера, но это вовсе не означало, что он во всем и всегда с ним соглашался. Однажды во время прогулки Бруно заметил, как его друг изменился в лице, увидев самолет.
– Знаешь, Бруно… – сказал Кертнер задумчиво. – Летчику тяжелее сидеть в тюрьме, чем шахтеру. Летчик сильнее тоскует без неба, без простора…
– Сильнее, чем шахтер? Не верю! – возразил убежденно Бруно. – Потому что шахтер тоскует без неба, без простора и на свободе.
Летом, начиная с мая, Кертнер всеми мыслями и чувствами был в Монголии. Там шли бои с японцами, напавшими на Советский Союз. Он перелистывал воскресные журнальчики в поисках какой-нибудь информации о Халхин-Голе, расспрашивал кого только мог, а потом делал коротенькие доклады об этих событиях. Бруно нетрудно было догадаться, что его друг и сосед. – человек с большим военным кругозором. Бруно только слушал, вникал в подробности и помалкивал.
Этьен понимал, что там, в песках Монголии, идет серьезная разведка боем, и японцы пытаются прощупать, насколько мы готовы к войне с ними. Разрозненные, отрывочные сведения не всегда собирались в связный обзор. Трудно было, сидя в тюрьме, воссоздать картину боев, прежде всего Баин-Цаганское сражение. Но Этьену даже из итальянских телеграмм было ясно, что японские танки экзамена не выдержали. В то же время их бомбардировщики, зенитные орудия оказались на высоте, а пехота дерется стойко и храбро.
После событий на Халхин-Голе и после договора с Гитлером о ненападении уже не было столь неожиданным сообщение о том, что немцы начали военные действия. И снова первым прочитал, Кертнеру эту газетную телеграмму злобный сардинец. Ни Кертнер, ни «Примо всегда прав», никто еще не знал, что 1 сентября 1939 года войдет черной датой в память и в календарь человечества, – началась мировая война. 3 сентября иссяк ультиматум, предъявленный Гитлеру. Англия оказалась в состоянии войны с 11 часов, а Франция с 17 часов.
Месяц спустя «Примо всегда прав» показал Кертнеру через решетку газету с фотографией: Гитлер принимает военный парад в Варшаве. Он стоял в длинном кожаном пальто, с вытянутой рукой и благосклонно взирал на кавалеристов, дефилирующих мимо него. Его окружали генералы, одни в касках, другие в фуражках. С фонарных столбов свешивались флаги со свастикой.
«Не будет ли осложнений у Скарбека? У него польский паспорт, – все чаще тревожился Кертнер. – Лишь бы ему не пришлось уехать, лишь бы не закрылось фотоателье «Моменто».
Да, немало печальных и даже трагических новостей сообщил за два года злобствующий тюремщик. И как трудно бывало правильно оценить каждое такое сообщение, вселить в молодых товарищей по камере веру и бодрость, правильно осветить события, происходящие в мире, и дать им революционную марксистскую оценку.
Немало острых споров вели они по ночам в конце августа 39-го года, после того как СССР и Германия заключили пакт о ненападении.
Помимо споров с Бруно, в те дни Этьен тяготел к размышлениям наедине с собой. Он взял в тюремной библиотеке «Майн кампф» Гитлера на итальянском языке и внимательно перечитал. Многие места книги выводили его из душевного равновесия. Особенно запомнилось:
«Мы покончили с вечными германскими походами на юг и на запад Европы и обращаем взор на земли на Востоке… И когда мы говорим сегодня о новой территории в Европе, нам сразу приходит на ум только Россия и пограничные государства, подчиненные ей… Гигантская империя на Востоке созрела для падения».
Не раз во время чтения Этьен думал:
«Все у нас должны знать, с каким «заклятым другом» мы заключили договор о ненападении.
Вот же мне, коммунисту и командиру Красной Армии, в это грозное время пришлось надеть на себя маску и шкуру австрийского коммерсанта. Может, в этой предвоенной обстановке и Советской стране пришлось притвориться доверчивой. Лишь бы не довериться на самом деле, а только притвориться…»
70
Прежде, когда счет шел на годы, месяц казался значительно более коротким, чем сейчас.
Совсем, совсем недавно оставалось сто дней до освобождения, а сегодня – только три месяца. Конечно, три месяца – тоже срок немалый, но воодушевляет уже одна мысль, что было во много раз больше.
А потом счет уже пошел на недели. Значит, наступит такое время, когда единицей измерения станут сутки?
За десять дней до освобождения заключенный переводится из общей камеры в одиночку. Может быть, для того, чтобы уходящему на волю не давали всевозможных поручений, не использовали его как связного?
Кертнер заранее начал принимать от своих тюремных собратьев поручения. Конечно, в пределах того, что может сделать человек, высылаемый за границу под конвоем: например, передать чью-нибудь просьбу соседу по вагону или прохожему, который вызовет его доверие.
В камере № 2 уже давно сообща высчитали, что 3 декабря Кертнера должны перевести в одиночку. Последний день пребывания в общей камере, последний вызов на прогулку. Он пытливо вглядывался в лица. На всех одно и то же выражение – смотрят с завистью, и каждый мысленно задает себе вопрос: «Неужели и для меня когда-нибудь наступит такой день, неужели и я доживу до такой радости?»

Перед концом прогулки он попрощался с товарищами из других камер. Скорее всего, его переведут в одиночку завтра утром.
– Значит, последняя прогулка?
– Да, последняя, – радостно подтвердил Кертнер.
Все сняли серо-коричневые береты в знак приветствия, он никогда больше не увидится с товарищами.
Личная радость отравлена тревожным состраданием ко всем этим людям. Только подумать, что их ужасное прозябание будет продолжаться, когда он окажется далеко-далеко от мрачных стен, замков и решеток. Им овладела невыразимая нежность к товарищам, которых он здесь оставляет, а прежде и больше всего – к Бруно. Ему предстоит просидеть еще девять месяцев. Огромный срок! Этого времени женщине хватает, чтобы зачать и в первый раз накормить младенца грудью.
Бруно помалкивал, но в камере знали: он не верит фашистам и боится, что Кертнера оставят в тюрьме сверх срока.
Тем большей была радость, когда 3 декабря, после утренней воды и раздачи хлеба, к решетчатой двери подошел Карузо и прозвучало жданное-долгожданное и все-таки неожиданное:
– Номер две тысячи семьсот двадцать два! На выход со всем имуществом!
«Со всем имуществом!!»
Три мучительных года Этьен ждал, когда для него прозвучат эти слова. И вот наконец-то Карузо произнес их, – как показалось Этьену, произнес, тоже слегка волнуясь.
– Только сейчас рассеялись мои сомнения, – счастливо улыбнулся Бруно. – Ты на пороге свободы.
– Надо еще прожить эти десять дней, – глубоко вздохнул Кертнер, но тут же неудержимо рассмеялся.

Больше ни слова друзья не сказали, молча обнялись – каждому хотелось прильнуть к другу всем сердцем – и заплакали, хотя оба стеснялись слез. Им обоим удалось овладеть собой, только когда они бойко завели речь о каком-то совершенном пустяке.
Уходя из камеры, Кертнер впервые не сказал сегодня соседям: «Ариведерчи», а радостно воскликнул: «Аддио!» – и спазмы сжали его горло.
71
Одиночная камера, где Кертнеру предстояло провести в строгой изоляции последние десять дней, – на втором этаже.
Обычно, войдя в камеру, заключенный сразу спешит к окну: ну-ка, что мне будет видно отсюда в ближайшие месяцы, а может быть, годы?
Но Этьен был сейчас равнодушен к виду из окна, он устало сел на койку.
Если быть чистосердечным и совсем искренним, Этьен даже доволен, что напоследок очутился в одиночке. Хорошо, что его отселили из общей камеры: предчувствие близкой свободы требует одиночества. Было бы жестоко и безнравственно жить счастливцем рядом с теми, кому еще предстоит долго томиться в заточении. А скрывать счастье труднее, чем горе.
Сколько есть на свете радостей, о которых и не подозревают те, кто всегда живет на воле!
Скоро у него вновь появится необходимость следить за временем и куда-то торопиться. Пожалуй, гуманно, что узникам не оставляют часов, а то бы они не отводили глаз от циферблата и сокрушались по поводу того, что стрелки движутся слишком медленно.
Вновь появится право написать письмо, записку, когда за листом бумаги не подглядывают холодные глаза Джордано.
Люди на воле и не подозревают, что значит ходить по земле, куда и как тебе самому заблагорассудится, не ожидая команд и не прислушиваясь к ним.
Люди на воле не ценят возможности спать в темноте, без принудительной лампы над головой, они могут включить и выключить свет, когда им захочется. Ох, этот свет тюремной лампы, режущий глаза! И саму лампу тоже, как узницу, обволакивает железная сетка.
Право остаться наедине с собой, чтобы смотритель через «спиончино», то есть глазок, не засматривал тебе в самую душу…
Да мало ли есть уже почти забытых радостей, и все эти радости станут ему вскоре доступны!
Десять дней даны ему для того, чтобы подготовиться к свободной жизни, ко второму рождению, к 12 декабря 1939 года…
Иным счастливцам, едва они перешагнут порог тюрьмы, бросаются на шею родные, близкие. Никто его у тюремных ворот не поджидает, встреча ждет далеко-далеко от Кастельфранко. Но при благоприятных обстоятельствах его могут быстро перебросить в Москву.
Может, ему удастся попасть туда к Новому году? У Танечки скоро начнутся зимние каникулы, лыжи ждут в передней. На балконах московских домов уже стоят перевязанные елки. Предусмотрительные хозяева купили елки впрок и держат их на балконах, чтобы хвоя не осыпалась в тепле раньше времени. А в канун Нового года елку никак не достать… Вообще конец года всегда приносит с собой множество хлопот и забот. Вечная возня с подпиской на газеты и журналы. А тут еще вечные и бесконечные варианты – где и с кем встречать Новый год. Охотней всего вспоминалось, как однажды они большой компанией встретили Новый год на лыжах. И снег скрипел на весь лес, и заразительно смеялись, и оглушительно хлопнула пробка от шампанского.
Он жадно примерял свободную жизнь к себе прежнему, совсем здоровому, и был не в силах превозмочь самообман. Будто он выйдет из тюремных ворот таким, каким вошел в них три года назад, оставив все приставшие к нему в тюрьме хворобы, будто хворобы эти не сделались неотъемлемой принадлежностью его тела, будто болезни были всего-навсего придатком к тюремному режиму и он может отшвырнуть их заодно с арестантской одеждой.
Конечно, его срочно отправят в санаторий. Он представил себе заснеженное Архангельское, где когда-то отдыхал вместе с Надей. Он испытывал острое удовольствие от того, что не таясь, вслух разговаривал в камере-одиночке по-русски, декламировал по-русски стихи, напевал русские песни.
Заключенный, который досиживает срок, становится более послушным, смирным, покладистым. Этьен не собирался быть исключением из правила, он берег сейчас нервы для грядущих испытаний, старался не раздражаться, не быть строптивым и капризным.
Но тут произошел случай, который едва не выбил Этьена из колеи, заставил его изрядно поволноваться. В «волчью пасть», за окно, упал воробышек с перебитым крылом и никак не мог выбраться обратно на волю. А Этьен ничем не мог помочь! В ту ночь он не сомкнул глаз, нервы были напряжены до предела. Примириться с тем, что воробей умрет здесь, как многие люди, переступившие порог этой тюрьмы? Он вызвал надзирателя, потом явился капо гвардиа и распорядился, чтобы развинтили железную ловушку. Капо гвардиа знал, что заключенный досиживает последние дни, и, может быть, захотел на прощанье прослыть отзывчивым, кто его знает. Так или иначе, но полуживого воробья выпустили на волю.
Этьен сидит на тюремном пайке последние дни, можно позволить себе часть хлеба скармливать птицам. И ведь каждое утро слетаются на его подоконник, будто знают, что тут для них кормушка. А может, птиц кормил его предшественник? Кертнер спросил об этом у Рака-отшельника, но тот, по обыкновению, ничего не ответил.
«Вот так же ничего не узнает обо мне тот, кто поселится в камере после меня. Кто приклонит голову на это подобие подушки, набитое соломенной трухой? И сколько лет отмучается мой преемник – дольше моего или короче? Может, бедняга промытарится в тюрьме, подобно мне, целых три года? Больше тысячи дней!! Сколько раз надзиратель подсматривал в замочную скважину, гремел засовами, повертывал с ржавым скрипом ключ, простукивал железным прутом решетки – целы ли, – а я все сидел и сидел под ключом у него… Откуда происходит слово «заключенный»? Заключенный – тот, кто сидит под ключом, – осенило вдруг Этьена. – Удивительно, как это не пришло мне в голову раньше? А сколько замков придется открыть тюремщикам, чтобы выпустить меня на волю? Замок в камере – раз, замок на решетке в коридоре – два, замок, которым запирается лестница, – три, замок на двери, ведущей в галерею, – четыре и, наконец, замок на воротах крепости – пять…»
А кто из стражников явится к нему вестником радости, ангелом-освободителем?
Может, Рак-отшельник? Мрачный рыжебородый сицилиец уже в летах. Ему легко сойти за глухонемого, потому что никогда не вступает в разговоры с узниками. Во всей тюрьме, даже среди заключенных, нет, пожалуй, человека столь мрачного, как этот надзиратель. Вчера Этьен попросил у Рака-отшельника зеркало, тот даже не ответил…
«Сколько времени я не видел себя в зеркале? Все годы заточения. Лишь несколько мимолетных отражений в стеклах, когда меня водили в тюремную канцелярию, да еще зыбкие отражения в лужах.
Кажется, я сгорбился, а все негодная привычка мерить шагами камеру, опустив голову, заложив руки за спину. Кажется, сильно поседел. Как пишут в газетных очерках: «Время посеребрило его голову…» Узнают ли меня близкие? «Я уже столько раз видела тебя входящим в дом, что верю – скоро ты вернешься на самом деле», – писала Надя еще два года назад. Не переговорить будет с Надей обо всем ни за день, ни за неделю. А впрочем, никто не знает, как это произойдет.
Интересно, от чего я успел отвыкнуть за эти годы, от чего отучился? Может, уже не умею плавать? Ездить на велосипеде? Бегать? Или рука разучилась держать штурвал, кисть, чертежный карандаш? Столько лет пишу тюремным стилем, недоговаривая что-то, скрывая, скрытничая и таясь, обращаясь к иносказаниям и намекам».
В то утро он проснулся, дрожа от восторга, с предощущением пронзительного счастья. Последнее пробуждение в камере. Последнее утро в тюрьме. Последний взгляд на небо, перечеркнутое решеткой.
Накануне Кертнер сдал книги в тюремную библиотеку, в том числе и полученные с воли книги на испанском языке; по этим книгам он упражнялся в сравнительных переводах на французский, итальянский и немецкий.
Счет пошел на часы. Самые длинные часы, какие Этьен провел в тюрьме. Боже мой, ему осталось мучиться в каменном мешке еще шесть-семь часов! Где набраться терпения и выдержки, чтобы прожить эти самые шесть-семь часов? Раньше чем разнесут хлеб и воду, за ним никто не явится.
Он развернул Библию – она лежала во всех камерах как непременный инвентарь – и попытался скоротать время за чтением, но быстро захлопнул книгу.
Наконец-то принесли хлеб и воду! Сегодня Этьен решил скормить воробьиному племени весь хлеб – самому обедать в тюрьме уже не придется.
Накрошил хлеб, насыпал крошки на подоконник – последний завтрак, приготовленный для пернатых приятелей. Завтра они слетятся к знакомому оконцу и тщетно будут ждать угощения. Воробьи все годы пользовались симпатией Этьена, эти шустрые птахи ему гораздо милее, чем голуби. Хорошо, что сегодня голуби не подлетали к его оконцу, не обижали воробышков.
Каждый дальний отголосок, слабый отзвук тюремной жизни вызывал нервную дрожь.
Вот-вот послышатся шаги, загремит засов, заскрипит замок, откроется дверь, войдет Рак-отшельник, а то и капо гвардиа, Кертнеру подадут ту самую, отчаянно-радостную команду, и он возьмет в руку свой тщедушный узелок с «имуществом».
Кто бы мог подумать, что последний день будет полон таких мучений? Все равно что бесконечно ждать экзамена, от которого зависит вся твоя жизнь. Или сидеть в ожидании допроса и слышать крики, стоны истязуемых, вызванных на допрос до тебя. Или сидеть у двери операционной, ждать, когда тебя положат на стол и станут резать без наркоза, – в общем, пребывать в напряженном ожидании не минуты и даже не часы, а длинные-предлинные сутки.
Приступ ожесточенной тоски не проходил.
Снова шаги в коридоре, сейчас за ним придут.
За ним пришли, но как ни в чем не бывало вызвали на прогулку. Он еще раз попрощается с чахлой травой в каменных щелях, с персиковым деревцом в углу тюремного двора.
Он всматривался в лица тюремных надзирателей – может, прочитает свою судьбу? Но лица тюремщиков были, как всегда, непроницаемы, сумрачны. Может, они сами ничего не знали, а может, профессионально скрывали все от узника 2722.
Вернулся в камеру и вновь стал с содроганием и ужасом ждать. Время идет к обеду, вот-вот начнут раздавать баланду, к которой он легкомысленно не оставил ломтика хлеба. Ведь если принесут обед, значит, его не сняли с довольствия, значит, администрация продолжает числить его и сегодня среди заключенных.
Правильно ли он следил за календарем, не сбился ли со счета, отсчитывая дни?
Может, не десять, а только девять дней просидел он тут, в одиночке?
Загремел засов, повернулся ключ, откинулась дощатая форточка с глазком, и Рак-отшельник протянул руку за пустой миской, которую узнику полагалось уже приготовить.
Машинально подал Кертнер миску, так же машинально взял ее, полную. Он спросил у Рака-отшельника, какое сегодня число – одиннадцатое или двенадцатое, но тот лишь помотал головой, прикрыв притом глаза, будто захлопнул сразу две щелки в двери, два «спиончино».
А больше справиться не у кого, капо гвардиа весь день на вызовы не являлся…
Прошла вечность, прежде чем подоспели сумерки. Вот уже Рак-отшельник прошагал по коридору, контрольно поигрывая по решеткам длинным железным прутом. Говорят, надпиленную решетку сразу слыхать, звук совсем другой, надтреснутый. Но нет, дуче всегда прав, все решетки целы. В дальнем конце коридора затих тюремный ксилофон Рака-отшельника. Утром другой тюремщик пройдется прутом по ржавым переплетам.
«Как же я сбился со счета? Наверное, меня подвело нетерпение. Так часто считал, пересчитывал дни и все-таки сбился. Проснулся сегодня на рассвете неизвестно какого дня. Так можно и до мартобря здесь дожить…»








