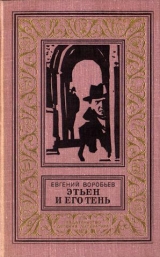
Текст книги "Этьен и его тень(изд.1978)"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
87
По давнишней привычке Этьен делал четыре шага, затем поворачивался, левое плечо вперед, чтобы сделать четыре шага до нового поворота. Так повелевали стены камеры в Кастельфранко и камеры № 36 на Санто-Стефано.
А сейчас он мог сделать и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой, и, наконец, девятый шаг без поворота! Только человек, расставшийся с тесной кельей, может оценить простор общей камеры, где не уподобляешься белке в колесе.
Началось с того, что на валу, у самой тюремной стены, зенитчики установили пулемет. Американский летчик быстро засек огневую точку, сбросил бомбу и вывел пулемет из строя.
После того дня американские штурманы уже не обделяли тюрьму своим вниманием и своим бомбовым грузом, – видимо, они решили, что цитадель на скале превращена в мощный узел обороны.
Больше всего бомбежками были напуганы тюремщики. Капо диретторе Станьо распорядился перевести всех заключенных из одиночек в большие казематы на первом этаже. Стены и перекрытия метровой толщины превратили казематы в солидные бомбоубежища. Все выглядело как забота о заключенных, а на самом деле тюремщикам во время бомбежек было удобнее убегать с первого этажа в подвалы четвертой секции, в безопасную тишину.
Больше всех обрадовался бомбежкам Лючетти. Наконец-то окончилась его строгая изоляция! Кертнер и Лючетти стали соседями, их тюфяки рядом.
Марьяни при поддержке Кертнера решил устроить в общей камере коммуну для политических. В камеру набилось столько людей, сколько тюфяков уместилось на каменном полу! К тому времени на Санто-Стефано томилось уже немало политических из Югославии, Албании, Греции, из других стран.
Общая камера быстро превратилась в шумный политический клуб, где бурно обсуждались новости, и прежде всего – ход военных действий. Послушать эти разговоры – в камере сидят только генералиссимусы, фельдмаршалы, главнокомандующие и начальники штабов, крупные стратеги. Кертнер тоже принимал участие в дискуссиях на военные темы, но при спорах не горячился.
Из военных событий по-прежнему чаще всего обсуждали поражение немцев под Сталинградом. А когда Гитлер объявил в Германии трехдневный траур, Марьяни сказал: Италия также должна бы объявить день траура по своей Восьмой армии, разгромленной на Дону.
В связи со Сталинградской битвой шла длительная дискуссия между Кертнером, двумя югославскими генералами и греческим полковником. Марьяни окончательно убедился, что Кертнер – военный. Не мог штатский человек, тем более коммерсант, с таким знанием дела анализировать ход сражения, вопросы тактики и стратегии.
А как Кертнер ликовал, когда прочел кислую сводку германского командования о битве под Орлом и Курском и когда понял, что Гитлер потерпел новое крупное поражение!
Отныне каждое поражение фашистов на советском фронте или на других фронтах мировой войны воспринималось Этьеном и как событие, которое несет ему спасение.
Бессрочное его заключение на Санто-Стефано во время войны перестало быть бессрочным. А если бы он сейчас отсиживал тюремный срок, он бы не отсчитывал тщательно годы, месяцы и дни, которые ему осталось просидеть, как он это делал в Кастельфранко, ревниво следя за медлительным календарем. День, который принесет с собой крах фашизму, станет днем его освобождения. И бесконечно важно, совершенно обязательно дожить до этого освобождения, потому что еще страшнее самой смерти было бы сознание, что он уходит из жизни, настрадавшись от горьких фронтовых новостей первого года войны и не познав счастья Победы.
Страдания, к которым его приучила каторга, притуплялись от одной Мысли о страданиях миллионов людей – убитых, раненых, измученных или обездоленных войной.
В общей камере бушевали страстные дискуссии. Чинкванто Чинкве отстаивал марксистские позиции, хотя коммунистом себя не называл.
Теперь, после разгрома Испанской республики, ему было удобно выдавать себя за антифашиста, пленного офицера Интернациональной бригады.
Много споров разгоралось вокруг Ленина и его учения.
– Конечно, нашему Антонио Грамши трудно позавидовать, – вздохнул Лючетти. – Но завидую тому, что он познакомился с Лениным, беседовал с ним. Я слышал, Ленин уже был тяжело болен, к нему никого не пускали и для нашего Антонио сделали исключение… Еще юношей я мечтал увидеть Ленина! Вы его никогда не видели? – неожиданно спросил Лючетти, повернувшись к Кертнеру.
– Нет, – ответил Этьен односложно, чтобы не произносить много неправдивых слов.
Он вновь не имел права ответить чистосердечно, этому решительно воспротивился бы Конрад Кертнер.
88
Он попал в Народный дом случайно.
Вернулся с занятий в политехническом колледже и нашел дома незнакомого гостя. К брату приехал товарищ, тоже медицинского роду-племени, не то из Лугано, не то из Лозанны, Лева уже не помнит откуда. Но помнит, что медик приехал в Цюрих всего на несколько часов и ему очень нужно было повидаться с Жаком.
Лева знал, что брат присутствует на съезде швейцарской социал-демократии, где должен выступить с приветствием Ленин. Лева не раз встречал Ленина на улицах Цюриха, а еще чаще на почте; знал, где Ленин живет, но никогда прежде его не слышал.
Лева повел приезжего в Народный дом.
Ленин очень тепло приветствовал швейцарских товарищей, он говорил по-немецки.
Лева хорошо понимал картавый говорок Ленина, понравилась та ясность, с какой Ленин доказывал, почему партия не поддерживает террора и почему при этом стоит за применение насилия со стороны угнетенных классов против угнетателей, почему ведет пропаганду вооруженного восстания.
Это было в один из дней поздней осени 1916 года. Разве мог юноша предполагать, что этот день внесет перелом в его сознание, определит направление всей его жизни?
В годовщину Кровавого воскресенья (в России этот день по старому стилю отмечали 9 января), 22 января 1917 года, Лева слушал в Народном доме доклад Ленина на собрании молодежи о революции 1905 года.
Лева хорошо помнит, что Ленин тогда начал доклад обращением: «Юные друзья и товарищи!» А в конце доклада причислил себя к старикам, которые, может быть, не доживут до решающих битв. Но молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции!
Отныне Лева не пропускал ни одного номера газеты «Социал-демократ», внимательно прочитывал статьи Ленина. Особенно ему запомнилась статья «Поворот в мировой политике», в № 58, незадолго до того, как к ним в Цюрих донеслись первые вести о революции в России, о свержении царя.
Он знал, что Ленин уехал в Берн, где находились все посольства, знал, что группа эмигрантов уже деятельно готовится к отъезду в Россию.
Лева вместе с братом был в числе тех, кто 9 апреля провожал в Цюрихе поезд, которым выехало около сорока эмигрантов во главе с Лениным. На вокзале пришлось долго ждать, пока к поезду, идущему к германской границе, прицепят специальный вагон «микст».
Теперь он каждый день просматривал газеты на трех языках, искал сообщения о приезде Ленина в Россию.
Братья Маневичи надеялись, что им удастся уехать со второй группой эмигрантов, но их перевели в третью, более позднюю группу, и это решение совпало с их личными планами, потому что старший брат должен был завершить работу в клинике, а младшему предстояли экзамены, без которых ему не выдали бы диплома.
Немало провожающих собралось и 20 июня, когда третья группа – еще 206 эмигрантов – покидала Цюрих. На этот раз в числе пассажиров были и братья Маневичи – старший с дипломом врача, младший с дипломом об окончании политехнического колледжа.
Этьен давно не помнит, сколько пересадок пришлось тогда сделать, прежде чем они добрались домой, в Чаусы. Но помнит, что дорога была длинная и трудная.
89
К сожалению, лиры после начала войны сильно обесценились, их покупательная способность стала падать. До войны пяти лир хватило бы на день прокормиться троим. А нынче на такие деньги в лавке приходится покупать у подрядчика все кусочками, ломтиками, щепотками, а сигареты – поштучно. Все равно Этьен был счастлив тем, что подкармливает своих друзей.
Но тем сильнее ощущал Этьен недостаток духовной пищи, страдал от отсутствия информации о положении на Восточном фронте. По-прежнему заключенные имели право читать только иллюстрированные воскресные газеты.
Недавно капеллан прочел вслух письмо с Восточного фронта от бывшего подполковника, ныне полковника Марио Тройли: письмо мрачное, как завещание. Тройли жалуется на русский климат, на русские дороги, на русскую еду, на русский характер, на неуступчивость и бессердечие русских женщин и еще на что-то. Он охотно вспоминает Санто-Стефано. Там, по крайней мере, нет морозов, нет снега, а живой христианин не чувствует себя все время мишенью. Тройли не верит, что вернется домой. Дон – последняя река, которую он видел в своей жизни, не увидеть ему больше ни голубого Неаполитанского залива, ни мутных вод Тибра. Он просит капеллана помолиться за его душу, на которой столько незамолимых грехов…
А в другой раз капеллан сообщил, что Куаранта Дуэ, контрабандист, который пытался убежать из эргастоло в компании с циркачом, по приговору суда расстрелян в Триесте.
Капеллан часами просиживал в камере политических. Но не страх перед воздушными налетами приводил его сюда. Узники встречали капеллана неизменной приветливостью, а он рассказывал немало интересного из истории Понтийского архипелага… На Вентотене сохранились развалины виллы императора Нерона, бассейна, остатки лестницы, вырубленной в скале. Сохранились характерные черты древнего порта, там во время шторма укрывался Калигула. Капеллан готов рассказывать бесконечно, была бы только аудитория…
Все больше послаблений делали узникам эргастоло, капо диретторе Станьо не хотел с ними ссориться. Дела Муссолини шли все хуже, и в тюрьме чувствовалась растерянность. Суетливо шныряли по коридорам тюремщики, присмирел Кактус.
Еще на одну уступку пошла тюремная администрация, когда начались воздушные налеты: убрали «волчьи пасти», и теперь узники часами стояли у зарешеченных окон.
Однажды Этьен и его соседи наблюдали воздушный бой между немцем и англичанином. Позже узнали, что англичанин сбил «Фокке-Вульф-190» и тот врезался в море, но перед тем успел подбить своего победителя, и англичанин выбросился на парашюте. Все в эргастоло во главе с капелланом молились за англичанина.
Но происшествия и события, подсмотренные в тюремное окно, отступили на задний план и забылись после того, как к Санто-Стефано подошел военный корабль под итальянским флагом.
90
26 июля 1943 года около полудня на рейде Вентотене бросил якорь корвет «Персефона». В тот день число ссыльных едва не увеличилось на одного человека. На борту «Персефоны» находился свергнутый Бенито Муссолини.
Не прошло и суток после исторического визита дуче на королевскую виллу «Савойя», как Муссолини попросил короля принять его. Виктор-Эммануил согласился дать аудиенцию, но просил Муссолини приехать в целях конспирации непременно в штатском. 25 июля в 17 часов Виктор-Эммануил III, король Италии и Албании, цезарь Абиссинии, ждал Муссолини у входа во дворец. Тот приехал в темно-синем костюме и поношенной коричневой шляпе. В 17.20 аудиенция была закончена. Король проводил Муссолини до выхода, подал на прощание руку и вернулся в свои апартаменты. Муссолини хотел уехать в своем автомобиле, но ему сообщили, что это опасно, его ждал другой автомобиль. На месте водителя, вместо Эрколе Боррато, который двадцать лет водил машину диктатора, сидел капитан карабинеров.
Из казармы карабинеров, с окраины Рима, Муссолини увезли в полицейской машине к морю. На этот раз он ехал без своего личного телохранителя Ридольти. Некогда тот обучал молодого Бенито фехтованию и верховой езде… Ридольти уже за семьдесят, дуче произвел его в почетные генералы милиции, он ходил в ярмарочно-пестром мундире и до последнего дня сопровождал дуче во всех его поездках.
У берега ждала моторная лодка, она подошла к корвету «Персефона», и, едва Муссолини ступил на палубу, корабль вышел в море и лег курсом на юг.
Еще утром на Санто-Стефано разнесся слух об отставке Муссолини и назначении вместо него Бадольо. Радио известило об этом вчера, 25 июля, в 10.45 вечера, когда в эргастоло было темно и все спали. Новость обнародовал радиодиктор Джанбатисто Ариста, который в течение многих, многих лет оповещал страну о «славных деяниях» дуче и чей голос знали во всех уголках Италии. На этот раз он бесстрастно прочел послание короля, его обращение к народу, а также обращение маршала Бадольо.
После обеда Марьяни узнал от всезнающих уголовников, что в кабинете капо диретторе со стены сняли портрет дуче и эмблемы фашизма, остался висеть только портрет короля. Тюремщики сняли со своих мундиров фашистские значки.
Судя по последней радиопередаче, народ повсеместно ликует. На улицах городов горят большие костры. Жгут портреты дуче, жгут бумаги, которые тащат из участков фашистской милиции и фашистских организаций, разбивают бюсты дуче. Народ требует, чтобы заключили перемирие, амнистировали политических, распустили фашистские организации, требует свободы печати.
Муссолини хотели высадить на Вентотене, но охрана сочла это опасным. Слишком много своих врагов сослал дуче на этот остров. Там томится около пятисот коммунистов во главе с Террачини, Лонго, Секкья, Скоччимарро, Камиллой Раведа. Анархисты еще опаснее, каждый из них может вытащить из-за пазухи бомбу.
Нет, Вентотене – неподходящее место для дуче. Корвет «Персефона» поднял якорь, и через несколько часов Муссолини сошел на соседнем острове Понцо.
Его поселили в рыбачьем поселке, в небольшом домике.
Муссолини разрешили расхаживать по острову, купаться, но лишили радио и газет. А ведь совсем недавно рабочий день дуче начинался с того, что он читал в оригинале сообщения тайных агентов и шпиков, на что уходила немалая часть всего времени, хотя занят он был сверх головы. Дуче не доверял в последнее время даже близким сподвижникам и сосредоточил в своих руках министерства иностранных дел, армии, флота и авиации, внутренних дел…
Здесь, в одиночестве, через три дня после высадки на Понцо, Муссолини отметил свое шестидесятилетие.
Капеллан Аньелло виделся на Вентотене со своим коллегой падре Луиджи, у которого был приход на острове Понцо. Падре Луиджи рассказал, что, в предчувствии близкой расплаты за все злодеяния, у дуче неожиданно появились религиозные позывы. Недавно он захотел исповедаться, но охрана не разрешила. Видимо, события последних дней, внезапное (по крайней мере, для дуче) отрешение от власти, арест и ссылка вызвали внезапный приступ религиозности.
Утром 8 августа по тревоге, буквально за пять минут, Муссолини приказали собраться. Шлюпка доставила его на корвет «Персефона», который вновь пришел на Понцо, чтобы увезти оттуда экс-дуче.
На сей раз Муссолини высадили на островке Санта-Маддалена, к северу от Сардинии. Сотня карабинеров охраняла его в отведенной ему вилле. Разрешили читать, писать, передали книги, которые ко дню рождения прислал Гитлер.
С острова Санта-Маддалена Муссолини переправили еще севернее, в горы, к подножию пика Монте-Корво, в отель «Кампо императоре», как бы специально для того, чтобы 12 сентября 1943 года его удобнее было выкрасть оттуда фашистскому диверсанту Отто Скорцени.
91
Можно было подумать, что остров Санто-Стефано оказался в ночь с 6 на 7 сентября 1943 года на самой линии фронта. Черное небо в сполохах и зарницах. Стреляют, бомбят совсем рядом. Кто-то из тюремщиков видел на горизонте военные корабли.
Узники Санто-Стефано напряженно ждали новостей с Вентотене, считали минуты; воедино слились надежды и чаяния самых разных людей.
Днем 9 сентября к Санто-Стефано подошла моторная лодка. Старый знакомый Катуонио выполнял обязанности лоцмана, он показывал, куда причалить. Но прошло не меньше часа, прежде чем в тюрьму явился американский офицер, а с ним несколько солдат морской пехоты, капо диретторе Станьо, капо гвардиа, тюремный врач и дежурный надзиратель.
Многие радовались вдвойне – и краху фашизма, и своему освобождению.
Капитан морской пехоты оказался американцем итальянского происхождения, изъяснялся с сильным акцентом. Он не доверял тюремной дирекции и сам выстроил каторжников во дворе.
– Политические – два шага вперед! Иностранцы – два шага вперед! Все иностранные подданные будут освобождены в первую очередь. Американцев нет?
– Нет!
Всех пятьдесят семь политических вызвали в канцелярию, и после вопроса «За что осужден?», после выяснения мотивов ареста капитан вносил их в список лиц, подлежащих немедленному освобождению.
Кертнер объяснялся с капитаном по-английски, сказал, что лишен возможности вернуться в Австрию, пока там нацисты, что болен и нуждается в помощи Красного Креста. Капитан заверил австрийца, что он имеет право на лечение, как освобожденный из военного плена. Но куда именно его направят – сейчас сказать не может, узнает в штабе.
Капитан увез с собой на Вентотене первую группу освобожденных. Завтра с острова отправят остальных политических.
Уголовников увели назад в камеры, а политические, все, кто не уехал с первым рейсом, в свои камеры не возвратились: их уже не запирали.
Эргастоло облетела весть, что с острова сбежал надзиратель Кактус. Он боялся самосуда, знал, что ему припомнят пучок лука финоккио и беднягу Беппино…
Заключенному, дожившему до свободы, не забыть минуты, когда он в первый раз вышел за тюремные ворота.
Поначалу Этьен даже растерялся, чувствовал себя беспомощным и одичавшим. Он прошел с Лючетти и Марьяни вдоль тюремной стены, втроем посидели у ворот. Лючетти был в приподнятом, праздничном настроении, напевал «Гимн Гарибальди».
Этьен отвык от самого себя, свободного, живущего без надзора, кому позволено ходить без конвоя. До одури, до дрожи в коленях, до головокружения бродил он с двумя друзьями по острову, с жадностью всматриваясь в голубые дали. Далеко-далеко видно окрест!
Решили отправиться на кладбище, отдать долг памяти не дожившим до освобождения и похороненным под номерами. Положить цветок и на могилу Беппино.
Что может быть печальнее кладбища, куда, в точном значении слова, не ступает нога человека? Кладбище за железной оградой, а калитка – стандартная дверь-решетка, какая ведет во все камеры. Слева от калитки высечено на плите: «Здесь кончается суд людей», а справа – «и начинается суд бога». Этьен вспомнил, что является соавтором сего изречения.
– Даже сюда, на суд бога, – заметил Лючетти, – покойников приносят безымянными, согласно суду людей.
Только в углу кладбища, в стороне от безымянных каторжников, рядом с несколькими тюремщиками – могила Филумены Онорато. Марьяни рассказал, что это могила матери, которой разрешили свидание с сыном. Она приехала на острое, увидела сына и от огорчения умерла.
С непривычки все трое устали от прогулки и заторопились назад в камеру. Обитатели камеры неузнаваемы. Смеялись и те, у кого никогда прежде не видели улыбки; казалось, они вообще разучились смеяться.
А чего не хватает в партитуре тюремного дня? Что сегодня сильнее всего режет ухо? Марьяни и Лючетти согласились, что фонограмма тюремного дня изменилась: стало тише и в то же время шумнее. Шумнее от живых голосов, никто не хотел шептаться, говорить вполголоса. А какие характерные шумы исчезли?
И тогда Кертнер, бесконечно довольный тем, что его загадка осталась не разгаданной, пояснил: не слышно ржавого скрипа замков, не скрежещут постоянно задвижки, щеколды и петли, не грохочут засовы, не звенят цепи, не позвякивает связка ключей в руках тюремщика.
Время до вечернего колокола пробежало быстро. Марьяни был в ударе, он в радостном возбуждении читал вслух главы из «Божественной комедии». Восхищение Марьяни поэтом было безгранично, и оно передавалось слушателям. Марьяни, как многие в Италии, не произносил имени Данте, а говорил с благоговением: «Поэт». Марьяни заразил своей страстью Кертнера, тот уже помнил наизусть много строф, длинные отрывки.
Какие-то неизвестные дружелюбы, ссыльные с Вентотене, прислали Лючетти немного денег. Он купил в тюремной лавке три четвертинки кьянти, и друзья выпили за общую свободу.
Марьяни провозгласил тост:
– За мое отечество!
– Хороший тост, – поддержал его Кертнер. – И за мое отечество!
Марьяни и Лючетти с удовольствием подняли стаканчики.
Утром начались хлопоты, связанные с переодеванием. Марьяни надел поношенный костюм, стоптанные ботинки, побрился у тюремного брадобрея.
Кто бы мог подумать, что узника Чинкванто Чинкве все эти годы терпеливо ждал в кладовой костюм – английский, черный в белую полоску? Костюм переслали из Кастельфранко; и молью не трачен, и совсем мало ношен, и пятна крови давно выцвели. Но будто с чужого плеча, будто его не шил по заказу модный портной в Милане, а куплен костюм в магазине без примерки и оказался номера на два больше.
С обувью было совсем скверно, но Этьен отказался от желтых сандалий, которые ему пытался подарить Джино: тот сам остался бы тогда без приличной обуви.
Сидеть под тюремными сводами не хотелось. Отдохнуть от созерцания решеток, не расставаться со светом дня! Устроились на ночлег в кордегардии.
На следующее утро все не отрываясь смотрели в сторону Вентотене. Наконец моторная лодка показалась в проливе между островами. Уже слышно, как стрекочет мотор. Еще четверть часа, и американцы поднялись по тропе.
Однако где же тот симпатичный капитан? И что за люди в штатском идут за вновь прибывшим моряком?
Вместо пехотного прибыл капитан в морской форме, с рыжей бородкой и злыми глазами. Он привез назад двух югославов, вчерашних узников.
Морской капитан устроил строгую проверку политзаключенных и внес поправки в список, составленный накануне. Двух югославов заново взяли под стражу. Хотя они иностранные подданные, но осуждены за уголовные преступления и поэтому освобождению не подлежат.
Капитан с бородкой допрашивал всех подряд, а в конце допроса каждого сверлил глазами и задавал стандартный вопрос:
– Обещаете не воевать против Соединенных Штатов?
– Да.
– Поклянитесь на Библии.
Тут же дежурил капеллан Аньелло в праздничном облачении, а Кертнер выполнял обязанности переводчика.
Когда рыжебородый вызвал Марьяни, тот с опрометчивой искренностью и неуместной правдивостью начал рассказывать о давнем взрыве в кинотеатре «Диана» в Милане, об ошибке, которую тогда допустили анархисты. Кертнер, переводя на английский, изо всех сил пытался на ходу смягчить показания Марьяни, но это не могло помочь.
– Взрыв? Неплохая школа для гангстеров! Вас опасно выпускать на свободу. Столько жертв… Уголовное преступление! – вынес свой приговор американец. – Я не могу вас выпустить…
Марьяни побелел, он был близок к обмороку, он лишился последних душевных сил. Он уверял, что все долгие годы заключения числился политическим.
Переводчик Кертнер засвидетельствовал, что Марьяни говорит правду.
– Если бы Марьяни был политическим, его бы осудил Особый трибунал по защите фашизма, – утверждал рыжебородый.
Марьяни возражал: когда его судили, еще не было фашистского трибунала. Но морской капитан только любовно поглаживал рыжую бородку и настаивал на своем. Не помогло и заступничество капеллана, который удостоверил, что Марьяни – добрый христианин, хотя и неверующий, и никогда не числился уголовником. То, что Марьяни безбожник, лишь ухудшило дело.
Марьяни был подавлен, обижен. А кроме того – горько отставать от Лючетти и Кертнера.
Когда морской капитан узнал, за что сидит Лючетти, он сказал очень зло и вовсе не шутливым тоном:
– А вас нужно было бы еще подержать на каторге за то, что вы не убили Муссолини!..
Лючетти и Кертнер спускались по тропе к моторной лодке, чтобы ехать на Вентотене, а оттуда еще дальше. Марьяни провожал друзей.
– Я политический, я всю жизнь боролся с фашизмом! – твердил он, шагая рядом с рыжебородым капитаном; в глазах у Марьяни стояли слезы.
– Нет, вы уголовник, – настаивал американец. Подошла минута расставания. Друзья обнялись, расцеловались.
От избытка нахлынувших на него чувств Марьяни нагнулся и неожиданно поцеловал руку Кертнеру. Тот растерялся на какую-то секунду, но ответил другу тем же знаком признательности и любви.
Как только отчалили и взяли курс на Вентотене, провожающих тут же скрыл край скалы. Моторка ходко пересекала пролив, глубоко-глубоко под ними скрывался кратер потухшего вулкана.
Этьен повернулся спиной к эргастоло.
«Дьявол с ней, с этой тюрьмой, она не стоит того, чтобы на нее оглядываться. Столько отмучился…»
Но разве можно забыть Марьяни? Этьен тотчас же вспомнил, что на Санто-Стефано остались добрые товарищи, которые ждут освобождения, которых еще долго не освободят, потому что они числятся уголовниками.
Этьен торопливо пересел на нос катера, чтобы видеть белое трехэтажное здание на верхнем плато, еще и еще раз мысленно попрощаться с Марьяни, со всеми несчастными, виновными и невиновными, кто еще там оставался и от кого навсегда уезжал бывший Чинкванто Чинкве.
Храни надежду всяк томящийся здесь смертный!..
Лючетти и Кертнер сошли на пристани Вентотене. Но всякая связь с материком прервана.
Ходят слухи, что немцы захватили Рим и двинулись на юг. Но точно никто ничего сказать не мог.
На остров Искья уходил пароходик «Нардуччо», на его борт поднялось восемнадцать освобожденных каторжников.
Кертнер и Лючетти были в числе пассажиров; все-таки ближе к Неаполю.
Но на Искье оказалось беспокойнее и опаснее, чем на Вентотене. Немцы обстреливали Искью с соседних островов, с материка, где у них стояли тяжелые батареи.
Этьен сидел в рыбачьей хижине, не в силах совладать с кашлем, а непоседливый, истосковавшийся по людям Лючетти разгуливал по незнакомому острову, не считаясь с предостережениями.
Этьен услышал близкий разрыв. Он решил, что это бомба, сброшенная с большой высоты.
Донесся крик рыбака-грека, оказавшего приют ему и Лючетти:
– Убили! Ваших убили!
– Где?
– На пристани.
Этьен из последних сил побежал к пристани.
Несколько греков, обитателей острова, сгрудились вокруг тел, лежащих на земле и уже покрытых старым парусом.
Этьена пронзило страшное предчувствие, и тут же он увидел торчащие из-под паруса желтые сандалии.

Мучительно разрывалось сердце, он закричал, но голос его увяз в горле.
Парусину отвернули. Джино Лючетти лежал как живой. Для него хватило одного злого осколка – дырочка в левом боку, даже крови не видно. Маленький осколок снаряда из итальянского орудия, а стреляли немцы.
После восемнадцати лет каторги и двух дней свободы оборвалась жизнь Лючетти…
Гроб покрыли красным знаменем. На площади, рядом с пристанью, устроили траурный митинг. Кертнер назвал смерть Лючетти жестокой, несправедливой и сказал про него словами Данте: «Мой друг, который счастью не был другом…»
Не успела траурная процессия отъехать от площади, как начался новый огневой налет. До кладбища добрались уже в темноте и похороны перенесли на утро.
По слухам, фарватер и все пристани в Неаполе заминированы, путь туда закрыт. Значит, нужно плыть в какой-нибудь порт по соседству с Неаполем, лучше всего в Гаэту или в Формию.
По-прежнему ходили слухи, что нацисты заняли Рим и движутся на юг. Спросили шкипера, хозяина парусника, слышал ли он в Гаэте или в Формии о немцах? Шкипер ответил, что вышел из Гаэты 8 сентября утром, немцев там и в помине не было.
И тогда шестеро иностранцев, в том числе Этьен, решили плыть парусником «Мария делла Сальвационе» на материк. Сколько можно ждать другой оказии? Когда еще власти отправят их с неприветливого острова?
Сообща оплатили рейс. Прижимистый и жадный хозяин парусника был далек от сантиментов и мало считался с финансовыми возможностями вчерашних каторжников. Он заломил большую сумму, но нетерпение освобожденных было еще больше. Этьен тоже уплатил за место на паруснике 500 лир, две трети всего своего состояния.
Рыбаки на Искье в один голос говорили о десанте союзников в Салерно, южнее Неаполя. Называли точное время десанта – утро 9 сентября.
Этьен рассудил, что при этом условии Неаполь внезапно стал прифронтовым городом, туда наверняка стягивают немецкие войска для отражения десанта. И безопаснее уплыть от Неаполя на север, тем более что, по словам шкипера парусника, немцев в Гаэте нет.
Как назло, стояла безветренная погода. Старый, с заплатами парус висел вяло, безжизненно и был обречен на безделье. Трудно сказать, кто больше от этого страдал – шесть заждавшихся пассажиров или хозяин парусника, которому не терпелось поскорее убраться с Искьи, подальше от немецких снарядов.
Однако перед рассветом в отель прибежал юнга с парусника и сообщил, что ветер, как он выразился, «проснулся».
Выгнутая ветром парусина несла баркас с пассажирами, говоря по-морскому, на норд-норд-ост. Про запас на дне парусника лежали три пары сухих весел.
Этьен возвращался на материк одновременно и подавленный гибелью Лючетти, и встревоженный.
Сколько ждал он этой возможности – свободно плыть на материк, на волю. Полсотни миль до Формии станут началом его длинного пути домой, в Россию, через границы, через войну, которой, по расчетам Этьена, осталось косить людей и собирать свою кровавую жатву полгода, от силы – год.
Где и как прожить это время Конраду Кертнеру, австрийскому подданному?
Он рассчитывал, что власти в Гаэте помогут ему, выпущенному с каторги политическому, добраться до одного из портов Адриатического побережья, а там его возьмут на борт какого-нибудь корабля. «В крайнем случае, – подумал Этьен, – если дороги из Гаэты временно закрыты, отлежусь в местной больнице».
В это время его настиг такой приступ кашля, что он тут же добавил про себя: «Даже если там дороги открыты, все равно придется сначала отлежаться. Никуда я сейчас не гожусь…»
Судьба разлучила с Марьяни, тот не оставил бы его одного в предстоящих испытаниях. Нет в живых Джино Лючетти, который стал ему братом и готов был делиться всем, что у него есть или будет.
Есть ли сейчас русские в Италии? Только военнопленные, которые сбежали из лагерей и, по вынужденному свидетельству фашистских газет, скрываются в горах, сражаются в партизанских отрядах. Вот бы уйти в горы, в леса, прибиться к такому отряду или перебраться в Югославию, в Албанию, там, наверное, тоже воюют наши…
Но примут ли его в боевую семью, поверят ли Конраду Кертнеру?
В кармане пиджака, надетого взамен полосатой каторжной куртки с номером на левой стороне груди, лежит драгоценная бумажка, она удостоверяла, что Кертнер, уроженец Австрии, просидел столько-то в тюрьмах, как антифашист, осужденный Особым трибуналом на 12 лет.
Почти семь длинных-предлинных лет, зарешеченных, запертых на множество замков лет, прожитых впроголодь лет, вместилось в часы, когда парусник плыл к материку.








