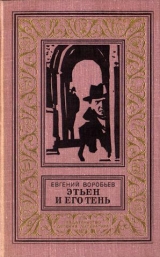
Текст книги "Этьен и его тень(изд.1978)"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
51
Большая камера о трех каменных стенах, а четвертой стеной служит сплошная решетка, выходящая в коридор. Стена-решетка удобна тюремщикам: ничто не укрывается от их всевидящих глаз, жизнь камеры как на ладони.
Но решетка позволяет видеть все, что делается в коридоре, и нет тюремных тайн, которые быстро не становились бы достоянием заключенных.
Камера, в которую посадили Этьена, была рассчитана на восемь человек, но в нее втиснули тринадцать коек. Здесь сидела группа заслуженных революционеров, стойких борцов с фашизмом.
Когда мимо решетки вели политзаключенных, они приветствовали жестами или возгласами соседей Этьена по камере. Тюремщики следили, чтобы проходящие не заговаривали с обитателями камеры. Лишь стражник Карузо, когда дежурил один, не мешал скоротечному общению политических между собой.
Администрация старалась отъединить политическую молодежь от старожилов тюрьмы. Вот почему, несмотря на тесноту, две промежуточные камеры в коридоре пустовали…
Началось с того, что уголовники, которые разносили по утрам хлеб, протащили назад мимо стены-решетки мешки с нетронутым хлебом. В то утро молодые парни из многих камер взбунтовались и объявили голодовку, протестуя против каторжного режима и против того, что ухудшилось питание.
В Италии заключенные находятся на довольствии у поставщика. Он одевает, обувает арестантов, ремонтирует их одежду и обувь. Он же держит лавку и продает кое-какую провизию тому, у кого есть деньги на тюремном счету.
При сдаче подряда на питание заключенных обусловливается и качество макаронных изделий, и заправка супа. А тут подрядчик завез такие темные макароны, что вызвал в тюрьме всеобщее возмущение. В тот день стража боялась открывать двери в камеры, никого не выпускали на прогулку.
Пайка хлеба и миска супа – дневной рацион заключенного. Он даже не в праве попросить кружку кипятку – только холодную воду.
Воскресенье – праздник для всех католиков, в том числе для заключенных. Воскресный режим отличается от будничного: каждый получает еще две-три картофелины в кожуре и 125 граммов мяса без костей; воскресный бульон – отвар этого мяса. И вот уже не первое воскресенье мясо давали гнилое, а хлеб становился все менее съедобным.
Когда утром молодым политзаключенным принесли хлеб, они его не взяли и остались сидеть на нарах со сложенными руками. А в обед они отказались подставить свои миски под черпак, которым разливали суп. В протухшем супе червей плавало больше, чем крупинок риса.
Молодой коммунист Бруно крикнул: «Кораццата Потьемкин» – он видел русский фильм «Броненосец «Потемкин», когда-то фильм крутили в кинематографах Милана.
Заключенные стучали по железной решетке котелками, били табуретками. Иные дали налить в свои миски суп только для того, чтобы выплеснуть его сквозь решетку в коридор.
Когда раздалась команда «на прогулку», никто из камер не вышел.
На беспорядки в тюрьме Кастельфранко оказало влияние и проникшее туда известие о смерти Антонио Грамши. Сперва сообщили о его тяжелой болезни. Муссолини вынужден был согласиться, чтобы Грамши перевезли в клинику. Увы, слишком поздно! 27 апреля 1937 года, через три дня после освобождения, Грамши не стало. Государственный преступник № 7047 расстался с решеткой, но жить было уже нечем, нечем было дышать.
В траурный день многие вспомнили циничные слова тюремного врача, который заявил Грамши: «Как фашист, я могу желать лишь вашей смерти».
Вспомнили в камере и последнее слово Грамши, перед тем как его приговорили к 20 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения: «Вы приведете Италию к катастрофе, мы, коммунисты, ее спасем!»
«А что я предпочел бы для себя? – подумал Этьен. – Прожить на свободе после десятилетнего заключения эти жалкие три дня или умереть в тюрьме? Пожалуй, три безнадежных дня на свободе стали бы самой жестокой пыткой. Уж лучше отдать богу душу, не снимая тюремной одежды…»
Наконец, еще одно событие способствовало тюремному бунту – подошло Первое мая.

Внешность стражника Карузо никак нельзя назвать привлекательной: колючие угольно-черные глаза, посаженные так близко, что между ними с трудом умещается узкий, с горбинкой нос, колючие брови, острый профиль. И однако же именно к нему Этьен рискнул накануне Первомая обратиться с просьбой: подойти к решетке камеры в 8 часов утра и подать знак.
По московскому времени будет 10 утра. Этьену захотелось вообразить себе ту минуту, когда бьют кремлевские куранты, а из ворот Спасской башни выезжает нарком. Сейчас он примет рапорт командующего первомайским парадом, объедет войска и поздоровается с ними.
Тишина, торжественная, полная сдержанного ожидания, овладевает площадью в праздничном убранстве. Литыми квадратами стоят войска. Еще неподвижны древки знамен, их золотые стрельчатые наконечники. Маршевый шаг колонн еще не наполнил ветром знамена, лишь слегка колышется шелк и бархат. Безмолвен оркестр, еще не раздались голоса повелительной меди, мелодии не согреты живым теплом, дыханием трубачей. Но в этой сосредоточенной тишине уже угадывается первый марш.
Все ближе, ближе, ближе величественная и гордая минута – вот-вот начнется парад. И сколько раз ни стоял Этьен в такие минуты на Красной площади, нетерпеливо поглядывая на стрелки кремлевских часов, его всегда переполняло радостное волнение, рожденное предчувствием большого торжества…
Первомайская голодовка, такая упорная и дружная, вызвала беспокойство у тюремной администрации, потому что к молодым бунтовщикам присоединились другие камеры, включая уголовников.
Стало известно, что капо диретторе Джордано уже получил на сей счет запрос из министерства. А 2 мая он начал переговоры с делегатами политических заключенных. В делегацию вошел и заключенный из новеньких, австриец Конрад Кертнер. Он снискал уважение тем, что защищал несправедливо обиженных и не уступал в стычках с тюремной администрацией. Он не называл себя коммунистом, и, однако же, все его поведение позволяло видеть в нем убежденного революционера.
Четырех делегатов от заключенных ввели в кабинет к капо диретторе. Тот был взбешен и не пытался этого скрывать. Больше всего его раздражал заключенный 2722, из новеньких. Упрям, неуступчив в споре и, если на него кричать, тоже начинает повышать голос, подчеркивая тем самым, что его непочтительность – ответная.
Этьен уже знал, какой лицемер этот самый Джордано: с родственниками и близкими заключенных он умел быть добрым, старался прослыть гуманистом. А с заключенными бывает жесток и не одного из них уже свел в могилу.
Мудрый итальянский коммунист сказал директору:
– Вы сами виноваты в смуте, которой охвачена тюрьма. Вам пришла в голову вздорная мысль – выделить специальные камеры для политической молодежи. Мы голодаем в знак солидарности, но вовсе не считаем эту меру самозащиты разумной. Мы не хотим, чтобы молодые люди шли к краю своей гибели. Мы не собираемся учить их смирению, мы тоже протестуем против ущемления своих прав. Но если бы мы сидели в камерах вместе с молодыми, до голодовки не дошло бы, и молодые не бунтовали бы так анархически…
Вскоре после беседы с капо диретторе делегатов отправили в карцер.
На следующий день все политзаключенные и многие уголовники вновь отказались от хлеба, отказались от прогулки, отказались от супа, уже почти съедобного, и продолжали сидеть на нарах, демонстративно сложа руки.
Джордано вновь вызвал к себе делегатов и, после долгих препирательств, вынужден был сдаться.
Он признал справедливым и протест насчет писем; тюремное клеймо с конвертов уже снято. А самая главная победа – капо диретторе разрешил перевести в молодежные камеры троих из четверых приходивших к нему делегатов.
Этьен шел по коридору с узелком в руке и одеялом под мышкой; оно из такого же серо-коричневого сукна, как и тюремная одежда.
В какую камеру приведет его судьба?
Невысокий парень с живыми черными глазами стоял у открытой двери камеры. Он спросил у проходящего по коридору:
– Ты австриец из четверки?
– Да.
– Иди к нам! Мы ждем тебя! – Парень выхватил у Этьена узелок из рук, затащил в камеру, и тут же за ними захлопнулась дверь-решетка.
В камеру Этьен вошел улыбаясь, его окружили изможденные, но счастливые молодые люди, на их лицах отблеск добытой победы.
Этьен положил одеяло на пустовавшую койку и развязал свой худосочный узелок.
Кусочек мыла. Алюминиевая кружка. Зубная щетка. Деревянная ложка и такая же вилка; один зубец этой вилки сбоку заострен, и деревянное лезвие служит ножом. А кроме убогого арестантского скарба в узелке несколько книг – целое богатство!
Из-под нависших бровей Этьен бегло оглядел всех, кто его окружил, и сказал:
– Дорогие друзья! Особый трибунал и фашистская полиция знают меня как австрийца Конрада Кертнера. Таким я должен остаться и для вас. Не задавайте вопросов, не смогу на них правдиво ответить… Ну, а что касается голодовки, молодые друзья, она может подорвать ваши силы. Нельзя жертвовать здоровьем в самом начале борьбы! Здоровье вам еще пригодится. Самое сильное оружие надо беречь для решительного боя. И плох тот стрелок, у которого так ослабела рука, что он посылает свою последнюю пулю мимо цели. Пусть каждый ваш выстрел будет метким!
52
Дорога вдоль апельсиновой рощи изрыта воронками. Пыль еще не улеглась, бомбежка была совсем недавно. По дороге, объезжая воронки и вихляя из стороны в сторону, мчался мотоцикл с коляской. Оба, мотоциклист и пассажир, в форме бойцов интербригады.
Мотоцикл проехал мимо догоравшего грузовика, мимо покосившегося дорожного столба с указателем-стрелкой «Толедо», мимо деревьев с расщепленными стволами и срубленными макушками, мимо опрокинутой двуколки и убитой лошади в постромках.
Сквозь стрекотанье мотоцикла все отчетливее слышался рокот другого мотора. Пассажир в коляске первым заметил самолет и жестом приказал свернуть с дороги.
Оба бросились под чахлые придорожные оливы, упали плашмя на землю. «Фиат» снизился и пролетел вдоль дороги, прошивая очередями реденькую оливковую рощицу. Одна пуля пробила полевую сумку пассажира, две пули попали мотоциклисту в спину.
«Фиат» улетел, стих его мотор, пассажир поднялся, посмотрел на небо и скомандовал:
– Аванти, Фернандес!
Но Фернандес остался недвижим. Пассажир поднял тело, понес к мотоциклу и положил в коляску, сел на место убитого, завел мотор и поехал, медленно объезжая воронки. Были ранние сумерки, когда мотоцикл въехал в ворота монастырского подворья, где обосновался командный пункт Доницетти.
– Курт! – Пассажир подозвал к себе долговязого бойца интербригады – тот сидел в тени каменного забора и перебирал пулемет.
Курт вгляделся в запыленного до неузнаваемости товарища, узнал его, расторопно поднялся и подбежал к мотоциклу.
Вдвоем они перенесли убитого в тень, а монах накрыл его черным покрывалом.
Вновь прибывший отдал Курту какой-то приказ по-немецки, поправил портупею с пробитой полевой сумкой и торопливо прошел через двор, на ходу стряхивая с себя пыль пилоткой. Он подошел к часовому, стоявшему у входа в подвал, и спросил:
– Камарад Доницетти здесь?
Часовой кивнул.
– Доложите. Подполковник Ксанти.
– Проходите, вас давно ждут.
Едва он спустился в полутемный подвал, как его окликнули из полутьмы по-испански и тот же голос нетерпеливо спросил его по-русски:
– Почему так поздно, Хаджи? До перевала далеко. Ты же сам знаешь – ночи короткие…
– С трудом добрался, Павел Иванович. – Ксанти говорил с кавказским акцентом.
Он подошел к столу, положил рядом с лампой запыленную полевую сумку. Доницетти приблизился к свету, на плечи накинута кожаная куртка. Он взял сумку, увидел след пули и вопросительно посмотрел на прибывшего.
– Фашисты висят над дорогой. Налет за налетом… Фернандес убит…
Доницетти поднял «летучую мышь» над головой и осветил подвал. Это был винный погреб; вдоль стены стояли огромные винные бочки. На полу сидели несколько бойцов из интербригады, люди в крестьянском платье, партизаны.
Ксанти коротко кивнул Цветкову, который, по обыкновению, собрал вокруг себя слушателей и возбужденно рассказывал:
– …согнулся в три, если не в четыре погибели, подлез под сваи, приладил свой подарочек, перевязал аккуратненько бикфордовым шнурочком, прикурил и только отполз на карачках – к-а-ак жахнет!!! не успел сказать генералу Франко эскюз ми, в смысле «пардон»…
– Тишина, камараден, – приказал Доницетти по-испански, перекрывая гул голосов и смех. И после паузы сказал: – Шапки долой! Фернандес убит.
Встали, обнажили головы, послышалось на нескольких языках: «Мир его праху!», «Бедняга Фернандес!», «Честь его памяти!»
Ксанти отер серые губы от пыли, взял кружку, подошел к винной бочке, нетерпеливо открыл кран – ни капли.
Цветков сочувственно поглядел и налил ему вина из бутыли, оплетенной соломой.
Доницетти извлек из сумки пакет, сорвал сургучные печати, бегло ознакомился с бумагами и развернул сложенный вдвое, пробитый в двух местах пулей план аэродрома.
Он расстелил план на столе.
– Камараден, вот отсюда они летают на Мадрид. Нужно сжечь бомбардировщики. Это мой приказ и просьба жителей Мадрида. Ночью буду на перевале «Сухой колодец». Хочу вас проводить.
Доницетти познакомил подрывников с диверсионным заданием, он водил пальцем по плану аэродрома:
– …цистерны, ангары, а здесь таверна. Она открыта до глубокой ночи. Учтите, Ксанти, – туда может набиться десятка два посетителей… Здесь, здесь и вот здесь зенитки. От восточных ворот держитесь подальше, там командансия. Ваши исходные позиции – апельсиновая роща, канал Альфонсо. Действуйте одновременно разрозненными группами. После операции выходите на старую дорогу.
– С кем я иду? – спросил Цветков, стоявший рядом.
– В твоей группе Курт и Людмил.
– А Баутисто ждет на перевале, – добавил Ксанти.
Горный перевал «Сухой колодец» был освещен луной, когда по узкой тропе уходили цепочкой подрывники. Одни были одеты в форму солдат Франко, двое шли в итальянской форме, несколько бойцов из интербригады шли под видом испанских крестьян. Ксанти в форме офицера-франкиста проверял у каждого уходящего, как подогнано снаряжение – не бренчит ли? Как обуты?
Старый партизан вел в поводу навьюченного мула.
– Баутисто, – обратился к нему Ксанти, – где запалы?
– Не беспокойтесь, камарад подполковник. Запалы лежат отдельно от динамита.
Следом за Баутисто прошагал долговязый Курт с ручным пулеметом на плече; к поясу он подвязал котелок, поблескивающий при лунном свете.
За ним шел пастух с котомкой за плечами, с кнутом в руке и подгонял отару овец. На нем широкополая соломенная шляпа, лица не видно. Проходя мимо командиров, пастух щелкнул кнутом и крикнул озорно:
– Но-о-о, залетные!
– Цветков идет в гости со своим шашлыком, – засмеялся Ксанти.
– Только, Василий, не играй с огнем и сам не горячись, – успел вдогонку сказать Цветкову Доницетти.
В ответ донеслось залихватское:
– Все будет о'кей, синьор Павел Иванович! Гуд бай, в смысле «пока»…
Прошагали еще два испанских партизана, могучий болгарин Людмил в каске.
– Ну вот, Павел Иванович, мои все… – сказал Ксанти, прощаясь. – Одиннадцать.
– Двенадцатым, Хаджи, будем считать Этьена.
53
Кертнер занял койку в центре камеры. Отныне над головой его будет вечно гореть лампочка в шесть свечей. Спать беспокойнее, но зато можно читать при тусклом свете.
Соседству Кертнера очень обрадовался приветливый парень невысокого роста – тот самый, который втащил его в камеру. Зовут его Бруно, родом из Новары, судили в Милане, от роду двадцать шесть лет. Его койка тоже в центре камеры, но у противоположной стены.
Бруно и Кертнер легли головами друг к другу. Так удобнее переговариваться вполголоса; между изголовьями лишь узкий проход.
Проговорили ночь напролет, и под утро Этьен знал о новом соседе много. Он прочитал письма, полученные Бруно в последние месяцы. Письма писала соседская девушка, потому что мать Бруно малограмотная, брат воюет в Африке, а отец, старый шахтер Паоло, ослеп после завала в шахте.
Оказывается, Бруно – самый пожилой в камере. Несколько парней попали в тюрьму уже во второй раз, их называют «возвратные лошадки».
Неприятно, что Этьен не может ответить откровенностью новому другу, который распахнул перед ним свое сердце. Сколько раз ему придется обидеть профессиональной скрытностью товарищей по заключению? Они отнеслись к Кертнеру с предельным доверием, а Этьен не мог отплатить им той же драгоценной монетой.
Камера живет коммуной, причем Бруно – главный распорядитель денежных фондов. Поддерживают заключенных, у которых на тюремном счету нет ни сольдо. Первый фонд, самый большой, предназначен для больных, второй фонд – на питание. Без того, чтобы докупать в тюремной лавке какую-нибудь провизию, выжить трудно. Трудно привыкнуть к голоду, тем более молодым парням. Каждый имеет право по своему усмотрению истратить на себя несколько лир в месяц, если же у кого-нибудь перерасход, ему соответственно уменьшают дотацию на следующий месяц.
Бруно показал Кертнеру покрытый воском кусок картона – своеобразная приходо-расходная книга их камеры. Тонкой булавкой он накалывает на воске условные знаки. Каждый заключенный имеет свою графу, и там обозначено, на какую сумму он набрал продуктов за последний месяц.
Конечно, несколько лир – нищенская сумма. Бутылочка молока стоит 22 чентезимо, а на узника камеры № 2 на день приходится из общего фонда 26 чентезимо.
Сигарету курят несколько человек; каждый сделает по две затяжки – вот и вся сигарета. А потом еще добывалась уцелевшая крошка табаку из окурка. Кертнер научил расщеплять иголкой каждую спичку пополам или даже на три части. Он сказал, что бывал в местах, где бедняки всегда поступали таким образом. А еще в тех местах берегли соленую воду, в которой варили картошку, чтобы использовать воду несколько раз: соль беднякам тоже была не по карману.
С появлением Кертнера в камере № 2 началась борьба с заядлыми курильщиками; для этого ему пришлось самому бросить курить. Курильщики тратили деньги на табак, вместо того чтобы купить бутылочку молока. Они скорее становились дистрофиками, чаще болели.
Выражая всеобщее желание, Бруно обратился к вновь прибывшему с просьбой вести у них в камере политические занятия. Кертнер ответил согласием и выработал распорядок дня, ввел строгую дисциплину.
После утреннего подъема, после того, как все умылись, убрали камеру, оставалось еще сорок свободных минут; в 9 утра начинались занятия.
Поначалу тюремщики не отходили от решетки, напряженно вслушивались, нет ли повода для доноса? Но слушатели, окружавшие Кертнера, усаживались в углу камеры, подальше от стены-решетки; к тому же разговаривали вполголоса.
Кертнер принес с собой в камеру книгу, на обложке которой значилось: «Адам Смит. Политическая экономия», а титульный лист книги украшала печать капо диретторе «Разрешено». На самом же деле то был первый том «Капитала». Кто-то подобрал в переплетной мастерской отобранный у кого-то том Маркса и спрятал. Книгу одели в чужой переплет, с чужим титульным листом, загодя снабженным желанной печатью. К подобному книжному маскараду Кертнер прибегал и в дальнейшем.
А когда Кертнер проводил занятия по политэкономии и завел речь о конкуренции, он рассказал о финансовой дуэли акционерных обществ «Посейдон» и «Нептун», конечно заменив их названия. Так сказать, поделился личным опытом…
Программа занятий расширялась: изучали диалектический материализм, некоторые работы Ленина. Двое парней под влиянием этих занятий расстались с анархистскими взглядами.
Удалось достать несколько книг по истории, культуре и искусству Италии. Те, кто ходил в школу всего три-четыре зимы, плохо разбирались в искусстве Древнего Рима и лишь рассматривали картинки.
Когда в коридоре дежурил надзиратель Карузо, он подолгу стоял у стены-решетки и прислушивался к словам Кертнера. А если речь шла о музыке и если при этом в коридоре не было других тюремщиков, Карузо встревал в беседу.
Бывало, Бруно спал крепким сном, а Этьен лежал, не смыкая глаз, или слонялся по сонной камере. В одну из таких ночей он подошел к стене-решетке, заговорил с Карузо. Этьен спросил, откуда взялось его прозвище, и тот охотно объяснил:
– Так у нас в Сицилии называют подростков, которые работают в шахте… Я в юности и не знал, кто такой Энрико Карузо…
Это был первый надзиратель, которому улыбнулся Этьен. Прозвище приклеилось к Карузо на всю жизнь, потому что он – страстный любитель музыки, а так как Этьен был завсегдатаем «Ла Скала», они заговорили на музыкальные темы. Карузо напел себе под нос арию, другую, все из репертуара теноров. Его кумиром был Беньямино Джильи, на днях тот впервые спел в римском театре партию Радамеса в «Аиде». Настороженно оглянувшись на спящего напарника, Карузо попытался взять верхнее си-бемоль, ту самую ноту, которой кончается ария Радамеса из первого акта. Но тут в коридоре послышались гулкие шаги. Карузо приложил палец к губам и отвернулся от стены-решетки – шагал ночной караул во главе с самим капо гвардиа. Караул прошел, и Карузо повел речь об опере «Арлезианка»; самая выигрышная ария там – «Плач Федерико» из второго акта. Некоторые критики упрекали Джильи: он ввел в заключительную музыкальную фразу чистое си, которого нет в партитуре. Кертнер согласился с критиками: тенор не должен ради эффекта добавлять выигрышные ноты. Карузо разволновался и заспорил с заключенным 2722. В конце той арии весьма кстати драматически напряженное крещендо: «Ты столько горя приносишь мне, увы!» – Федерико выражает здесь скрытую скорбь своей жизни, как же можно согласиться, чтобы голос певца затихал на этом самом «увы»?!
– Почему же тогда композитор сам не ввел этой ноты? – возражал заключенный 2722.
А закончилась музыкальная дискуссия неожиданно: Карузо шепнул, что завтра во время прогулки во второй камере произведут обыск.
Дважды в месяц в камере устраивали тщательный обыск, а узников раздевали догола. Труднее всего спрятать карандаш и бумагу. Кертнер прятал огрызок карандаша в своем матраце, набитом сухими кукурузными листьями, а Бруно поступал еще хитрее: накануне обыска, когда их выводили на прогулку, он выносил свое запретное имущество в тюремный двор и засовывал его в щель между каменными плитами. А на следующий день переносил все назад в камеру…








