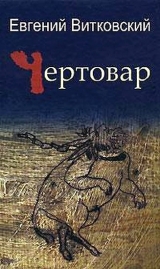
Текст книги "Чертовар"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
– Тоже мне теорема с фермы… То ли Ирка, то ли Хилька. Вот и весь список.
Кирия тут же сняла очки.
– Ираклий? Глонти? Он же старше Подселенцева, а тот уж две декады ничего не режет?
– А я тебе не говорил, во-первых, что это новая работа. Иди там узнай, сколько она в России пробыла. И вообще это Хилька скорее. Ахилла Захарченя. Он тоже не вьюнош, но копни гада: по-моему, это он. Словом, давай мне амнистию на Бобра Дунстана Мак-Грегора и я пошел.
Кирия опешила.
– С каких таких… фиников, то есть веников… пряников – ему вдруг амнистия? Он что ж, невиновный?
Мирон нимало не смутился.
– Тогда не надо амнистию. Подтверди приговор, который предшественник твой ему вынес. Иаков Засранец. Письменно. Знаешь, кто ты тогда будешь в истории? Архонт Александра…
– Мэ! – рявкнула кирия кратчайшее киммерийское ругательство, после которого любой рыночной драке полагалось закончиться: все неправы, все сдались, всем сейчас по ушам навесят, если не разойдутся. Остаться в веках с титулом «Засранки», хуже того, «Засранки, преемницы Засранца» архонт никак не хотела. В конце концов, бобра можно было помиловать просто за давностью лет. Или – лучше – в честь ближайшего праздника. А таковым праздником выпадала коронация императрицы Антонины, и объявление Павла Павловича наследником престола. Павел Павлович ко всему был еще и уроженцем Киммериона – не важно, насколько коренным, зато укорененным. А когда в девяносто восьмом будет царевич присягу отцу приносить, по случаю шестнадцатилетия, пусть лучше узнает, как много всего в его честь в родном городе совершается.
На фирменном пергаменте десятью словами кирия Александра даровала гражданину Дунстану Мак-Грегору все прежние свободы, возвратила конфискованное имущество и восстановила его право свободной зубоврачебной практики на всей территории Киммерии. Большего блудный сын не просил. Хотя кирия прекрасно понимала, что имущества своего он нигде не найдет, но зато за протезы будет драть так, что быстро наживет вдвое. С этим документом, держа его за уголок, чтобы подсушить печати из красного воска и желтого сургуча, Мирон вышел на площадь перед архонтсоветом, немного приподнял капюшон и огляделся по сторонам. Помимо дней народных волнений и демонстраций двенадцатого ноября в честь годовщины коронации, здесь никогда не было людно.
На Киммерион наползал прохладный сентябрьский вечер, но до мгновения, когда на улицах зажгутся фонари, было далеко. Утро в городе наступало немного позже, чем могло бы: с востока, за протокой Святого Эльма, возвышался почти отвесно Уральский хребет, поверх которого тяжелой тушей возлежал еще и Великий, в далеком прошлом Всемирный, Змей – подопечный Мирона Вергизова. Вечер наступал по расписанию, однако на шестьдесят третьей параллели он всегда приходит очень медленно, на ней, к примеру, во Внешней Руси, если и не Санкт-Петербург стоит, то Медвежьегорск в Корельском царстве, в двух шагах от Марциальных Вод августейшего предка монарха, Петра Великого. До Полярного круга, конечно, далеко, но все же долог киммерийский закат ранней осенью, к тому же обычно очень красив.
Мирон Павлович неизвестно почему посмотрел на север, точнее – на северо-восток, потому как ни прямо на севере, ни на северо-востоке смотреть вообще было не на что, а там, куда он глянул сейчас, высилась популярная у морозоустойчивых альпинистов гора Тельпосиз, известная тем, что ею Великий Змей побрезговал и как-то ее обогнул, так что она, почти единственная, оказывалась видна и из Киммерии, и из Внешней Руси. За столетия разглядывания Мирон к горе присмотрелся до тошноты, видел, как она дряхлеет и выветривается, но все-таки привык считать ее чем-то вроде старого, давно забытого комода в большом доме, которым была для Вечного Странника Киммерия – стоит себе комод и стоит, никому не нужен, ну так и не мешает никому.
И хотя Мирон не был человеком ни в каком смысле слова, глазам своим он не поверил, ибо они у него даром, что светились угольками, но на лоб сейчас полезли. В ущелье перед Тельпосизом клубилось облако, высотой превосходившее гору раза в два. Облако, почти черное, поблескивающее в лучах заходящего солнца, колыхалось, как жидкий металл, и было как-то очень уж подвижно. Самое жуткое оставалось в этом зрелище то, что все происходило совершенно бесшумно.
Обычным зрением тут было рассмотреть ничего нельзя, и то, что произошло в это время с глазами Вергизова, для слабонервных не предназначалось – если б кто-нибудь оказался рядом и ему хватило наглости заглянуть Вечному Страннику под капюшон. Однако трансформация заняла считанные секунды, и сейчас из-под капюшона просто выглядывало то ли дуло гранатомета, то ли приличный телескоп. Поскольку с площади было смотреть неудобно, Мирон слегка разбежался и по вертикальной стене вошел на крышу архонтсовета: что оказалось вообще-то неплохим результатом: в таком забытом с XIX века даже в Англии виде спорта, как взбегание на стену, максимальное достижение никогда не достигало и двух саженей. С крыши Мирон смог рассмотреть подробно, как расширяется средняя часть облака, как сплющивается оно, стараясь уместиться в ущелье, которое Вечный Странник называл Кракеновым по противолежащему посреди Рифея островку Криль Кракена. Видел Мирон много, притом в деталях, но понять не мог ничего.
Вергизов беспокойно оглянулся. На юго-востоке, на фоне темнеющего неба, гордо возвышался двухвершинный Палинский Камень – пик повыше Тельпосиза метров на пятьсот, на главной вершине которого твердо стоял незримый простым киммерийцам многобашенный замок графа Сувора Васильевича Палинского, откуда не столь уж давно был увезен во Внешнюю Русь наследник всероссийского престола, будущий цесаревич Павел Павлович Романов. От Палинского Камня до Тельпосиза было верст пятьдесят с киммерийском гаком, но жуткий, отливающий металлом рой в Кракеновом ущелье, хотя там и не жил никто, Мирону очень не нравился. Ближе всего к этому рою, на берегу Рифея, располагалось Сверхновое кладбище, где постоянно обитало человек десять обслуживающего персонала, не считая крошечного причта кладбищенской церкви Луки Елладского. Телескопическим зрением глянул Мирон и туда. К счастью, между черным роем и кладбищем тоже оставался зазор верст в десять.
Так что это за пакость такая?
Мирон заломил правую руку за левое плечо и гаркнул в рукав:
– Стима!
В рукаве затрещали радиопомехи, что-то лихо лязгнуло, словно бы где-то самолет отдал честь парой железных крыльев одновременно, и два луженых голоса ответили:
– Патруль на трассе!
– Стима, – взял тоном ниже Мирон, – ты на юг или на север?
– На север! Прошли Уральское Междозубье, курс – Палинский камень! Высота…
– Стима, высоты тебе хватит. Иди прямо на Тельпосиз и докладывай – что там творится. Я стою на Архонтовой Софии, понять ничего не могу. Не бывает такого, там чертово колесо в ущелье формируется!
Покуда эскадрилья двуглавых стимфалид, подрядившаяся нести патрульную службу на границе Европы с Азией, выполняла продиктованный Мироном маневр, рой в Кракеновом ущелье и вправду стал уплотняться, образуя подобие строго вертикально поставленного, версты в две диаметром, колеса. На улицы Киммериона стал высыпать народ: весть о невероятном зрелище уже разнеслась, причем кто-то немедленно пустил слух о том, что явился на Киммерию новый, на этот раз уже настоящий Хрустальный Звон – тот, первый, был не совсем настоящий, потому что половина народу его не видела, – колесо же видели все. Причем то, что это именно колесо, сейчас было уже ясно, сперва было непонятно, вращается ли оно, но отнюдь не человеческое зрение Мирона Вергизова уже дало ему знать, что это не одно колесо, а два, очень близко расположенных. Колеса стояли под острым углом к течению Рифея, и Мирон первым в городе понял, что вращаются кольца по-разному – одно по часовой стрелке, другое – против нее. Внутри колес просматривались спицы, сходящиеся к центру, где пока что клубился только сумрак, но уже формировалась единая, жуткого вида, ступица, упирающаяся, кажется, прямо в склон Тельпосиза; между тем гора была заметно меньше ростом, чем жуткое сооружение.
– Идем на снижение – лязгнул голос из рукава Мирона, – объект наблюдаем. Подтверждаем: колесо двойное, на каждом ободе укреплено по сто девяносто шесть подвесных люлек. Вращение колес неравномерно, после каждого сопряжения люлек – пауза. Из колеса, вращающегося посолонь, и из колеса, вращающегося противусолонь, взлетают длинные молотообразные предметы и ударяют по сопряженной люльке. После чего следует короткое скандирование, дважды по семь слогов, затем движение колеса возобновляется. Повторяю: идем на снижение…
Если конденсация черного роя в жуткое двойное колесо была совершенно бесшумна, то полет стаи железноклювых и медноперых стимфалид был похож не атаку пикирующих бомбардировщиков, – за тридцать восемь столетий, пробежавших кружными тропами от основания града Киммериона, его никто не бомбил хотя бы просто потому, что не знал о его существовании, – но помнится, упал при князе Взыскуе Миноевиче какой-то метеорит на юге, за Обратом, но без особого шума, бобры потом железо у людей на финики выменяли, а хороший метеоритный металл пошел на Майорские острова оружейникам, понаделали из них кандалов, да и те сбыли московским князьям через офеней, очень уж большие деньги за них Москва посулила. Стимфалиды пронеслись над черепаховыми крышами Киммериона и ушли к Тельпосизу для полного облета и аэрофотосъемки, а Мирон с крыши архонтсовета оглядел прилегающие улицы политического центра города.
Стимфалиды никогда не любили лишнего шума, но сами его все же производили – полетай-ка на ржавеющих и зеленеющих от влаги крыльях, так задребезжишь. Зато сами птицы во всей окружающей природе любили тишину, и поэтому к чудовищному, но бесшумному колесу летели без опасений. Заложили вираж, другой и третий, постепенно отслеживая все подробности происходящего и все детали конструкции.
Мирона куда больше волновало происходящее ни улицах. Люди сходились в группы, каждая делилась на две, раздавались крики, взаимные оскорбления, на удивление однообразные, вроде: «Твою!..» – «Нет, твою!..» – «А вот и твою!..» – «Да как же, вовсе твою!..» – и так далее; затем наиболее взведенные горожане скидывали верхнюю одежду, разбивались на пары и начинали мутузить друг друга не щадя лбов и кулаков. Однако же кулаками дело не ограничилось, с площади перед архонтсоветом уже слышался звон вывернутого из набережной турникета; кто-то дрался парой металлических секций.
Словом, никогда не знавший кавелитства город на глазах впадал в истерику, в радение и ересь. Мирон втянул телескопические глаза, двинул себя кулаком по капюшону и прыжком сиганул в дымоход. Дорога эта была ему, вероятно, давно знакома, ибо приземлился он прямо в лазуритовый камин, против которого за рабочим столом все так же восседала вконец усталая кирия Александра.
На объяснения у Мирона не было времени. Никак не заботясь о том, что его капюшон болтается за спиной и от созерцания жуткого лика Вечного Странника даже сильной женщине впору сомлеть, он схватил со стола принесенный им же самим хрустальный диск с драгоценной резьбой и с размаху грохнул об край камина. Кусок лазурита рухнул на пол, молясина же, похоже, не пострадала. Не найдя в кабинете ничего достаточно массивного, Вергизов упёрся ногами в пол, взял хрустальный диск за края и напряг нечеловеческие мышцы. Кирия что-то поняла и бросилась за дверь. Через мгновения вернулась с криком:
– Вот же тебе кочерга, не мучайся! – Она протягивала Вергизову нечто вроде чугунного лома. Однако Странник, кажется, уже и сам справился. Голубоватый диск хрусталя сперва дал трещину, потом окончательно разломился, оранжевая с черным перекладина сделала то же самое. Остальное Вергизов раскрошил между пальцами сперва в осколки, потом растер в мелкую пыль, а ее высыпал в камин. Потом в изнеможении опустился в кресло.
– Квасу дай, – буркнул он, прячась в капюшон.
В такой просьбе киммериец никогда не отказывает; хотя пальцы у кирии были и обыкновенные – а не полуторные, киммерийские, – горлышко термоса из мамонтового бивня они держали уверенно. Архонт сама сняла притертую костяную пробку и через стол протянула Вергизову чуть ли не ведерную, благоухающую лесными ароматами емкость. Вергизов присосался к краю, пил столь долго, что кирия стала опасаться – не лопнет ли он. Потом вспомнила, что Вергизов не человек, и успокоилась.
– Вот такую я принес тебе подлянку, – выговорил Вечный Странник, возвращая хозяйке кабинета ополовиненный термос. – Город уже сходить с ума начал. Думаю, десяток синяков останется, не больше, ну, турникет починить придется.
– Что произошло, Мирон Павлович?
Мирон медленно натянул капюшон на глаза. Смотреть на его обтянутый кожей череп с горящими глазами даже привычному человеку было жутко, он это знал и лишний раз старался никого не пугать.
– Ничего… Словом, снимай подозрение и с Ирки, и Хильки, это не их работа, не то весь город бы давно рехнулся, как Россия. Честно скажу, не знаю я, что это такое, но быть этому предмету в Киммерии – нельзя. Если вся Русь рехнулась, это еще не значит, что и нам надо. Бобры пусть себе рядят да гадают, Кавель Кавеля… У них, впрочем, на Кавель, а Боббер, но смысл тот же. У них что Кармоди – Мак-Грегора, что наоборот, либо же что о'Брайен их обоих. Людям это все – до клешни обсосанной. А вот если Колесо Подозрения над городом встанет…
– Что за колесо?
Мирон описал двойное колесо, заслонившее от киммерийцев склоны Тельпосиза, не забыв вставить, что встало оно не просто из ущелья за городом, но непосредственно над кладбищем. Кирия Александра мелко перекрестилась по-киммерийски, шесть раз – чтоб нечистый сон сгинул и наваждение пропало, как с детства обучены делать все добропорядочные девочки Киммериона на случай дурного сновидения. А Мирон еще и добавил:
– За долгую жизнь много чего насмотришься… и ничему, старуха, все равно не научишься. Ведь предсказывала же сивилла в год смерти Евпатия Оксиринха – «Не тащи хрусталь в лазурь, не то бяка будет!» Все решили, что старуха сумасшедшая, у вас иначе вообще считать не хотят обычно, а гляди ж ты, всего-то двести шестьдесят пять лет прошло – и уже сбылось. Кстати, как там бяка? – Мирон уже вполне овладел собой и подошел к окну. Выходило оно на восток, но Вергизов отворил раму и высунулся. – Рассыпается, оседает… Что ж, так тому и должно быть.
Из рукава Мирона послышался немелодичный звон.
– Вергизов, прием! Докладываю! Объект распался к едрени фене!
– Видел уже, Стимушка, спасибо, – сказал Мирон в рукав, – лети себе на здоровье, спасибо за службу. С севера на Тельпосиз зайдите, там с полверсты от реки, где лес кончается, мою заначку знаешь? Там тебе бочка тавота малахитового стоит, употреби с подругами за здоровье ее высокопревосходительства архонта Александры Грек…
В рукаве лязгнуло – словно кто-то отдал честь и отключился. Кирии было не до того: она с грустью глядела на разбитый камин.
– А с этим мне что делать? Лазурита нынче днем с огнем не сыщешь. А сыщешь – не укупишь. В одну цену с яшмой.
Мирон возмутился.
– Это как? Будет лазурит. На Байкале еще очень даже есть лазурит. Кто у тебя в Иркутске резидент?
Кирия молчала.
– Ладно, не говори. Так спрошу: есть в Иркутске у тебя резидент?
– Как не быть…
– А толк там какой всех сильней?
– Живоглотовцы… Ну, Кавель Кавеля учил – Кавеля Кавеля схарчил, знаешь… Дорого платят, там ведь один в пасть другому прыгать должен, этого на пепельнице не смонтируешь.
– Ну и возьмешь со сборщиков натурой – одну, две, три – сколько на ремонт надо.
Кирия вздохнула.
– Как возьму, когда за ними недоимок нет?
– Так прямо и нет? А в одна тысяча семьсот шестьдесят втором, если по-общерусичски, когда дочка императора Петра Алексеевича воевать изволила, кто недоимки отложить просил вплоть до окончания переустройства Берлина в уездный город?.. Как сейчас помню… И ничего они с той поры не заплатили. Так что давай, кума, требуй недоимки.
Кирия Александра легла всем немалым бюстом на стол, пытаясь заглянуть Вечному Страннику под капюшон.
– А что бы тебе, Мирон Павлович, не пойти к нам в архонты? Все-то ты помнишь, сам беду принесешь, сам унесешь – благодать городу, да и только.
Мирон встал.
– Ладно, кума. Хватит шуток. Мне Змея от полипов лечить, старик-то древний, весь запаршивел. Мне за василианами присматривать, за симеоновцами. Мне Стиму отпаивать. Контрабандистов ловить. Куда мне в архонты? Это дело людское, житейское. А у меня разве жизнь? Так, самозванство одно.
Кирия дождалась стука входной двери, не спеша отвернула пробку термоса, долго одним глазом глядела внутрь. Потом отхлебнула со вздохом, отставила термос и углубилась в бумаги.
18
Тот летит по воздуху, что птице одной назначено; тот рыбою плавлет и на дно морское опускается; тот теперь – как на Адмиралтейской площади – огонь серный ест; этот животом говорит: другой – еще что другое, что человеку непоказанное – делает… Господи! бес лукавый сам, и тот уж им повинуется.
Николай Лесков. Воительница
Бес Антибиотик, в просторечии Антибка, повиновался Шейле Егоровне Тертычной, в девичестве Макдуф, только по телефону: по наложенному на него заклятию он не мог удалиться от чертоварни и от Выползова дальше, чем на тринадцать громобоев, – до Ржавца же, где Шейла проводила почти все время, расстояние было вчетверо больше. Мог бы, конечно, удалиться подальше, но только в случае форс-мажора, с разрешения Богдана и по собственной воле одновременно. Телефон работал, Антибка пособлял в чертоге – и пусть себе обойдется и без разрешения, и без воли. Надо будет позже – решим.
Все же прочее из перечисленного у Лескова имелось у Шейлы под рукой и в натуре, притом в гораздо большем количестве, чем ей требовалось. Вместе с больными и работниками население санаторного хутора зашло за шестьдесят человек, а это, что ни говорите, много даже для сильной женщины.
Сейчас, во вторую неделю октября, на помощь мужа стало полагаться вовсе нечего. Богдан совсем обезумел, ибо каким-то несусветным усилием он все-таки умудрялся выполнить государев заказ на авиационное масло к пятнадцатому: именно в этот день контролер-инкассатор должен был прибыть на выползовскую веранду, сосчитать цистерны, снять вкусовые пробы, опечатать продукцию и расплатиться. Доставку купленного товара высшее в державе начальство брало на себя – раз уж мастер умудрился уложиться в заведомо невыполнимые сроки. Чертоварня чадила полтора месяца без перерыва, и что Богдан, что Фортунат были готовы свалиться на ровном месте и ни о чем не говорили, кроме как о блаженном дне шестнадцатого, когда можно будет лечь спать на неделю.
Самообман, конечно: Фортунат, может, и пойдет в запой дня на три, столько же будет протрезвляться, еще день проспит, так неделя и накапает, – а Богдан, понятное дело, как никогда больше одного дня не отдыхал, так и в этот раз не будет. Особенно потому, что вся подсобка чертога, и подсобка той подсобки, и оба ледника под верандой – все было сейчас полно не до конца обработанными полуфабрикатами-чертопродуктами. Добрые два месяца прямо в обработку поступал только драгоценный ихор, да еще кожи, которым после съема с туши лежать нельзя, иначе просто выбрасывать придется. Шкуры с гипертонических чертей были очень средние, а все ж таки – товар, и гноить его Богдан не собирался.
Бочки с маслом-96, которое никак иначе не называлось даже в официальных документах, были соскладированы вдоль края поляны, против чертога. Множество экспериментов, которые провел с этой тяжелой, словно ртуть, черной жидкостью Пасхалий Хмельницкий, показали – масло не горит, точнее, не горит в естественных условиях. Вещество это, на добрых четыре пятых состоявшее из обработанного ихора чертей-гипертоников, даже текло нехотя, если его зачерпывали из емкости. Кодовое название масла считалось тайной: было в цифре «96» что-то дьявольское, некий октановый перевертыш – и кто бы подумал, что Богдан, голову не ломая, проставил вместо цифрового кода попросту год изготовления продукта. Но приезжавший накануне первого числа Хмельницкий предупредил: в будущем году масло понадобится такое же, свой новый «Хме-22», рассчитанный на переброску сразу восемнадцати тысяч десантников – интересно бы знать, куда – он проектирует в расчете именно на этот сорт авиационного масла. Богдан не понимал, как в будущем году он сможет изготовить масло прошлогоднее, если сейчас продает все оптом. Но надеялся как-нибудь это дело решить.
Богдан часто слышал мнение, что у всех, мол, свои проблемы. И другое мнение, что у каждого своя головная боль. И еще – что своя рубашка ближе к телу. Ни одной из этих фраз он до конца не понимал и в мудрость их не верил. Ибо головная боль Пасхалия Хмельницкого – как выстроить самолет, способный поднять восемнадцать тысяч десантников. А о том, откуда их столько взять, у него голова не болит? Нет, отвечал Пасхалий, закусывая, это дело царя: в крайнем случае – пусть самолет летит с недогрузкой. Об этом голова пусть у конструктора не болит. Хмельницкий, если потребовалось бы, готов был выстроить и самолет для одноразового поднятия восемнадцати миллионов десантников! Хотя, конечно, встретились бы известные трудности – но неразрешимыми Пасхалий их не считал. Если царю понадобится такой самолет – склепаем, а откуда взять восемнадцать миллионов десантников – пусть опять-таки у царя голова болит. Богдан, в отличие от Хмельницкого, как раз довольно хорошо представлял, что начинается в стране, в которой у царя болит голова, и старался решать не только свои проблемы, но и царские. Ибо, если царь начнет, подобно известному Салтану, чудесить, то могут много кого не только повесить, современная наука позволяет сделать гораздо хуже, да и своя рубашка такой уж близкой к телу не покажется, ее еще раньше снимут, даже если она последняя. И хорошо, если не вместе со шкурой. Так думал Богдан, свежуя очередного гипертоничного черта, чтобы отправить материал в зольник и не представляя – что ему делать со всей скопившейся массой недоделок по прежнему забою.
А у Шейлы тем временем хватало своих забот. С тех пор, как с кухни отозвали у нее старуху Вассу Платоновну, обязанность жарить по утрам гору оладий на всех работников легла на бывших сектанток руссодуховского толка, сотрудниц музея народного рукоприкладства имени Ильи Даргомыжского – Майю Павловну Пинаеву и Виринею Максимовну Трегуб, – к последней прочно приклеилась неприличная кличка «трегубая венерея», на которую обижалась и она, и подруга с ней за компанию, но на обиженных в России воду возят. На тех же рукоприкладниц навесила Шейла и все обязанности касаемо обеденной каши, кроме гречневой, конечно, для которой нужен особый деревенский опыт общения с русской печью. Гречневую раз в неделю Шейла, вздохнув, заряжала сама.
Хоть и числилась теперь Шейла мужней женой, хоть и привезли ей из Арясина новый паспорт с новой фамилией, но дополнительных прав от этого не воспоследовало, а обязанностей хватало старых. Одна дойка ячьих коров чего стоила. Пасынок Савелий старался, но был слаб, ему доить и простую-то корову едва-едва по силам оказывалось – у ячихи же вымя куда как туже, хотя молока с нее меньше. Поэтому Шейла, перещупав мышцы у постояльцев, приставила доить тибетских красавиц беспамятного негра Леопольда, который иногда требовал, чтоб звали его все окружающие не иначе, как Клайд Элджернон Моррис, английскому имени чертоварской жены был рад как родной воронушке, а в остальном был человек как человек, и ячих доил хорошо, и молока ни разу не пролил.
Нашлось дело и для бывшего участкового, Гордея Фомича, выдающегося специалиста в области развития национального самосознания в рябинах при перебирании таковых через дорогу к приглянувшемуся дубу. С рассвета до заката сидел Гордей Фомич в саду при санатории с середины июня, и варил в медных тазах, водруженных на старинные таганы, бесконечное варенье. Вечером же, в условно-свободное от работы время, готовил наливки, разливал их по бутылкам, давал выстоять на солнце сколько надо, укреплял спиртом, когда приходила пора, потом наполнял четвертные бутыли, опечатывал красным воском, оттискивая сверху номер года – и сам уносил эти в бутыли в подвал, диву даваясь собственному же поведению: зачем опечатывать точной датой, скажем, красносмородиновую, когда ее выпьют раньше, чем зима ударит? Но так ему было велено, и он не спорил. Переработка избытка фруктов лежала на Гордее Фомиче не случайно, был он кавелит из толка воробьевцев, и воробьи являлись для него птицами не столько священными, сколько бройлерными, выжимки пьяной ягоды доставались именно им, и за прочую птицу можно было не опасаться.
Генерал-майор Аверкий Петрович Старицкий попал в хозяйстве Шейлы на должность невероятную – ему доверили маслобойню. Так гордо именовался дощатый сарай, куда приносил ему негр Леопольд перетопленные в русской печи сливки, снятые с ячьего молока. Приносили ему сливки и обыкновенные, дюжина своих коров у Богдана паслась в стаде богатого села Суетного – этих-то коров спокойно можно было доверить бывшим сотрудникам Неопалимовского вытрезвителя, и уход за ними, и дойку, – бывшие санитары никуда отпущены не были, идти им тоже было некуда, ибо хлебное их место в Москве давно захватили другие. Этим прапорщикам и старлеям можно было доверить молоко, пахту – но никак не масло, для масла, по разумению изрядно помогавшей Шейле Стефании Степановны, требовался самое малое генерал-майор, хотя бы отставной, – а Старицкий точно подходил этим требованиям: уж сколько было сил, выстаивал экс-вахтер еретичек-моргановок при ручной маслобойке, пахтая, сбивая, сколачивая масло на прокорм всей оравы. За чистотой в его сарае следила сама Стефания: как старшая по званию, как генерал-подполковник секретного рода войск, она назначила себя на Ржавце санитарным инспектором.
Меньше всех толку оказалось от экс-директора овощного магазина, представителя мусульманской национальности Равиля Шамилевича Курултаева. Попытки приспособить его к огороду кончились ничем: овощи он, конечно, различал, но только оптом, а в остальном даже кушать их по возможности не желал – предпочитал жареного барашка. Магазин в Москве был давно оприходован конкурентами, а денег с собой Курултаев захватил хоть и много, но все ж таки не столько, чтобы каждый день забивать для него барашка и готовить казан плова, – меньшим мусульманин довольствоваться не мог. Деньги постепенно вышли, Богдан заплатил за извлеченного из Курултаева гипертоничного беса, и сейчас бывший бесоноситель эти деньги не столько проедал, сколько доедал, решительно ничего не делая. На досуге Курултаев любил сложить руки на толстом животе и, крутя большими пальцами вокруг незримой общей оси, вспоминать о славных временах, когда его предки снабжали свежими овощами, фруктами и бахчевыми культурами всю армию хана Батыя. Слушали Курултаева только яки-самцы, но его устраивала и такая аудитория. Однако до решения курултаевского вопроса пока ни у кого руки не доходили: плов он съел еще не весь, а работу с авиационным маслом Богдан хоть и должен был кончить со дня на день, – но пока что не кончил, и было ему никак не до татарина.
Отдельно ото всех новоприбывших на Ржавец групп санаторного типа существовал и другой представитель национального меньшинства, – но почему-то его интерес к кошерной пище, проявившись единственный раз во время достопамятного постного обеда в Арясине, больше не возвращался. Был это акробат и предижитатор Зиновий Генахович, фамилия которого была то ли Златоцветов по сцене, а на самом деле Миллигудини, то ли ровно наоборот. Киммерийскими пальцами он не обладал, но ловкость рук проявлял просто неприличную, и в других то же качество очень ценил. Карточными фокусами и ловлей живых голубей в карманах зазевавшейся публики артист пренебрегал, зато, вполне в духе своего кавелитского «душеломовского» толка, любил выламывать из душ у собеседников самое тайное: он умел читать те мысли, о которых собеседник старался забыть. Он, негодник, читал и те мысли, которых человек в голове не имел вовсе. Но оглашал маг и волшебник эти мысли во всеуслышание – и поди доказывай, что не размышляешь ты о том, будет ли к обеду печеный пеленгас с гречневой кашей, потому как пеленгас ближе Черного моря не плавает, а если завезут его в мороженом виде к чертовару, то весь уйдет на поддержание каталитической силы Фортуната, да и гречневой каши раньше пятницы от Шейлы не дождешься. Поди доказывай, что не жрет тебя ночами лютая гиперсексуальность и ни мгновения не размышляешь ты о том, где бы найти поздней ночью если уж не пейзанку свободного нрава, то хотя бы шелковистую и ласковую козу. Поди доказывай, что не злоумышлял ты на честь… Тут Зиновий обычно умолкал, потому что рука у Шейлы была тяжелая, а Зиновий ко всему проявил еще и необычную склонность – он явно ухаживал за ее достопочтенной матушкой, Матроной Дегтябистовной, маркитанткой-журавлевкой, хотя и годился ей не то в старшие внуки, не то в младшие сыновья.
Зиновий Генахович оказался мастером по части многих трюков, которые ни в одном цирке уже лет сто никто показать бы не решился: чревом пел арию дона Базилио о клевете, глотал огонь, ходил колесом вокруг Ржавца, извлекал цыплят из цилиндра и цилиндр из уха Савелия, – словом, основным трюкам его было десять тысяч лет в очень ранний обед. Но отчего-то Матрона Дегтябристовна, когда случалось ей заехать к дочери за товаром, ценила именно такую, совсем простую магию, и любила на нее посмотреть. А Зиновий Генахович скрыть не мог, что как человек серьезный предпочитает женщин зрелых. При этом совершенно не по-иудейски намекал, что в русских деревнях время, проходящее между Симеоном Летопроводцем и Гурием – самое то что надо для свадьбы. «Доброго здоровья царю-батюшке», – не забывал он добавить, а все знали из газет, что именно на годовщину коронации царь назначил в аккурат свою собственную свадьбу. Дата подходящая, и никого больше акробат-фокусник в виду не имеет. Между тем строил глазки зрелой маркитантке он совершенно открыто.
Таборному обозу требовались свежие харчи: воровать у местных Кавель Журавлев строжайшим образом запретил, денег же на прожитие от контрабандных рейсов таинственной «Джоиты» журавлитам пока хватало, да и промышляли они среди коренных арясинцев вполне честно: лудили, что прохудилось, меняли старые автомобили на менее старые, иной раз и погадать могли на пятачке у вокзала в Арясине: там не наказывали. Словом, на что купить – было. Вот было бы – что. По верованиям журавлевцев по-настоящему чистой, «журавлиной», была только пища, купленная в своем же ларьке. Ларек процветал, но с его содержательницы ежедневно сходило семь потов.








