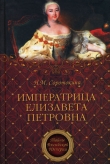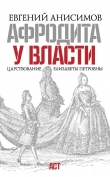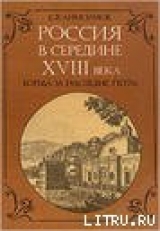
Текст книги "Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра."
Автор книги: Евгений Анисимов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Большинство предложений И. И. Шувалова нельзя назвать принципиально новыми и оригинальными, но в записке, предназначенной для Елизаветы, есть предложения, смелость и новизна которых очевидны. В частности, Шувалов советовал императрице ввести в стране особые, «фундаментальные и непременные» законы. Им Шувалов придавал огромное значение, считая, что они – «самая польза, благополучие в. и. в. подданных непременными делают». Чтобы убедить Елизавету последовать его совету, Шувалов напоминает императрице, как она «неисповедимым божеским промыслом» была возведена на престол, и указывает, что наступило время воздать богу за благодеяние. По его мнению, благодарность монарха должна выразиться в изыскании способа к «блаженству и благополучию… народа», проявившего в день переворота 25 ноября 1741 г. «верность, ревность и усердие». По мысли Шувалова, реальным способом «открыть путь к общему благосостоянию» может быть издание императрицей «фундаментальных и непременных законов в его (народа. – Е. А.) пользу при исправлении нынешних законов».
В аргументации И. И. Шувалова переплетаются важнейшие положения идеологов петровского времени об обязанностях монарха делать благо своим подданным и идеи, характерные для просветителей, в частности для Монтескьё. Как известно, французский мыслитель видел главное отличие деспотии от монархии в том, что второй вид правления предполагает наличие «непременных» законов, положенных в основу власти монарха и обязательных для него самого. «Фундаментальные и непременные» законы И. И. Шувалова – это слепок с «основных» законов Монтескьё с учетом условий России. В конечном счете, как и у Монтескьё, законы Шувалова направлены на ограничение самодержавной власти.
Согласно проекту И. И. Шувалова, Елизавета должна была принести публичную присягу и «уверять и обещать пред богом как за себя, так и за наследников своих следующие законы свято, нерушимо сохранять и содержать и повелеть всем верноподданным, как истинным детям отечества, во всех случаях наблюдать их непоколебимость и ненарушение и в сем указать учинить присягу» подданным. Ограничительный смысл предложений И. И. Шувалова очевиден: императрица должна была присягнуть, что будет соблюдать законы, а подданные должны были присягнуть, что будут наблюдать за их сохранением!
В чем же суть самих законов? Прежде всего императрица обязывалась «утвердить самодержавной властию и присягою, дабы все государи российского престола и жены их, и дети, и мужеск, и женск пол были греческого и православного закона», а все русские «в оном законе постоянно, навсегда пребудут». Затем ей надлежало ввести своеобразную квоту на число служилых иностранцев. И. И. Шувалов считал, что все сенаторы, президенты коллегий, губернаторы должны быть только из русских; из них же должны комплектоваться две трети генералитета и офицерского корпуса; в замещении оставшейся трети постов преимущество следует отдать лифляндцам и эстляндцам – подданным России. Эти положения были навеяны политической ситуацией в России 30-х – начала 40-х годов XVIII в. и должны были предотвратить возможность возникновения бироновщины.
Не приходится сомневаться, что «дети отечества», обязанные стоять на страже «фундаментальных и непременных» законов, – это дворяне. Об их интересах И. И. Шувалов хлопочет прежде всего. Хотя в списке проектируемых Шуваловым законов есть пункт о купцах и крестьянах, они в качестве политической силы не фигурируют. Предполагалось лишь о них «сделать рассмотрение и стараться их состояние сделать полезнейшим отечеству и им самим». Зато дворяне получают, согласно «фундаментальным и непременным» законам, важнейшие привилегии: сокращается весьма существенно срок их службы (§ 15); «впадшее в преступление дворянство теряет только конфискациею собственно нажитое собою имение, а не родовое» (§ 13); дворянство освобождается «от безчестной политической казни» (§ 14)50. Как видим, Шувалов ввел в число своих «фундаментальных» законов важнейшие требования дворянства – неприкосновенность земельной собственности и неподсудность общему суду.
К сожалению, в нашем распоряжении нет материалов, которые бы позволили более подробно рассмотреть историю проекта И. И. Шувалова. Но и сейчас несомненно главное: нереализованные планы фаворита Елизаветы свидетельствуют, что он был последовательным защитником прав дворянства. Впоследствии, при Петре III и Екатерине II, правительство хотя и реализовало многие пожелания дворянства и ввело в юридический быт ряд норм проекта елизаветинского Уложения, однако не решилось Даже на обсуждение ограничительных законов, разработанных И. И. Шуваловым.
Прожектерская активность Шувалова не была простым времяпрепровождением фаворита. Рубеж 50-х и 60-х годов – время, когда для ближайшего окружения Елизаветы стало очевидным, что почти 20-летнее царствование дочери Петра Великого не принесло благополучия народу. 16 августа 1760 г. был опубликован указ Елизаветы Сенату, в котором отмечалось: «С каким прискорбием, по нашей к подданным любви, должны видеть, что установленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают… Ненасытная алчба корысти до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и упущение – ободрение беззаконникам». Констатируя, что «в таком, достойном сожаления, состоянии находятся многие дела в государстве и бедные, утесненные неправосудием люди», Елизавета призвала весь Сенат и каждого его члена в отдельности «все свои силы и старание употребить к возстановлению желанного народного благосостояния… почитать свое отечество родством, а честность – дружбою»51.
Есть основания полагать, что инициатором издания указа был И. И. Шувалов. Примерно в это же время он направил Елизавете челобитную, в которой просил ее рассмотреть сделанное им представление об исправлении различных недостатков. «Всемилостивейшая государыня! – восклицал Шувалов. – Воззрите на плачевное многих людей состояние, стонущих под игом неправосудия, нападков, грабежей и разорениев»52. Возможно, что именно в связи со стремлением обуздать злоупотребления и добиться улучшения работы Сената генерал-прокурором был назначен Я. П. Шаховской, давно прославившийся своим упрямым характером, непримиримостью к формальным нарушениям законов. Однако большего сделано не было.
Тем не менее прекраснодушные порывы императрицы и ее фаворита не следует относить к риторике, событиям только демагогического характера. До Елизаветы и особенно до Шувалова доходили многочисленные сообщения о распространении общих и частных «неустроев», разорении, бегстве и восстаниях крестьян. Но все эти явления истолковывались однозначно: причина их виделась в недостаточном соблюдении законов, злоупотреблениях судов и чиновников. Этот типичный для господствующей бюрократической верхушки взгляд, предполагающий веру в неограниченные возможности «справедливого» законодательства, исключал понимание главных причин народных бедствий и «неустроев». Между тем они коренились в существовании крепостного права и целого комплекса явлений, порожденного им.
Екатерина II, подготавливая свои мемуары, стремилась убедить будущего читателя в том, что она всегда была противницей крепостного права. Если отстраниться от «свободомыслия» «казанской помещицы», безжалостно расправившейся с тысячами «бунтовщиков» Пугачева, с Новиковым и Радищевым, то можно увидеть в ее мемуарах вполне реалистичное свидетельство современника. Вспоминая о Москве середины XVIII в. – подлинной дворянской столице крепостнической России, Екатерина пишет: «Предрасположение к деспотизму выращивается там лучше, чем в каком-либо другом обитаемом месте на земле; оно прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами; ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления». Далее Екатерина признается, что если бы она попробовала что-то предпринять для решения вопроса о крепостном праве, то это было бы ее последнее постановление: «Если посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями». Имея в виду середину 60-х годов XVIII в. – время работы Уложенной комиссии, Екатерина отмечает: «Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманно и как люди. А в 1750 г. их, конечно, было еще меньше, и, я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства»53.
С этой оценкой трудно не согласиться. Вот лишь один документ – инструкция помещика своим приказчикам 1758 г. Параграф 36 «О наказаниях» гласит: «Наказании должны крестьянем, дворовым и всем протчим чинить при рассуждении вины батогами… Однако должно осторожно поступать, дабы смертного убийства не учинять иль бы не изувечить. И для того толстой палкою по голове, по рукам и по ногам не бить. А когда случится такое наказание, что должно палкою наказывать, то, велев его наклоня, бить по спине, а лутчее сечь батогами по спине и ниже, ибо наказание чувствительнее будет, а крестьянин не изувечится»54.
Эти строки исполнены деловитости, предусмотрительности рачительного хозяина, с такой же заботливостью относившегося к содержанию скота, правильности севооборота, своевременности сбора податей, о чем свидетельствует вся его инструкция. Важно заметить, что автором инструкции является образованнейший человек своего времени, обладавший тонким, язвительным умом. Имя ему – князь Михаил Михайлович Щербатов. Это он написал бичующий самодержавие памфлет «О повреждении нравов в России».
То, что строки о более «рациональной» порке крестьян и строки осуждения фаворитизма двора написаны одной рукой, не должно нас удивлять. В XVIII в. крепостное право было незыблемым фундаментом дворянских представлений об обществе и справедливости. Сознание того, что крепостной крестьянин такой Же человек, как и дворянин, что он может испытывать такие же, как и тот, чувства и что несвобода – его неестественное состояние, было недоступно подавляющей части дворянства. Тем больше мы должны ценить таких людей, как Новиков и Радищев, не только понявших это (как, например, Екатерина II), но и открыто начавших борьбу против крепостного права и его апологетов.
Для большинства дворян XVIII в. крепостное право было будничным, ординарным явлением, привычно входившим в ткань их жизни. Так же буднично, как строки инструкции, M. М. Щербатов мог подписывать (и, вероятно, не раз подписывал) и подобный юридический документ: «Лета тысяча семьсот шестидесятаго, декабря в девять на десять день, отставной капрал Никифор Гаврилов сын Сипягин, в роде своем не последний, продал я, Никифор, майору Якову Михееву сыну Писемскому старинных своих Галицкого уезда Корежской волости, из деревни Глобенова, крестьянских дочерей, девок: Соломониду, Мавру да Ульяну Ивановых дочерей, малолетних, на вывоз. А взял я, Никифор, у него, Якова Писемского, за тех проданных девок денег три рубли. И вольно ему, Якову, и жене, и детям, и наследникам его теми девками с сей купчей владеть вечно, продать и заложить, и во всякие крепости учредить»55.
Можно с уверенностью сказать, что таких купчих заключалось в те годы тысячи, десятки тысяч. Люди – мужчины, женщины, дети – целыми деревнями, семьями, поодиночке были предметом купли-продажи, и о них сообщали в газетах, как и о продающихся дровах, скоте, домах, книгах и т. д.
Неограниченная власть дворян над крепостными людьми, узаконенная государством и освященная церковью, не могла не приводить к усилению эксплуатации, жестокости обращения, а нередко и к преступлениям. Именно в последние годы царствования Елизаветы (1756–1761 гг.) в центре Москвы, на Сретенке, развернулась настоящая трагедия. Здесь на протяжении семи лет зверствовала пресловутая Салтычиха.
В 1756 г. ей, 25-летней Дарье Николаевне Салтыковой, после смерти мужа ротмистра Глеба Салтыкова перешли все имения и дом в Москве. Дорвавшись до власти, этот «урод рода человеческого» (так впоследствии отмечалось в указе Екатерины II) замучил не один десяток людей. Свидетели показали, что Салтычиха лично убила или приказала убить не менее 100 человек. Юстиц-коллегия, исследовав все показания и сопоставив их, пришла к выводу: признать Салтыкову убийцей «если не всех ста человек, объявленных доносителями, то несомненно 50 человек, о коих собранными справками сведения так положительно клонятся к ея обвинению». Далее Юстиц-коллегия констатировала: «В числе убитых мужчин было два или три, остальные затем все женщины… Некоторые из этих женщин забиты до смерти конюхами или другими людьми Салтыковой, наказывавшими их непомерно жестоко по приказанию госпожи, но большею частию убивала она сама, наказывая поленьями, вальком, скалкой и пр…Наказаниям подвергались женщины преимущественно за неисправное мытье полов и белья»56.
Пожалуй, самое примечательное в преступлениях Салтыковой не ее изуверская, явно патологическая жестокость, а тот факт, что убийства совершались помещицей-садисткой открыто не в глухой, богом забытой вотчине, а в Москве, на Кузнецкой улице, и о них знали многие, в том числе чиновники полиции. Попытки дворовых жаловаться на свою госпожу ни к чему не приводили. Салтыкова подкупала (деньгами, продуктами) причастных к делам чиновников, и не только мелких, но и таких крупных, как начальник московской полицмейстерской канцелярии действительный статский советник Молчанов, прокурор Сыскного приказа Ф. Хвощинский, присутствующие того же приказа П. Михайловский и Л. Вельяминов-Зернов. Салтычиха, расправляясь с выданными ей на руки доносчиками, имела все основания восклицать: «…вы мне ничего не сделаете! Сколько вам ни доносить, мне они (чиновники. – Е. А.) все ничего не сделают и меня на вас не променяют».
Даже когда в 1762–1768 гг. расследованием доноса дворовых Салтыковой занялись Юстиц-коллегия и Сенат, помещица не призналась ни в одном из совершенных ею злодейств, несмотря на неопровержимые улики в показаниях десятков людей, данных в ходе повального допроса населения поместий Салтыковой и крестьян соседних владений. Пришедшая к власти Екатерина II оказалась в весьма щекотливом положении. С одной стороны, невозможно было оставить без наказания многочисленные преступления помещицы, имя которой стало ругательством в народе, но, с другой стороны, как писал историк XIX в. Г. И. Студенкин, «для новой государыни, опиравшейся главным образом на дворянство, нельзя было оставить без внимания, что виновная есть представительница самого родовитого дворянства, а многочисленные ее родичи стоят на высших ступенях дворянского сословия»57.
После долгих колебаний верховная власть решила лишить Салтыкову дворянства, вывести на эшафот, а потом заключить в подземную тюрьму Ивановского монастыря в Москве, где она и провела 11 лет. Затем ее перевели в каменную пристройку у стены собора того же монастыря. Там она прожила еще 22 года, так и не раскаявшись в кровавых преступлениях.
Дело Салтыковой было одновременно и уникальным, и типичным. Конечно, такого количества убийств сразу общество того времени не знало, но обстановка глумления над человеческой личностью, жестокость и безнаказанность царили повсеместно и неизбежно порождали преступления помещиков и – как протест – жалобы, бегство, скрытое и открытое сопротивление крестьянства. Сыщики и полицейские, расследуя побеги, не занимались выяснением причин бегства крестьян от их помещиков. Однако из допросов явствует, что крестьянина – человека, жившего в кругу средневековых представлении о мире, ограниченном деревней, землей, на которой родился он сам и его предки, родней, общиной, где он искал поддержку в борьбе с природой и бедствиями, – толкало на побег – поступок экстраординарный – естественное желание жить «без всяких государственных поборов и помещичьих оброков, свободно»58.
Крестьяне не ограничивались жалобами и побегами. Многие из них брались за оружие. По подсчетам П. К. Алефиренко, в 30–50-х годах XVIII в. вооруженные выступления крестьян происходили в 54 уездах страны59.
Основная масса участников вооруженных отрядов и их руководителей была однородна – крепостные крестьяне и дворовые, бежавшие от помещиков и мстившие своим господам им подобным. Примечательна в этом смысле история братьев Роговых – дворовых прокурора Пензенского уезда Дубинского, бежавших от своего помещика, но пойманных и сосланных на каторгу. По дороге они вновь бежали и, вернувшись в уезд, послали помещику письмо, чтобы он «ждал их в гости». Однако братьев удалось захватить и снова выслать по этапу. Один из них, Семен, несколько раз пытался бежать из Оренбурга – места каторги, но его ловили и жестоко наказывали. Тем не менее он писал Дубинскому (в пересказе дела): «…хотя… меня десять раз в Оренбург посылать будут… я приду и соберу компанию и помещика… изрежу на части». В 1754 и 1755 гг. вотчину прокурора поджигали трижды, а в 1756 г. Семен сумел бежать из Оренбурга и добраться до родных мест, где он укрылся у своего второго брата – Степана (первый, Никифор, был сослан помещиком в Нерчинск). Дубинский, узнав об этом, писал, что Семен собрал «партию человек до сорока, и дожидались меня, как я буду в оную деревню, чтоб меня разбить и тело мое изрубить на части». Арестованный за укрывательство беглого брата, Степан вместе с сыном бежал из вотчины, пригрозив Дубинскому скорой расправой. Помещик – сам немалый чин в уезде, – столкнувшись с отчаянной ненавистью братьев, со страхом писал в Сенат: «И я тово… опасен, не знаю как быть, не пропасти»60.
Можно лишь гадать о том, чем закончилась неравная борьба крестьянской семьи Роговых со своим помещиком и могущественным аппаратом насилия, стоящим на страже его интересов, но одно совершенно очевидно: причины такой устойчивой и непримиримой борьбы Семена и его братьев, поставивших целью жизни расправу с ненавистным помещиком, коренились в системе господствовавших в тогдашней России социальных отношений, в расцвете крепостного права.
Годы царствования Елизаветы отмечены и массовыми вооруженными выступлениями крестьян против своих помещиков. Восстания охватывали целые вотчины практически во всех уездах Центральной России, а их участники отказывались нести повинности и платить помещикам оброк, избивали и убивали помещиков и управителей, отбирали их «пожитки» и распределяли между собой. В ряде случаев восставшие убирали и делили хлеб с барской запашки, по-видимому считая его принадлежащим себе по праву затраченного на барщине труда. Нередко восстания, в которых участвовали сотни и тысячи людей, будучи подавлены вооруженной рукой, выливались в многолетнее упорное сопротивление крестьян, отказывавшихся платить налоги и подчиняться помещичьей администрации. Источники отмечают случаи волнений среди крестьян, не желавших быть помещичьими и просивших отписать их либо к государственным, либо к дворцовым имениям61. Противились передаче помещикам и крестьяне, бывшие ранее государственными.
Действия «разбойных команд» и акты неповиновения целых вотчин были известны правительству. Во всех губерниях действовали сыщики, занимавшиеся поимкой «воров» и «разбойников». В 40-е годы XVIII в. к подавлению бунтов власти стали привлекать регулярные воинские части, особенно драгун. Законодательство 40-х и особенно 50-х годов давало карателям самые широкие полномочия в борьбе с восставшими крестьянами, поощряло доносы на тех, кто укрывал их62.
За оружие брались не только наиболее угнетенные помещичьи крестьяне, но и крестьяне других категорий – монастырские63 и государственные.
Особо острым для правительства Елизаветы, а потом и Екатерины был вопрос о приписных крестьянах. Система приписки государственных крестьян к предприятиям (в том числе и частновладельческим) получила распространение в петровскую эпоху, когда благодаря этим типично крепостническим мерам удавалось удовлетворять потребности промышленности в рабочей силе. Теоретически труд крестьян на промышленных предприятиях (занятых, как правило, на подсобных работах) рассматривался как отработка положенной на них подушной подати. На практике же приписка крестьян была тяжелой формой феодальной эксплуатации и вызывала уже при Петре сопротивление государственных крестьян. Сохранение этого института в послепетровское время приводило к острым социальным столкновениям. Стихийные волнения крестьян участились после передачи значительного числа казенных предприятий частным владельцам, склонным рассматривать приписных государственных крестьян как разновидность своих крепостных64.
Не следует думать, что крестьяне сразу же брались за топор и вилы. Можно только поражаться долготерпению крестьянских масс, использовавших все возможные способы легальной борьбы за свои права. Тут и жалобы местным властям, и посылка челобитчиков в Сенат, и просьбы, и взятки. Желание крестьян освободиться от заводских работ было так велико, что они, отмечал В. И. Семевский, чуть ли не каждый указ правительства толковали в свою пользу, с необыкновенной легкостью верили в подложные манифесты об освобождении от работ. Когда же им зачитывали непосредственно к ним обращенный указ о возобновлении работ на заводах, они не верили, считали, что это подделка, а подлинный указ скрыт заводчиками и воеводами. В совершенно бесспорных случаях они отвечали так, как отвечали крестьяне Масленского острога: «…указ о увещании в демидовские заводские работы все со истолкованием слушали и в силу того заказа в слышании довольны, токмо в заводские тягчайшие работы ныне уже и впредь ехать не желаем за велико-тягчайшими несноснотерпимыми работами, в которых тягчайших, смертельных и тиранскомучительных работах многое число крестьян смертельно бито, а иных и до смерти много убито»65.
Лишь после того как все возможные легальные формы борьбы были исчерпаны, крестьяне брались за оружие, баррикадировались в своих деревнях, бежали на новые места. Пытаясь сломить сопротивление крестьян, правительство посылало войска, вступавшие с крестьянами в настоящие сражения.
Следует отметить, что в локальных движениях крестьянских масс в 50–60-е годы XVIII в. отчетливо проявлялись те черты крестьянского сознания, которые в 70-е годы стали основой идеологии участников Пугачевского восстания. Речь идет о «наивном монархизме» крестьян, неистребимости их веры в появление справедливого царя, который издаст указ об их освобождении. Как и в 30-е годы, в елизаветинское время народные массы идеализировали Петра. Отзвуком его решительной борьбы с трехглавой гидрой лихоимства, мздоимства и хищений были настроения разочарования правлением его дочери, не принесшей облегчения народу. Не случайно монастырские крестьяне шацкого Новоспасского монастыря в своих челобитных, ссылаясь на законы Петра, писали о его правлении: «…суда были всем повсюду равны, без богоненавистного лицемерия… без проклятой корысти». Эту легенду о справедливом царе повторил на другом конце страны дворовый Строгановых А. Цывелов, утверждавший в своей челобитной, что «при прежнем государе все было хорошо, а ныне… не то». Отражением народных чаяний были и широко ходившие в народе слухи о единоборстве с фаворитами Елизаветы за права народа наследника престола Петра Федоровича, а после 1763 г. об его «уходе в народ»66.
Стихийные волнения и вооруженные выступления крестьян отдельных вотчин, сел и деревень носили характер неприкрытой классовой борьбы. Хотя они и не вылились в Крестьянскую войну, которая разразилась 15 лет спустя после описываемых событий, было бы неправомерно отрицать, что ее ближайшие предпосылки закладывались уже при Елизавете. Вспыхивая то здесь то там, крестьянские бунты быстро гасли, но уже предвещали гигантский пожар Пугачевского восстания, охватившего в 1773–1775 гг. огромную территорию и потрясшего основы самодержавной монархии.