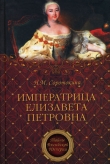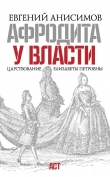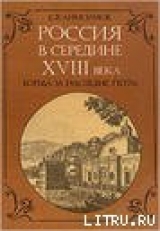
Текст книги "Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра."
Автор книги: Евгений Анисимов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
На очередном куртаге (приеме при дворе) в понедельник, 23 ноября 1741 г., Анна Леопольдовна объяснилась с Елизаветой. Об этой важной беседе до нас дошли две версии. Сразу после переворота правительство Елизаветы, дабы пресечь распространение за границей нежелательных слухов об обстоятельствах восшествия цесаревны на престол, разослало аккредитованным при иностранных дворах русским послам специальную записку с описанием переворота, содержание которой они были обязаны пересказывать в кулуарах и при этом ссылаться на якобы полученное из Петербурга частное письмо приятеля. В записке разговор соперниц передан так: «…правительница… при знатных тут генералитетах молвила к е. в. сии слова: «Что это, матушка, слышала я, будто в. в. имеете корреспонденцию с армией неприятеля и будто в. в. доктор ездит ко французскому посланнику и с ним вымышленные фикции в той же силе делает?» На что е. в. ей, правительнице, ответствовала: «Я с неприятелем отечества моего никаких алиансов и корреспонденции не имею, а когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, а как он мне донесет, то я вам объявлю».
И между таковыми переменных сердец разговорами изволила е. в. оттуда отъехать и прибыть в дом свой».
Шетарди сразу после переворота сообщал: «…правительница 5 декабря (23 ноября по ст. ст. – Е. А.) в частном разговоре с принцессой в собрании во дворце сказала ей, что ее предупреждают в письме из Бреславля быть осторожной с принцессой Елизаветой и особенно советуют арестовать хирурга Лестока; что она поистине не верит этому письму, но надеется, что если бы означенный Лесток признан был виновным, то, конечно, принцесса не найдет дурным, когда его задержат. Принцесса Елизавета отвечала на это довольно спокойно уверениями в верности и возвратилась к игре. Однако сильное волнение, замеченное на лицах этих двух особ, подали случай к подозрению, что разговор должен был касаться важных предметов»61.
Из приведенных версий меньшего доверия заслуживает первая. Сомнительно, чтобы правительница в присутствии посторонних, в том числе иностранных дипломатов, открыто пикировалась по такому поводу с цесаревной. Возможно, французский посланник, а также шведы упоминались именно в таком контексте с целью убедить зарубежную публику, для которой предназначалась записка, в их непричастности к заговору Елизаветы.
Шетарди в целом верно передает весьма важный для истории переворота инцидент. Позже, в период царствования Елизаветы, стали известны подробности событий, предшествовавших куртагу 23 ноября. Так, на допросе в 1742 г. отставной канцлер А. И. Остерман признался, что незадолго до этого приема он получил от своего брабантского агента донесение, в котором речь шла о заговоре Елизаветы и о связях заговорщиков с Шетарди и шведским командованием. «И были такие разсуждения как от принцессы Анны, так и от герцога и от него (Остермана. – Е. А.) в бытность его во дворце, что ежели б то правда была, то надобно предосторожности взять, яко то дело весьма важное и до государственного покоя касающееся, и при тех разсуждениях говорено от него, что можно Лештока взять и спрашивать…» Остерман посоветовал Анне переговорить и с Елизаветой об этом деле, а «ежели б она, принцесса, не хотела сего одна учинить», то допросить ее «в присутствии господ кабинетных министров»62.
Можно предположить, что, вызывая Елизавету на разговор, Анна Леопольдовна не понимала всей серьезности заговора и пыталась урезонить и припугнуть Елизавету «по-семейному». Однако эффект получился обратный. Не желая того, правительница дезавуировала планы властей, ибо арест Лестока означал бы провал заговора. Елизавета не на шутку встревожилась.
Тревога цесаревны еще более усилилась на следующий день вечером, когда к ней пришли гренадеры и сказали, что получен приказ о выводе гвардии к Выборгу – в район военных действий. Значение готовящейся акции расценить было несложно: вывод гвардии нейтрализовал бы заговор и позволил бы властям начать аресты, о которых проговорилась Анна Леопольдовна. И тогда Елизавета решилась…
Надо полагать, ей нелегко далось это решение. Тридцатидвухлетней красавице, привыкшей к праздной и беззаботной жизни, вероятно, пришлось собрать всю свою волю, чтобы подавить страх и решиться на это опасное, возможно, кровавое дело с непредсказуемым исходом. На это обстоятельство впоследствии обратил внимание новгородский архиепископ Амвросий в речи на коронации Елизаветы в Москве в 1742 г.: «И коеж большее может быть великодушие, как сие: забыть деликатного своего полу, пойти в малой компании на очевидное здравия своего опасение, не жалеть лет за целость веры и отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, итти грудью против неприятеля…»63 Но выбора уже не было. После полуночи 25 ноября она надела кирасу, села в сани и в сопровождении М. И. Воронцова, И. Г. Лестока и учителя музыки К. И. Шварца поехала по темным улицам спящей столицы в казармы Преображенского полка, где ее уже ждали.
Есть несколько описаний, как Елизавета подняла солдат на переворот. Все они не особенно отличаются друг от друга и близки к версии уже упоминавшейся записки для послов: Елизавета «изволила шествовать в слободы означенного полку в помянутую гренадерскую роту и, прибыв на съезжую, изволила всем говорить: «Други мои, как вы служили отцу моему, то при нынешнем случае и мне послужите верностью вашею», на что единодушно закричали оные гренадеры: «Рады все положить души наши за ваше величество и отечество наше!»»64
Во главе отряда из 300 гвардейцев Елизавета двинулась по Невскому к Зимнему дворцу. По дороге солдаты небольшими группами отделялись от основного отряда, врывались в дома важнейших правительственных деятелей и арестовывали их спящих хозяев. Доехав до начала Невского – Адмиралтейской площади, Елизавета, чтобы не поднимать излишнего шума, вышла из саней и пошла ко дворцу пешком. Солдаты шли быстро, и цесаревна вскоре стала отставать, задерживая всех. Тогда гвардейцы посадили ее на плечи и внесли в Зимний дворец, ставший с этой ночи на 20 лет ее домом. Пройдя в караульню, Елизавета разбудила солдат дворцовой охраны, которые тотчас к ней присоединились. Когда все лестницы и подъезды дворца были перекрыты, отряд гвардейцев поднялся на второй этаж в апартаменты правительницы.
Существуют две равноценные версии ареста Брауншвейгской фамилии. Согласно первой из них, Елизавета вместе с гвардейцами прошла в спальню правительницы и арестовала ее. Шетарди после переворота писал: «Найдя великую княгиню правительницу еще в постели и фрейлину Менгден, лежавшую около нее, принцесса объявила первой об аресте. Великая княгиня тотчас подчинилась ее повелениям и стала заклинать ее не причинять насилия ни ей с семейством, ни фрейлине Менгден, которую она очень желала сохранить при себе. Новая императрица обещала ей это…» Миних же, сам в это самое время разбуженный и крепко побитый гренадерами, много лет спустя писал, что Елизавета с солдатами прошла в спальню правительницы и разбудила ее словами: «Сестрица, пора вставать!»
Согласно другой версии, «Елизавета послала отряд гренадер, чтобы завладеть императором, его сестрой, правительницей и ее мужем. Последних нашли спящими в постели вместе и перевезли их во дворец Елизаветы. При первом взгляде на гренадеров правительница вскричала: «Ах, мы пропали!» В санях она произнесла только слова: «Увижу ли я принцессу?» До сих пор просьба ее не исполнена». Так писал неизвестный нам француз 28 ноября 1741 г. в письме, отправленном во Францию с дипломатической почтой. К. Г. Манштейн в своих записках сообщает, что арестовать правительницу были посланы И. Г. Лесток и М. И. Воронцов. Автор записки – «письма от приятеля из Петербурга» – изображает поведение Елизаветы в этот момент так: заняв гауптвахту, она «послала оных гренадер для объявления бывшей правительнице аресту и со всею фамилиею взять и отвести в дом е. в., а сама со стоявшими тут ожидала благополучной резолюции и виктории»65.
Весьма любопытна полемика вокруг этих событий в более поздней литературе. Французский путешественник и астроном аббат Шапп д'Ютрош в книге «Сообщение о путешествии в Сибирь» (1768 г.) пишет, что Елизавета с группой гвардейцев сама поднялась в спальню правительницы и арестовала ее. Это место записок аббата вызвало возражения Екатерины II, написавшей книгу «Антидот аббата Шаппа». Екатерина пишет, что рассказ Шаппа неверен: Елизавета «не всходила, но осталась внизу», а часовые у дверей не оказали мятежникам никакого сопротивления. Источник сведений аббата Шаппа известен – это Лесток, Которого аббат посетил в ссылке. Опальный лейб-медик описал аббату героическую сцену у дверей опочивальни, когда он прикрыл грудью цесаревну от направленного на нее штыка дежурного офицера и подобно герою трагедии прокричал: «Что ты делаешь? Проси помилования у императрицы!» Безумец тотчас пал на колени. Учитывая характер Лестока, думается, верить рассказу Шаппа не следует. Впрочем, не очень сильны и доводы оппонировавшей ему Екатерины, которая прибыла в Россию два года спустя после переворота. Она пишет, что «обе принцессы не видались ни во время действия, ни после его, это всем известно»66.
Но все же логика развития событий и взаимоотношений Анны Леопольдовны и Елизаветы – близких родственниц – позволяет предположить с большей вероятностью, что Елизавета сама не арестовывала правительницу. Во-первых, после блокирования всех входов в Зимний дворец Елизавета уже могла быть уверена в успешном завершении дела; во-вторых, вряд ли Елизавете хотелось видеть свою племянницу, которой незадолго перед этим она клялась в верности; в-третьих, Елизавета могла опасаться, что государственный переворот, осуществленный, как впоследствии провозглашалось, во имя освобождения России от иноземцев, может вылиться в заурядный семейный скандал.
Как бы то ни было, все обошлось без кровопролития и даже без единого выстрела. Арестованная Брауншвейгская фамилия вместе с членами правительства была доставлена во дворец Елизаветы у Марсова поля. Вскоре к ярко освещенному дворцу потянулись разбуженные барабанщиками жители столицы, помчались экипажи сановников, спешивших выразить свои «верноподданнейшие чувства» новой императрице.
Генерал-прокурора Сената Я. П. Шаховского в ту ноябрьскую ночь разбудил внезапный стук сенатского экзекутора, передавшего приказание немедленно явиться во дворец к только что принявшей престол императрице Елизавете. Впоследствии он так описывал эту памятную ночь: «Вы, благосклонный читатель, можете вообразить, в каком смятении дух мой находился! Ни мало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов не имея, я сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, что так меня встревожил и вмиг удалился; но вскоре увидел многих по улице мимо окон моих бегущих необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был, куда и я немедленно поехал, чтоб скорее узнать точность такого чрезвычайного происхождения. Не было мне надобности размышлять, в которой дворец ехать. Ибо хотя ночь тогда темная и мороз великой, но улицы были наполнены людьми, идущими к цесаревниному дворцу, гвардии полки с ружьями шеренгами стояли уже вокруг оного в ближних улицах и для облегчения от стужи во многих местах раскладывали огни; а другие, поднося друг другу, пили вино, чтоб от стужи согреваться. Причем шум разговоров и громкое восклицание многих голосов: «Здравствуй, наша матушка императрица Елизавета Петровна!» – воздух наполняли. И тако я, до оного дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не могши, вышед из оной, пошел пешком, сквозь множество людей с учтивым молчанием продираясь, и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша, взошел на первую с крыльца лестницу и следовал за спешащими же в палаты людьми…»67
К утру манифест о восшествии на престол и форма присяги были готовы. После того как присягнули гвардия и чиновники, Елизавета под приветственные крики гвардейцев «виват!» и залпы салюта с бастионов Петропавловской крепости и Адмиралтейства проследовала в Зимний дворец. Началось новое царствование.
А что же Шетарди? В подробных реляциях в Версаль после переворота французский посол изобразил себя сторонником немедленного захвата власти, толкнувшим нерешительную Елизавету на решительные действия 25 ноября. Однако если ознакомиться с последним перед переворотом донесением Шетарди, то нельзя не усомниться в правдивости его победных реляций. Анализ этого донесения показывает, что посол не только не держал в руках нити заговора, как он это изображал потом, но даже не хотел осуществления переворота в описываемый момент.
В реляции 24 ноября, т. е. за день до переворота, Шетарди, взвешивая шансы Елизаветы на успех, писал, что Елизавета должна прийти к власти только с помощью шведов, которыми руководят французы. Только тогда Елизавета будет понимать, что она «обязана престолом одному королю и тем средствам, которые он употребляет». Мысль, как нам уже известно, не нова. Однако после поражения шведы были не способны оказать помощь цесаревне, а переворот, осуществленный только силами цесаревны, перечеркнул бы все усилия франко-шведской дипломатии. Поэтому, пишет Шетарди, он лично прилагает большие усилия, чтобы никак «не дать заподозрить цесаревне, что шведы ожидают от ее помощи большего содействия своему предприятию», чем она полагает, ибо «если партия этой принцессы посчитает возможным или должным совершить переворот своими силами, то будет трудно привести дело к той цели, которая столь существенным образом затрагивает интересы шведов»68.
Поэтому переворот, совершенный на следующий день после посылки в Версаль цитированного доношения, был для Шетарди неприятным сюрпризом. Автор «Замечаний на «Записки Манштейна»» (по-видимому, П. И. Панин) сообщает, что Шетарди «пришел в чрезвычайное изумление, когда среди ночи разбудил его присланный от Елизаветы Петровны камергер П. И. Шувалов и уведомил о восшествии ее на престол»69.
Думается, критик К. Г. Манштейна несколько приукрасил свой рассказ. Сохранилось письмо сотрудника французского посольства, написанное сразу после переворота: «Мы только что испытали сильный страх. Все рисковали быть перерезанными, как мои товарищи, так и наш посол. И вот каким образом. В два часа пополуночи, в то время как я переписывал донесения посла в Персии, пришла толпа к нашему дворцу, и послышался несколько раз стук в мои окна, которые находятся очень низко и выходят на улицу у дворца. Столь сильный шум побудил меня быть настороже; у меня было два пистолета, заряженных на случай, если б кто пожелал войти. Но через четверть часа я увидел четыреста гренадер, во главе которых находилась прекраснейшая и милостивейшая из государынь. Она одна, твердой поступью, а за ней и ее свита направилась ко дворцу»70.
Возникает вопрос: почему французы изготовились к обороне, а стучавшие так и не ворвались в здание? Вероятно, произошло недоразумение: здание французского посольства находилось на Адмиралтейской площади, неподалеку от домов Левенвольде, С. В. Лопухина, А. И. Остермана. По-видимому, один из отрядов гренадер, отправленный арестовать сановников Анны Леопольдовны, по ошибке пытался ворваться в посольство, чем и вызвал там панику. Разобравшись, солдаты ушли. Наступила пауза… А затем («через четверть часа»!) на Адмиралтейскую площадь вышел основной отряд мятежников вместе с Елизаветой и направился к Зимнему дворцу. Иначе говоря, Шетарди из своего окна мог видеть захват резиденции правительницы, осуществленный без ведома и вопреки желанию французского посла.
Итак, переворот 25 ноября 1741 г. возвел на престол дочь Петра Великого Елизавету. По своей социальной сущности он был типично верхушечным и коснулся лишь правящего слоя, разделенного на группы, которые отчаянно боролись за власть, влияние и богатство. Характер переворота определил его легкость, быстротечность и бескровность. Но при явном сходстве переворота 25 ноября 1741 г. с другими подобными ему дворцовыми переворотами в России XVIII в. (верхушечный характер, гвардия – ударная сила) не могут не обратить на себя внимание несколько важных обстоятельств, придающих индивидуальность перевороту, в результате которого на престол вступила Елизавета.
Первая особенность переворота 25 ноября 1741 г. состоит в том, что его ударной силой была не просто гвардия, а гвардейские низы – выходцы из податных сословий, теснее, чем верхушка гвардии, связанные с широкими массами петербургского населения и потому острее воспринимавшие и разделявшие общественную психологию. Здесь-то и кроется вторая особенность дворцового переворота 25 ноября, а именно его ярко выраженный антинемецкий, патриотический характер. Осуждение фаворитизма немецких временщиков, как и в целом политики Анны Ивановны, сочеталось в общественном сознании с идеализацией Петра Великого и его дочери. Третьей особенностью переворота 25 ноября было то, что иностранная дипломатия (преимущественно французская и шведская) пыталась активно вмешаться во внутренние дела России и за предложения эфемерной помощи Елизавете добиться от нее существенных политических и территориальных уступок, означавших добровольный отказ от завоеваний Петра. Попытки франко-шведской дипломатии повлиять на ход событий оказались тщетными именно потому, что такие условия были явно неприемлемы для дочери Петра, политическим капиталом которой было как раз отстаивание наследия великого царя. Патриотическая окраска переворота 25 ноября 1741 г. выделяет его из ряда других дворцовых переворотов в России XVIII в. и позволяет рассматривать его как явление в определенном смысле неслучайное, ибо характеризует высокий уровень общественного сознания если не всего русского общества, то по крайней мере его широких столичных кругов.
ГЛАВА 2
ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ
Вступая на путь заговора и намереваясь захватить власть, Елизавета не имела никакой определенной программы ни в области внутренней, ни в области внешней политики. У нее и ее ближайшего окружения не было таких конструктивных идей, которые знаменовали бы принципиальное изменение социально-политического курса страны. Довольно смутные мысли о необходимости восстановить попранные немецкими временщиками «начала» Петра, реставрировать отмененные после смерти реформатора учреждения, восстановить забытые законы Петра – вот, собственно, и все, с чем пришла к власти новая императрица.
Ни Елизавета, ни ее советники не представляли себе масштабов коренных проблем великого наследия Петра – империи, раскинувшейся от берегов Балтики до Тихого океана.
На этом огромном пространстве в 40–50-е годы XVIII в. жило всего не более 19 млн. человек обоего пола. Они крайне неравномерно распределялись по территории страны. Если население Центральнопромышленного района, охватывавшего только Московскую и прилегавшие к ней губернии, насчитывало не менее 4,7 млн. человек, то население Сибири и Севера – не более 1 млн. человек.
Не менее любопытна и социальная структура населения России того времени. Подавляющее большинство жителей страны составляли крестьяне. В городах жило не более 600 тыс. человек, или менее 4 % всего населения. Крестьянское население делилось на две основные группы: владельческие крестьяне (помещичьи, дворцовые, монастырские) и государственные, чьим сюзереном было государство. В общей массе учтенного во II ревизию (1744–1747 гг.) крестьянского населения (7,8 млн. душ мужского пола) помещичьих крестьян было 4,3 млн. душ, или 50,5 %. В целом же крепостное население составляло почти 70 % крестьянского и 63,2 % всего населения1. Столь значительный перевес крепостных достаточно убедительно свидетельствует о характере экономики России середины XVIII в.
Петровская эпоха реформ способствовала интенсивному промышленному развитию страны. В первой половине XVIII в. были достигнуты выдающиеся успехи в черной металлургии. Еще в 1700 г. Россия выплавляла чугуна в 5 раз меньше, чем передовая по тем временам Англия (соответственно 2,5 тыс. т и 12 тыс. т). Но уже в 1740 г. выпуск чугуна в России достиг 25 тыс. т, и она оставила далеко позади Англию, выплавлявшую 17,3 тыс. т. В дальнейшем этот разрыв продолжал увеличиваться, и к 1780 г. Россия выплавляла уже 110 тыс. т чугуна, а Англия – только 40 тыс. т. И лишь на исходе XVIII в. начавшаяся в Англии промышленная революция положила конец экономическому могуществу России, построенному на мануфактурном производстве и полукрепостнической организации труда.
Во второй четверти XVIII в. о кризисе экономики России говорить не приходится. Только за 15 лет (с 1725 по 1740 г.), т. е. во время осуждаемого елизаветинской пропагандой господства иностранных временщиков, выпуск чугуна и железа в стране вырос более чем в 2 раза (с 1,2 млн. до 2,6 млн. пудов). В те годы развивались и другие отрасли промышленности, а также торговля. В елизаветинский период тяжелая промышленность получила дальнейшее развитие. Так, выплавка чугуна с 25 тыс. т в 1740 г. возросла до 33 тыс. т в 1750 г. и к 1760 г. составила 60 тыс. т. По признанию специалистов, 50-е годы были для металлургической промышленности поистине рекордными на протяжении всего XVIII в.2
Своеобразие ситуации, в которой Елизавета пришла к власти, в немалой степени определило особенности внутренней политики нового правительства. Первыми же указами Елизаветы петровские «начала» внутренней политики были провозглашены как основополагающие для правительственной деятельности.
Можно с уверенностью утверждать, что приход Елизаветы к власти положил начало беспрецедентной по тем временам кампании, которую иначе как пропагандистской и не назовешь. Цель ее состояла в том, чтобы сформировать благожелательно настроенное к новой монархине общественное мнение, убедить возможно более широкий круг подданных в законности власти дочери Петра I, в непреложности ее прав на престол. Архимандрит Заиконоспасского монастыря Кирилл Флоринский в проповеди 18 декабря 1741 г. в Успенском соборе Москвы по случаю дня рождения Елизаветы восклицал: «Возведи о, Россие, очи твои и виждь! Се аз семя отца твоего Петра Великого седох на престоле твоем. Се во мне оживотворися Петр, жива бысть Екатерина. Отродися Петр, вся благия насеявый в недоех твоих»3.
Но не только кровная близость Елизаветы к Петру отмечалась пропагандой того времени. Елизавету стремились представить идейной преемницей великого царя-реформатора. Наиболее емко эту мысль выразил А. П. Сумароков:
Во дщери Петр опять на трон возшел,
В Елизавете все дела свои нашел…
Обращаясь к Елизавете, он повторил эту мысль на иной лад:
О матерь своего народа!
Тебя произвела природа
Дела Петровы окончать!4
Идея о преемственности «начал» Петра Елизаветой сочеталась с двумя концепциями, оказавшими, между прочим, существенное влияние на последующую историографическую традицию. Во-первых, с приходом Елизаветы к власти официально осуществлялась политическая канонизация Петра Великого. Его личность и дела расценивались однозначно – как ниспосланное небом благо для России. Особенно отчетливо мысль о величии Петра сформулировал архиепископ Амвросий в проповеди 18 декабря 1741 г., развив идеи знаменитой проповеди Феофана Прокоповича 1725 г. на смерть Петра. Изумляясь свершенному при Петре, он говорил: как возможно, «чтоб в единое время учреждать артикулы воинские, воевать без отдышки чрез несколько десятков лет, по различным странам и государствам путешествовать, заводить флот и притом все духовное и гражданское исправлять благосостояние, а все то делать с крайнею трудностию и почти с опасением самого живота своего дражайшего! О! воистину тут Петр крайнюю ревность к отечеству засвидетельствовал, когда, богом поспешествуемый, все то исправить возмог вместе и в едино время, что иные государства делали чрез многие веки. Когда он воевал, учил воевать воинство; когда учил воинство, устроял благополучие внутренняго гражданства; когда устроял благополучие гражданства и о духовном своем чине промышлять не оставил»5.
Во-вторых, уже в начале царствования Елизаветы оформляется крайне негативная оценка периода истории России от смерти Екатерины I (1727 г.) и до восшествия на престол Елизаветы (1741 г.). Эти 14 лет расценивались как время мрака, упадка страны. В проповеди 25 марта 1742 г. архимандрит Свияжского Богородицкого монастыря Дмитрий Сеченов говорил, что со смертью Петра и Екатерины «погребли и благоденствия наша; по смерти оных за беззакония и неправды наша наказа нас господь частыми переменами, а в таковых вредительных переменах, коликая претерпехом злая, в коликое было Россия пришла безобразие, воспомянути – болезнь утробу пронзает». Враги России «как прибрали все отечество наше в руки, коликий яд злобы на верных чад российских отрыгнули, коликое гонение на церковь христову и на благочестивую веру возставали, их была година и область темная, что хотели, то и делали». Амвросий в уже упомянутой проповеди вложил в уста Елизаветы, поднимавшей солдат на мятеж, такие слова: «Родители мои… трудились, заводили регулярство, нажили великое сокровище многими трудами, а ныне то растащено, сверх же того, еще и моего живота ищут. Но не столько мне себя жаль, как вседражайшего Отечества, которое, чужими головами управляемое, напрасно раззоряется, и людей столько неведомо за кого пропадает»6.
Так много внимания проповедям начала елизаветинского царствования уделено не случайно. В XVIII в. (как и раньше) амвон был трибуной, с которой решения властей доводились до самых широких масс населения, обязанного посещать церковь. Эта трибуна широко использовалась и для распространения и разъяснения официальных идей. Отсюда понятно огромное общественное значение проповедей. Произносимые нередко блестящими ораторами своего времени, они воспринимались как явления высокой словесности и могли произвести необычайно глубокое впечатление на паству, почти сплошь неграмотную.
В петровскую эпоху проповедь использовалась не только для традиционных религиозно-этических целей, но и для донесения идей царя-реформатора до народа. Тип проповеди на общественно-политическую тему благодаря таланту таких ораторов, как Ф. Прокопович, Г. Бужинский, Ф. Лопатинский, превратился тогда в весьма действенную форму популяризации преобразований. В 30-е годы XVIII в. проповеди на злобу дня не произносились. Жанр политической проповеди возродился лишь с приходом к власти Елизаветы и в первые годы ее царствования переживал невиданный расцвет. В первые три года правления Елизаветы зафиксировано около 120 проповедей на политические темы, что во много раз превышает число таких проповедей, произнесенных за другие годы. Наиболее яркие проповеди публиковались и затем расходились по стране7.
В проповедях 40-х годов дворцовый переворот 25 ноября
1741 г. изображался как гражданский и религиозный подвиг лично Елизаветы, которая как некий мессия, воодушевляемая провидением и образом великого отца, решилась «седящих в гнезде орла Российского нощных сов и нетопырей, мыслящих злое государству, прочь выпужать, коварных разорителей отечества связать, победить и наследие Петра Великого из рук чужих вырвать, и сынов Российских из неволи высвободить и до первого привесть благополучия…»8.
Идеи политических проповедей, обладающих способностью воздействовать на общественное сознание, перешли в литературу и искусство. Оды М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова были одновременно и явлениями литературной жизни того времени, и средством пропаганды. Свою лепту в пропаганду идей, обосновывавших концепцию «возрождения России ото сна», внес театр. В этом смысле примечателен пролог Я. Штеллина «Россия по печали паки обрадованная», поставленный перед оперой «Милосердие Титово» на празднике коронации Елизаветы. Либретто 1742 г. позволяет представить, как на сцене в то время воплощались идеи елизаветинской идеологической доктрины.
Раздвигался занавес, и зрители видели «запустелую страну, дикой лес и в разных местах отчасти начатое, но недовершенное, а отчасти развалившееся и разоренное строение». Аллегорию запустения страны в период правления Бирона дополнял образ Рутении, окруженной плачущими детьми и сетующей на свою несчастную судьбу, – символ России. Как отмечал современник, ария-плач Рутении под аккомпанемент лютни и флейты, а также вид несчастных детей произвели сильное впечатление на 4-тысячный зал; сама Елизавета не удержалась от слез. Однако Рутения успокаивает детей и «обнадеживает их тем, что Петр еще жив в лице своей дщери и что он России может скоро опять возвратить прежнюю ея славу… ежели кровию Великого Петра и истинною и законною наследницею Петровы времена паки восстановлены будут».
Переворот 25 ноября 1741 г. символизировали восход солнца в сопровождении «веселого хора музыки и поющих лиц» и выплывающая вместе с солнцем на облаке богиня Астрея, окруженная пятью главными добродетелями Елизаветы (Справедливость, Храбрость, Человеколюбие, Великодушие, Милость) и «пятью свойствами верных подданных» (Любовь, Верность, Сердечная искренность, Надежда и Радость). Пока богиня спускалась с небес, «прежние дикие леса» превращались в «лавровые, кедровые и пальмовые рощи, а запустелые поля – в веселые и приятные сады». Астрея исполняла арию о том, что еще при рождении Елизавета была одарена добродетелями, которые, как и «приносимые от России жалобы», позволяют увенчать Елизавету короной, «дабы Россию паки восстановить». Затем богиня призывала воздвигнуть «публичный монумент» в честь Елизаветы, и посредине сцены поднимался огромный обелиск с надписью: «Да здравствует благополучно Елизавета, достойнейшая, вожделенная, коронованная императрица, Мать отечества (напомним, что Петр носил титул «Отца отечества». – Е. А.), увеселение человеческого рода, Тит времен наших. 1742». Пролог завершался ликованием народов всех четырех частей света, а «добродетели и добрые свойства» танцевали «радостный балет»9.
Так формировалась идеологическая доктрина елизаветинского царствования. Первейшую задачу Елизавета видела в восстановлении государственных институтов и законодательства в том виде, в каком они были при Петре I. В указе 12 декабря 1741 г. – центральном постановлении реставрационного характера – говорилось: «…усмотрели мы, что порядок в делах правления государственного внутренних отменен во всем от того, как было при отце нашем… и при матери нашей… в первый год ее владения было, ибо в другой год ея владения происком некоторых прежний порядок правления, установленный от нашего… родителя, нарушен вновь изобретенным Верховным тайным советом», замененным при Анне Ивановне Кабинетом министров. Указом 12 декабря постановлялось, что Сенат «да будет иметь прежде-бывшую свою силу в правлении внутренних всякого звания государственных дел»; категорическим образом предписывалось все указы и регламенты Петра «наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать во всех правительствах государства нашего». Согласно указу, Кабинет министров – высший правительственный орган предшественников Елизаветы – был ликвидирован и восстанавливался Кабинет ее императорского величества – личная канцелярия монарха10.