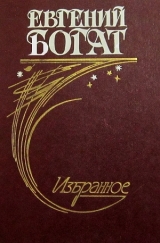
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Евгений Богат
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Титус не умер, умерла Саския. Рембрандт часто рисовал сына, в этих портретах живет ощущение совершившегося чуда. Но я не особенно верю, что Титус в жизни был похож на Титуса рисунков и полотен, хотя бы в той степени, как были похожи в действительности и в живописи Рембрандта остальные люди, которых он рисовал, заботясь больше не о портретной точности изображения, а о передаче духовной сути человека. Думаю, что Титус был похож на себя даже меньше, чем Саския или Хендрикье Стоффельс, потому что на любом из портретов он поразительно напоминает лицом, обликом, телесным сиянием ангела в картине «Жертвоприношение Маноя», написанной до его рождения. Это кажется фантастическим: Рембрандт написал Титуса раньше, чем его увидел. Но фантастика, как и обычно у этого гениального художника, оборачивается реальностью человеческого духа, если попытаться понять ее суть. С самого начала, до рождения, с первых минут надежды, Титус был для Рембрандта чудом и оставался чудом…
Рембрандт писал чудо в образе мальчика, юноши. Портреты Титуса, наверное, самые лучезарные из его работ, они рождены веселой кистью, вылеплены из улыбающихся, сияющих мазков. Они повествуют о телесной драгоценности человека. И если испытываешь перед ними печаль, то потому, что ощущаешь и ее непрочность, недолговечность…
«298. Три собачки с натуры, Титуса ван Рейна. 299. Раскрашенная книга, его же. 300. Голова Марии, его же…
309. Старый сундук. 310. Четыре стула с сиденьями черной кожи. 311. Сосновый стол…
338. Две небольшие картины Рембрандта…»
Что стало с двумя небольшими – без названия – картинами Рембрандта, с тремя собачками, написанными с натуры его сыном?
«363. Несколько воротников и манжет».
…Он вышел из этого дома, с Титусом и Хендрикье Стоффельс, нищим, утратив «имущество» полностью, абсолютно – от Рафаэля и антиков до рубах и салфеток, – и не было в мире в тот час человека богаче его. Он шел к беднейшей в Амстердаме гостинице, чувствуя, что, в сущности, ничего не потерял, потому что то, чем он обладает, его подлинное богатство, не может у него отнять ни один кредитор или аукцион. Судьба нанесла ему удар, казалось бы, сокрушительный тогда, когда его духовное «я» было уже выше судьбы. Ни одному античному мифу ничего подобного неизвестно: человек, даже самый сильный, не может возвыситься над судьбой, над роком. По отношению же к Рембрандту сам этот торжественный, со скрытым в нем космическим гулом, гулом океана, землетрясения, одновременно таинственный и точный термин – рок, кажется неестественным, неорганичным, что ли. Рембрандт и рок несовместимы: Рембрандт могущественнее рока.
На автопортретах 50–60-х годов мы видим царственного Рембрандта, бедна, нищенски темна, ветха его одежда (дорогие редкие ткани, они горят в «Автопортрете с Саскией на коленях», нашли себе после аукциона новых хозяев), и над этим ветхим и темным царит лицо, мудрости и величию которого могли бы позавидовать, если бы они умели завидовать, и король Лир и Иов.
Но часто мысленно вижу на пустынной улочке старого Амстердама и иного Рембрандта – рано одряхлевшего, с размытым в сумерках лицом, тяжко передвигающего ноги… Кажется, он сейчас упадет на хорошо вымытые, чистые камни.
Он умер в постели, во сне, забытый Амстердамом. Европа воевала, торговала, открывала – ей было не до Рембрандта. Его тихо похоронили, как хоронят безвестных бедняков, и долго его полотна пылились у не особенно удачливых торговцев картинами и чудаков коллекционеров; потом они передавались по наследству с постельным бельем и серебряными ложками; потом истлевали в лавках, где весело торгуют дешевыми диковинами…
И лишь через двести лет началось великое возвращение Рембрандта.
«С новым годом, – писала мне в январе Елизавета Евграфовна, – я уже на работе, мне хорошо, и Вам от души желаю хорошего.
Вошла я в зал, голова закружилась, села, отошла и побрела, в коленях дурнота, а сердцу тепло, натосковалась в больничном покое.
К „Пожилому“ подошла, посмотрела, и лицо то же, и руки, будто вчера гусиным жиром их натирала. Урия пожалела, стариков, и к „Возвращению“ потянуло. Потопталась я перед ним, потопталась, это у Вас научилась, поелозишь малость по паркету и увидишь во тьме, там, о чем и не мечталось никогда. И я сейчас Антона увидела. Ни разу не видела его в зале, а тут выступил он, посмотрел на меня, но не молодой, а старый, будто не убили его, а жил, обветшал, как и я. „Ничего, говорит, Лиза, ничего“. Дернула я головой, а он и ускользнул, а потом вернулся опять. И что это за диво в темном большом полотне, что посмотришь, потопчешься, и лица выступают? А потом на стуле у себя я подумала: вот не Вы бы с Вашим топтанием, не нашла бы я его ни за что, а он ждал, видно. „Ничего, говорит, Лиза, ничего, вот и я“. Старый ужасно, старее даже меня. И темный, темный, печальный.
Потом, конечно, набежал народ, экскурсанты, а к вечеру, когда публики поменьшало, подошла я к Вашей любви, к „Давиду и Ионафану“. Вы меня извините, пожалуйста, но пожалела я Вас, когда читала в том Вашем письме, будто второй человек на картине тоже, наверное, Рембрандт, только зареванный, с мокрым, несчастным лицом, и, быть может, осталось это лицо на полотне, хотя и не видим мы его сейчас, потому что замазал Рембрандт его потом от гордости сердца, нагнул кистью голову, чтобы не выдать себя. Когда я читала Ваше то письмо, не пойму, отчего не о Рембрандте, а о Вас самих болело сердце. Сейчас подошла к „Давиду и Ионафану“ и решилась – пойду к одному большому у нас человеку, попрошу просветить полотно, как „Данаю“ однажды просветили, может, и найдут в подлинности Вашего зареванного Рембрандта, я бы Вам послала рентгенограмму, вот и было бы Вам легче, чем одному.
Мне сейчас хорошо, как никогда в жизни не было. Вечером ухожу, а на сердце радость: завтра вернусь сюда и послезавтра. Может, это и худо, но и с той женщиной, больной, из пятого века, меняться раздумала. Разве что сильно заморозит и она расхворается. Иначе, не судите строго, не поменяюсь. Не могу я без него жить.
А письма Ваши ко мне, если что, лежат в шкафу, где книги. „Ночной дозор“ я нашла, хороший, большой, девочка на нем, как солнце, я даже зажмурилась от боли, а „Маноя“ не оказалось у Бориса Михайловича, да я найду его, не беспокойтесь, погляжу на ангела: я с детства, как в церковь водить перестали, ангелов не видела, забыла уже про них, а захотелось теперь увидеть…»
И я не могу жить без Рембрандта, и в тот памятный весенний день поехал к нему с вокзала, поднялся по белой парадной лестнице, потом быстро шел через анфиладу комнат с бесценными гобеленами, через залы, где висят Рафаэль, Тициан, Ван Дейк, и с остановившимся сердцем, уже ослепленный золотом «Данаи», переступил порог.
Потом повернулся, чтобы поздороваться с Елизаветой Евграфовной, и увидел на ее стуле незнакомую толстуху. Я подошел к ней, осведомился:
– Елизавета Евграфовна выходная? Или опять, – показал рукой на пол, – в пятом веке?..
И услышал:
– Померла. Зимой.
Я стоял у ее полотен, стоял, ничего не видя, забыв вообще о Рембрандте, точно ожидал, что она вернется ко мне, как к ней самой в этом зале возвращались те, кого она любила.
1971 г.
…Через несколько лет в Амстердаме я искал могилу Рембрандта. Мне, разумеется, рассказали, объяснили, как ее найти – в старой церкви, на берегу одного из каналов. Но в Амстердаме, густо изрезанном каналами, заблудиться нетрудно, особенно при незнании языка. И я заблудился. Осенний день, последний мой амстердамский (второй из двух отпущенных судьбой) день клонился к вечеру, а мне не удалось найти ту набережную, ту церковь…
Я уже и не надеялся их найти, шел не спеша, думая о «Ночном дозоре», перед которым стоял накануне. Я шел по туманной набережной, думая о загадочной – в толпе вооруженных мужчин – девочке, в которой некогда, имея дело с репродукциями, увидел, узнал Анну Франк. И вот передо мной был живой «Ночной дозор», я увидел живую Анну.
Если не удалось найти восточную церковь с могилой Рембрандта, решил я, попытаюсь отыскать Дом-музей Анны Франк.
Был уже вечер; дом-музей был закрыт. Но я настойчиво позвонил, и мне разрешили войти. По узкой головоломной лесенке я поднялся в помещение, которое для семьи Франк было убежищем в течение двух бесконечных лет, пока его не раскрыло гестапо.
Я услышал бой часов.
Это били часы восточной церкви, в которой похоронен Рембрандт. Она расположена в нескольких шагах отсюда. Но об этом я узнал лишь через несколько минут, выйдя из дома-музея, увидев рядом церковь, хорошо известную по описаниям.
Она была тоже закрыта, но не из-за позднего часа – она была закрыта, как бывают закрыты заброшенные, забытые, запущенные церкви, наглухо, казалось, навсегда.
Я шел вдоль ее стен, пытаясь что-то увидеть, рассмотреть в высокие, пыльные, а то и разбитые окна, и не то что видел – ощущал холод, темноту, запустение.
Там – Рембрандт. В сущности, забытый, как и при жизни, хотя картины его и украшают лучшие музеи мира, а имя стоит в ряду бессмертных.
Вернувшись в Москву, я перечитал «Дневник» Анны Франк, написанный в убежище, и нашел строку о том, что бой часов восточной церкви успокаивал ее в убежище, утешал.
Может быть, в этом и последняя тайна Рембрандта (которую хорошо чувствовала Елизавета Евграфовна), – в умении утешать, утешать не обманывая…
1978 г.
Чекрыгин
Блок однажды назвал имя Пушкина веселым. Чудесное, точное сочетание – веселое имя: Пушкин. Оно действительно кажется веселым с детских лет. Катание на санках, купание в море, новогодняя елка, игра с собакой и… Пушкин, Пушкин. Нет без него ни елки, ни моря, ни собаки, ни детства. И портрет курчавого толстогубого, сияющего лукавством россиянина-негритенка вяжется на редкость с весельем, играющим в этом имени.
Но даже и потом, когда тебе открываются его сердце и судьба и ты не обнаруживаешь в портретах тридцатилетнего, мечтающего о покое и воле человека, и тени сияющего лукавства и не можешь без боли думать о нем и его читать, – имя Пушкина кажется веселым. Может быть, потому, что детство и он неразлучны? И то первоначальное, что заложено для нас в его имени, оказывается самым долговечным? А может быть, дело в его особом величии – будничном, тихом, домашнем, – в величии сердца, не желающем, чтобы его увидели и рождающем у нас ощущение веселья, когда мы его чувствуем: в шутливой строке письма или в неторжественно печальных стихах. И веселье – уже не санки и не собака, не море, не золотой петушок, а «жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Не детское, бездумное, не новогодняя елка, а то высокое, когда человек любит жизнь, несмотря ни на что…
«Веселое имя Пушкин». А Лермонтов?
Сумрачное, печальное, таинственное? Пожалуй, последнее: таинственное имя – Лермонтов. Может быть, потому, что оно овладевает нами обыкновенно не в детстве, а в отрочестве, с первыми бессонными ночами и первыми сомнениями в себе, мы ощущаем в нем и потом что-то беспокойное, тянущее сердце…
Странное дело: если Пушкин в детских портретах истинный ребенок, чистосердечный мальчишка, а потом, с годами, в его изображениях детского меньше и меньше, то у Лермонтова, наоборот, в детских портретах что-то неестественно взрослое, какая-то великая сумрачная серьезность, а вот потом, чем старше он, тем больше сквозит в нем детского, точно хочет оно настойчиво выбиться наружу, даже силой взломав изнутри неподвижность и замкнутость лица. Давно я мечтал найти портрет, в котором это детское выявилось полностью бы, хотелось увидеть курносого сутулого мальчишку в золотых эполетах, откровенную нежность и беззащитность его детских губ, несумрачную, детскую серьезность лица, увидеть Лермонтова, которого я любил не тогда, в отрочестве, а люблю сегодня. Мне хотелось увидеть Лермонтова, который на балу, «нестройною толпою окружен», ощущая касания давно бестрепетных рук, посреди суеты и мишуры увидел себя ребенком и почувствовал ни с чем не сравнимую радость освобождения.
«И вижу я себя ребенком…» Он написал это 1 января 1840 года, когда окружающие видели в нем: одни – заносчивого офицера, вторые – бессердечное чудовище, третьи – подражателя Пушкину и Байрону, четвертые – утомленного жизнью, рано состарившегося лишнего человека. А он сам на петербургском балу, «при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей», увидел себя ребенком.
Я и мечтал увидеть Лермонтова, который мысленно увидел себя ребенком…
Но ни один из хорошо или малоизвестных портретов не показывал мне его. Я уже потерял надежду найти моего Лермонтова, когда однажды увидел его издали на выставке работ Василия Николаевича Чекрыгина.
Я увидел его, едва войдя в зал, и тотчас же узнал в нем то, чего недоставало мне раньше: откровенную бесстрашную детскость. Подойдя ближе, я с удивлением обнаружил, что на лице нет акварельно-нежных, почти бестелесных усиков. Вольность художника меня удивила. Но я не сомневался, что передо мной именно Лермонтов, большой, серьезный, печальный ребенок, Лермонтов, понятый удивительно по-моему, Лермонтов незащищенный – той минуты, когда «скрывается души моей тревога, когда расходятся морщины на челе». Потом он опять себя защитит, станет замкнутым, чуть высокомерным, чтобы никто не узнал его «таинственную повесть», но сейчас я вижу, наконец, моегоЛермонтова. Черно-белый рисунок: перо, чернила. Когда он написал? Я подошел, нагнулся: «Автопортрет, 1918 год». Да, это был автопортрет самого Чекрыгина, художника, до этого совершенно неизвестного мне, на выставку которого я зашел (именно зашел!) из чистого любопытства: был в Музее изобразительных искусств у Микеланджело, выйдя, увидел над «Домиком Верстовского» на серой парусине незнакомое имя – «ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕКРЫГИН» – и перешел через дорогу…
Я оторвался от автопортрета, начал рассматривать рисунки. И мне показалось, что меня подхватил вихрь, я лечу, рядом мужчины, женщины, дети, старики. Мы летим, излучая сияние, касаясь обнаженными телами созвездий, мы сами – живое созвездие, летим, теряясь в туманностях космоса. Ощущение полета уже не покидало меня. Но оно не вытеснило самого первого чувства – узнавания Лермонтова. Я переживал полет – его исступление – по-лермонтовски. А потом, постепенно успокаиваясь, понимал мир, который открывал мне Чекрыгин, тоже по-лермонтовски. Этот мир убеждал в том, что земля – удивительное, таинственное небесное тело, созданное для чуда.
Чекрыгин рисовал углем, мелом, графитом, сангиной, добиваясь сияния обнаженных человеческих фигур, земли, неба… Он, казалось, с лихорадочной поспешностью изображал мир в минуты потрясения, перехода в какое-то высшее состояние, он торопился – эскиз за эскизом! – чтобы не упустить ни одной подробности чуда, разламывающего небо, открывающего настежь занебесье. Он показывал рождение нового человечества. Туманно сияющие созвездия людей изображены на его бесчисленных композициях в разные моменты совершающегося чуда. Художник показывает нам нечто абсолютно фантастическое: воскрешение сошедших в землю бесчисленных поколений и переселение их на затерянные в космосе миры. Он изображает первые минуты возвращения в жизнь и бессмертия, космического полета. Он рисует людей, видящих опять деревья, небо, ощущающих тепло и холод.
Перед нами сияющие живые человеческие тела. Он изображает не духовное воскресение, а именно телесное, физическое, люди – не тени! – подобно языкам живого огня колеблются, выпрямляются, стелются по земле, потухают, чтобы опять разгореться.
Надо было несколько раз обойти маленькие залы, успокоиться, подумать, чтобы понять: в сущности, Чекрыгин рассказывает о фантастическом господстве человека над стихийными силами космоса, о беспримерном торжестве человеческого разума, об управлении (именно управлении!) тем, что было раньше безмерно, несравненно могущественнее человека. Никто до сей минуты не повествовал мне об осуществлении извечного человеческого чаяния – быть бессмертным! – с подобной явственно видимой, несмотря на таинственность действия, телесной достоверностью. А ведь, пожалуй, не было мыслителя, поэта, художника, который бы об этом не размышлял с пером или кистью в руке.
И я опять подумал о Лермонтове, об одной поразившей меня некогда особенности его отроческих стихов. Желание бессмертия в них, понимание его весьма отличны от этих же мотивов и у великих поэтов давно минувших эпох (Данте, Петрарка), что, в сущности, естественно, и у поэтов, почти современных Лермонтову, – Гёте, Шиллера, даже у Пушкина.
Лермонтову мало бессмертия духа, бессмертия деяния, он хочет бессмертия физического, бессмертия тела. Видя себя во сне умершим, он страстно желает оживить разрушающееся тело, он согласен даже пожертвовать «блаженством», чтобы одну, одну только минуту чувствовать опять в теле теплоту, иного бессмертия ему не надо.
Это довольно редкое у поэтов (тем более поэтов-романтиков) умонастроение естественно рождается из его любви к земле. Он пишет тогда же: «Как землю нам больше небес не любить? Нам небесное счастье темно…» Он решается даже на то, на что ни до, ни после не решился ни один из великих поэтов, – отказывается от вечности (его демон изведал с лихвой ее неуют!). Порой он мечтает о бессмертии в образе «синей волны», но и это желание соединено с могучим ощущением телесности мира. «О как страстно я лобзал бы золотистый мой песок». Не хочет Лермонтов бессмертия без этого радостно осязаемого кожей «золотистого песка»! А описывая похороны товарища-юнкера, он восклицает с не оставляющей сомнения отчетливостью: «И в землю все очи смотрели, как будто бы все, что уж ей отдано, они у ней вырвать хотели!»
Но ведь Чекрыгин и показывает миг за мигом часы, когда человечеству наконец-то удалось это: вырвать «то, что уж ей отдано».
Я подошел к одному из эскизов, увидел мерцающие, соединенные таинственным лучом фигуры мужчины и женщины, и в сердце моем ожили лермонтовские строки о тех двух, что «любили друг друга так долго и нежно, с тоской глубокой и страстью безумно мятежной», но как враги избегали встречи при жизни, а умерев, за гробом, «в мире новом» не узнали друг друга. И я подумал: не их ли и изобразил Чекрыгин в момент воскресения и трагического неузнавания?
Раньше я не видел работ этого художника, никогда о нем ничего не читал. А тут еще это лермонтовское лицо! Вот потому, наверное, и мое первое восприятие Чекрыгина было чисто лермонтовским, но чем больше я углублялся в чекрыгинский мир, тем сильнее ощущал его совершенно самостоятельную мощь, хотя и к Лермонтову – стоило мне посмотреть на его автопортрет – возвращался опять и опять…
Цикл «Воскресение» создан Чекрыгиным в самые первые послереволюционные годы, в этом цикле мощно пульсирует умонастроение революционной эпохи, освободившей человека от социального рабства, породившей великие мечты о торжестве человеческого разума и над стихийными космическими силами. В работе художника тот же пафос утверждения могущества человеческих масс, одушевленных великой идеей, что и в революционных стихах Маяковского. Они и были, как я узнал потом, старыми, несмотря на молодость обоих, добрыми товарищами: Маяковский и Чекрыгин. Их объединяли и революционные настроения, и общность художнического восприятия мира.
Они занимались одновременно в одном и том же классе, в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. По воспоминаниям их одноклассников, Чекрыгин был одним из весьма немногих мальчиков, которому Маяковский позволял по отношению к себе шутки и даже небольшие дерзости. Маяковский (он был старше Чекрыгина на четыре года) относился к юному художнику любовно, покровительственно, защищал его, когда задиристый Чекрыгин возмущал окружавших мальчишеской резкостью суждений об искусстве. Чекрыгин же, пылко любивший Маяковского, помог ему однажды в издании кустарной литографической книги, он переписал ее и иллюстрировал, она была выпущена тиражом в триста экземпляров в маленькой литографии у Никольских ворот…
Мальчик, которому Маяковский разрешал дерзить, а потом поручил переписать и иллюстрировать стихи, был, как пишет в воспоминаниях один из его одноклассников, «обладателем неведомых сокровищ, достоверность которых окружающими явственно не ощущалась». Видимо, Маяковский и был одним из немногих, кто отчетливо чувствовал, хорошо понимал заключенные в мальчике Чекрыгине сокровища.
Семнадцатилетним юношей Чекрыгин, чтобы увидеть мир и работы старых мастеров, уезжает с товарищем в Варшаву, потом в Мюнхен, в Вену, в Париж…
Он странствует, подобно молодым живописцам и ученым Возрождения, часами выстаивает перед полотнами Джотто, Тинторетто, Леонардо, ходит с гордо поднятой непокрытой головой по Парижу, потом едет на берег Атлантического океана, карабкаясь по почти отвесным утесам, ступает на несколько минут на испанскую землю, давшую миру Греко и Веласкеса. Началась первая мировая война – Чекрыгин и его товарищ через Лондон возвращаются в Россию. В Лондонском музее он видит полотна Чимабуэ и камни Парфенона…
В России Чекрыгин надевает солдатскую шинель, участвует в боях, потом, после революции, работает по охране художественных памятников в Москве, уходит опять в армию – на этот раз революционную.
Сокровища, заключенные в Чекрыгине, из тайных, ощутимых лишь немногими, стали явными в первые послереволюционные годы.
Чекрыгин родился накануне XX века (даты его недолгой жизни: 1897–1922 гг.), он был художником-мыслителем, человеком обостренного «чувства эпохи», он нес в себе этот век, был насыщен его болью, жил в ожидании великих катастроф и великих рождений, жаждал нового мира.
Художники переломных эпох – люди трагического мировосприятия. Сердце раскалывается часто, подобно веку, и нелегко бывает выбрать самую дорогую из двух половинок. Чекрыгин вошел в мир, когда менялись не эпохи, а эры, его восприятие действительности было трагическим на редкость, но сердце – нерасколотым. Ему, как и Маяковскому, не нужно было выбирать, он с самого начала чувствовал себя человеком новой эры, он жил не трагедией крушения старого мира, а более величественной и суровой трагедией рождения новой действительности. Его рисунки, эскизы, композиции дышали трагической красотой бытия – вечно потухающего и вечно воспламеняющегося огня. Отблески этого огня в величайший час истории мира ему и хотелось поймать.
И понятно, почему он любил Тинторетто, выстаивал часами перед его полотнами в Лувре, часто потом писал вариации на его темы. Рассказывают, что за день до трагической гибели он задумал рисунки, вольно излагающие картину Тинторетто «Рождение Млечного Пути».
Полотна художника, желает он того или нет, выражают господствующее в его эпоху мироощущение. Если мироощущение это уже народилось и даже устоялось, они радуют гармонией, соразмерностью, уравновешенностью (высокое искусство античности, искусство Рафаэля, Тициана), но когда художник работает в эпоху мироощущения нарождающегося, его полотна бывают полны беспокойства, мир утрачивает соразмерность, уравновешенность частей и даже будто бы отчетливость форм, кажется, он увиден не с надежной суши, а с палубы корабля. Но утрачивая, он и обогащается – ощущением бесконечности. Вот именно это – нарушение равновесия, беспокойство, головокружительный вихрь, бесконечность – ощутимо в картинах Тинторетто, который был последним художником итальянского Возрождения и первым великим художником новой эпохи – эпохи обновляющей облик земли научно-технической революции, убыстряющегося непрерывно ритма жизни, исполинских городов, гигантских человеческих масс и катастрофы «старого доброго» традиционного гуманизма. Но от этой катастрофы Тинторетто был отдален веками, он с резкой обостренностью ощущал лишь начало великих перемен: при нем ликовал век инквизиции и костров, однако и самые вещие из «колдунов», которых осуждали на казнь за общение с дьяволом, не могли бы вообразить Хиросимы.
На одном из безумных костров, когда Тинторетто уже не было в живых, сожгли Джордано Бруно, его соотечественника и современника. Тинторетто художнически чувствовал то, о чем размышлял философ-еретик: бесконечность космоса, ничтожество и величие человека. Один из любимых сюжетов Тинторетто – лестница с устремленными вверх, охваченными беспокойством человеческими фигурами. Образ восходящего бытия?.. Джордано Бруно думал часто о том, что люди, устремившись к солнцу, будут подобны божествам. В героях Тинторетто чувствуется лихорадочное возбуждение, они живут в патетическом ожидании чего-то. Вокруг корабля расстилается таинственная, полная неожиданностей бесконечность… Но она же и надкораблем и, может быть, там особенно величественна и желанна. Чекрыгин был первым художником, почувствовавшим реальное наступление космической эпохи, потому-то и волновал его Тинторетто. Но тогда, в век Тинторетто, мысль о равных божествам, поднявшихся к солнцу людях казалась кощунственной мечтой, для Чекрыгина же она была осуществимой реальностью. Он был современником Циолковского.
Решающую роль в рождении у Чекрыгина «космического сознания» сыграла революция. Он верил, что за социальным раскрепощением человека наступит и раскрепощение от «земных уз». В двадцатом году он работает над эскизами к композиции «Революция» и композиции «Восстание» – их образы уже родственны позднейшему «Воскресению»: люди, участвуя в исполинском деянии, испытывают полноту человеческой общности и черпают в ней физические и нравственные силы.
(В сущности, «Воскресение» Чекрыгина – тоже восстание, восстание человека, подчиняющего себе стихийные силы космоса.)
Он пишет головы рабов, воинов, Степана Разина, цикл эскизов к композиции «Расстрел» и опять, опять возвращается к теме восстания, вводя в рисунки детей. Один из эскизов к композиции «Восстание» – а по художественной ценности – самостоятельный рисунок – голова мальчишки с развевающимися волосами, лицом одухотворенным и нежным, это дитя баррикад, юное, чудное, бесстрашное существо, не боящееся ни пуль, ни конских копыт. Не жил ли этот ребенок в самом Чекрыгине до последнего часа? Когда рассматриваешь его композицию «Воскресение», кажется что она написана восставшим ребенком. Над этим циклом – он и потряс меня человечностью и богатством фантазии при первом посещении выставки – Чекрыгин работал в состоянии величайшего духовного подъема. Идея воскрешения минувших поколений, заселения ими небесных тел, идея очеловечивания, одухотворения космоса овладела полностью его умом и сердцем. Он был увлечен ею и как революционер, человек восстания (не есть ли воскресение самое фантастическое по дерзновению и мощи из восстаний?!), и как художник, человек искусства (творчество живого не выше ли создания подобий, даже гениальных?).
Работать над циклом «Воскресение» Чекрыгин начал после ознакомления с сочинениями Николая Федоровича Федорова, чьи мысли, чья личность сыграли исключительную роль в духовном развитии молодого художника.
Федоров был одним из интереснейших русских людей второй половины XIX века. В десятилетия, когда идея межпланетных, межзвездных путешествий не занимала даже умы фантастов, он, безвестный библиотекарь Румянцевского музея в Москве, размышлял о ней возвышенно и трезво, изредка выступал в малоизвестных изданиях, но чаще оставлял эти раздумья в рукописях. Он верил в могущество науки, печалился, что оно попало в услужение к капитализму: он радовался, как ребенок, когда узнал, что пушечные ядра могут вызвать искусственный дождь и тем самым отвести угрозу голода от засушливых земель; он не находил себе покоя при мысли, что пушки в руках «жадных до золота капиталистов» остаются орудием убийства, а не делаются «орудиями метеорологической регуляции».
В Федорове сочетались мудрость и наивность. Он верил в наступление космической эры, вынашивал исполинский замысел воскрешения минувших поколений и заселения ими космических тел, мечтал о царстве не мысли, а дела, в котором уже не сущее, ставшее лишь воспоминанием, опять будет сущим, само воскрешение понимал как совершенно реальное действие, которое станет достижимым, когда человек постигнет таинственную глубь вещества, не сомневался, что этому будут содействовать все науки и все искусства, уже видел в воображении совокупность миров, состоящую из последовательного ряда воскрешенных поколений… И одновременно не понимал, что «космическое восстание» совершенно нереально без и до восстания социального, отнимающего пушки у царских генералов и фабрикантов, отдающего оружие истребления делу мира.
Скромный библиотекарь Румянцевского музея был убежден, что именно Россия откроет в истории человечества космическую эру, что именно она обратит силой науки «бессознательную, слепую мощь», носящую в себе голод и язвы, в животворящую, воссоздающую. Он страстно писал, что миром, космосом управляет сегодня разум, беспощадный к человеку, за что Федорова лет триста назад без колебаний инквизиция послала бы на костер, он еретически настаивал на том, что человек из созерцателя должен обратиться в делателя, не воспевать, а строить небо, мироздание.
Наивность Федорова чувствовалась и в его чисто натуралистическом понимании воскрешения мертвых (физически, телесно, из земли), но образы философа обладали большой метафорической, художественной силой, сама их наивность радостно возбуждала живую детскую фантазию Чекрыгина.
Было бы несправедливостью, конечно, утверждать, что мысли и образы Федорова несли в себе обаяние, покоряющую силу лишь для художнических, наделенных избытком воображения натур. Сильное воздействие идей библиотекаря Румянцевского музея испытал на себе и К. Э. Циолковский. Лично я в первый раз узнал о Николае Федоровиче Федорове из жизнеописания Циолковского. Это он заметил в библиотеке любознательного юношу, начал посылать ему и те книги, которые тот не заказывал (чем вообще отличался Федоров, любивший особенной, нежной любовью постоянных посетителей и часто покупавший на собственные деньги то, что было им нужно и чего не оказывалось в книгохранилище). Из жизнеописания Циолковского я узнал и об облике Н. Ф. Федорова.
Циолковский позднее не раз писал о Федорове с любовью и нежностью. «Безумные», казавшиеся тогда совершенно несбыточными идеи Федорова, мечтавшего о полетах человека в космос, воодушевляли Циолковского в его поисках. Фантастика воплощалась в явственные чертежи, в осязаемые модели, в емкие формулы, чтобы потом, когда Россия действительно открыла в истории человечества космическую эру, стать земной и обыкновенной в обаянии Гагарина [5]5
Пятый том «Философской энциклопедии» отмечает, что идеи Н. Ф. Федорова, почти неизвестные при его жизни, вызывали особый интерес у таких людей, как В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский (к Федорову восходит замысел «Братьев Карамазовых»). «Философская энциклопедия» характеризует Н. Ф. Федорова как религиозного мыслителя-утописта, в идеях которого соединились подспудные духовные течения в русском крестьянстве и ряд антицерковных устремлений, а также наивная беспредельная вера шестидесятника-разночинца в спасающую силу техники. Советские философы, критикуя Федорова за мистицизм его чаяний, в то же время подчеркивают жизнеутверждающий оптимизм этого мыслителя, его беспредельную веру в возможность переустройства мира. Само собой разумеется, что к идее телесного воскрешения поколений можно сегодня относиться лишь как к игре фантазии, грандиозной метафоре.
[Закрыть].
Фантастические образы Федорова воплотились и в рисунки Чекрыгина, бесспорно первого художника космической эры. Общность людей, их единство и родство, без которых невозможно осуществить исполинский замысел одухотворения космоса, рождались для Чекрыгина в социальной революции. Поэтому цикл «Восстание» переходит совершенно естественно в цикл «Воскресение». Ведь не только воскресение – восстание, но и восстание – тоже воскресение: угнетенных до поры духовных, нравственных сил человека. Чтобы объединить живущих для воскресения умерших, надо уничтожить между ними неравенство. Это Чекрыгин понимал отлично. Его Стенька Разин имеет не меньшее отношение к воскрешению поколений, чем гениальные ученые и художники будущего. Разин жил, боролся и умер на лобном месте во имя той полноты родства, без которой немыслима подвижническая работа, возвращающая из земли в живой мир умершие поколения. Говорил же даже политически наивный Федоров о том, что только немыслящие люди полагают: при существовании несчастного человека может быть бессмертие. Захочет ли он бессмертия в несчастном мире?!








