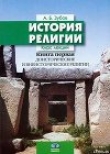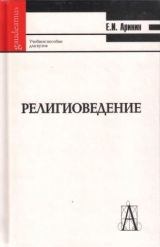
Текст книги "Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов]"
Автор книги: Евгений Аринин
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
В этой связи соотношение теологии и религиоведения на «метаеретическом» («метафилософском» и «метатеологическом») уровне остается полем фундаментальных дискуссий о природе человека и бытия в современном обществе, разделенном на индивидов, признающих себя верующими или неверующими. Научное религиоведение ищет нетеологический «метаязык» для обобщения материала, который может быть либо антропологическим (атеистическим), либо теистическим (в смысле философско-теистическим, немиссионерским, неконфессиональным, неапологетическим в обычном смысле), либо феноменологическим. Последний стремится описать феномен религии в чистом виде, по ту сторону от мировоззренческой оппозиции теизма и атеизма (как двух форм заинтересованности), в терминах предельно фундаментальной непредвзятости. В этой связи феноменологический подход, с одной стороны, критикуется за эклектичность убежденными адептами теизма и атеизма, тогда как, с другой, он ведет к допущению многоаспектности одновременного видения реальности, к признанию взаимообусловленности противостоящих позиций в открытом исследовании истины и утверждению перспективы для содержательного диалога мировоззрений, конфессий и науки{103}. Необходимость преодоления конфронтации церквей, конфессий и светской культуры, в том числе и религиоведческой науки, сегодня еще далеко не для всех очевидна. Вместе с тем понятно, что «религиозные организаций вносят значительный вклад в формирование духовно-нравственного фундамента российского общества»{104}, и, следовательно, общие усилия ученых и богословов могут способствовать преодолению нарастания негативных тенденции современного развития. Ясно и то, что проблема носит фундаментальный характер глобального противостояния в современной культуре теизма и секуляризма, пристрастности и беспристрастия.
Таким образом, с одной стороны, имеется тенденция понимать под «религией» только христианство или социальные феномены, имеющие сходство с историческим христианством, причем это сходство может заходить очень далеко, вплоть до предельно широкого отнесения светского атеизма и мифологии к категории «религии». С другой же стороны, само историческое христианство может не считаться «религией», причиной чего выступают отчужденность и догматичность его теологии, моральное несовершенство его адептов или целостное «отпадение» исторической Церкви от внеисторической «народной теологии космического христианства».
Религией может считаться и «вера» – феномен сугубо внутренней устремленности личности к Сакральному, и «Церковь» – феномен объективной социальной системы, и единство субъективного и объективного, «встреча» индивида с проявлениями Сакрального. Религия «необходимо возникает в ходе объективного процесса становления человека, общества, человечества»{105}, она есть нечто надличное, историко-социальное, и, в то же время, она возникает, воспроизводится и развивается только в форме убеждений и поступков отдельных личностей, выступающих как ее адепты, носители и преобразователи, «религия всегда непосредственно связана с индивидом, всегда выступает в личной форме»{106}.
Религия выступает и как множество социальных феноменов, предметов исследования, от «лечебной магии» до «тринитарной теологии», и как некоторая целостность, универсальный автономный феномен, предполагаемый самим существованием общего понятия «религия» и требующий общей, универсальной теории. Складывается противостояние между давно разрабатываемым пониманием религиоведения прежде всего как индуктивной «истории религии», ориентированной на тщательное описание и концептуальный «эволюционизм», с одной стороны, и как герменевтически ориентированной внеисторической дедуктивной «философией религии», с другой{107}.
Объективная сложность и методологическая неразработанность общего понятия «религии» приводит к признанию ее «сложным», «многоуровневым», «многомерным», «системным» образованием, не сводимым ни к одному из своих аспектов{108}. Выход видится в разработке многоаспектного, междисциплинарного подхода, где «частичные подходы, концентрирующиеся на какой-то одной постановке вопроса, должны были бы дополнять друг друга и обеспечивать объемное приближение к предмету»{109}. Системность, однако, сама по себе еще не является критерием религии как таковой, понимание религии как системы само предполагает определенное представление о религии как таковой, отличающее ее от систем иной природы – мифологии, философии, науки или искусства.
На перспективность поиска глубинного системного единства в многообразии измерений и характеристик религии указывает И.Н. Яблоков, подчеркивающий непродуктивность построения индуктивистских родовидовых дефиниций понятия «религия». Религия в этом случае выступает уже не как то или иное сходство эмпирических социальных явлений, но как фундаментальное основание, из которого может быть дедуцировано все индуктивно описанное многообразие эмпирической религиозности. В этом аспекте в задачи теоретического религиоведения входит необходимость «показать, как религия являет себя в этих ипостасях»{110}.
Стремление постичь единство, стоящее за многообразием частных форм индивидуальной и групповой религиозности, проявлялось еще в Античности. Так, Ксенофан из Колонфа размышлял о единой субстанциональной основе, Боге-Небе, скрытом за многообразием традиционных мифологических представлений о сакральном, тогда как для софистов это единство виделось только в функциональной «практической полезности» верований.
Христианство, как отмечал один из провозвестников экуменизма, французский историк христианства, католический аббат, перешедший в православие, В. Гетте, исходит из веры в то, что «в мире всегда была только одна религия, источником ее Бог. Все религии состоят по началу своему и по основам вероучения в связи с этой единственной и откровенной религией»{111}. Он в этой связи называет все земные учения «посюсторонними», только приблизительно соответствующими своему единственному прообразу истинной религии как таковой. Современные исследователи часто видят единство всех религий в имманентном личности стремлении к Сакральному, Трансцендентному, Абсолютному, Единому, Высшему, или в объективной встрече личности с теофаниями Сакрального.
Диалог адептов конфессий и неконфессиональных мировоззрений о едином, подлинном и главном приобретает сегодня значимость фундаментального условия преодоления глобального культурного кризиса, смены мироориентаций, переосмысления основных гносеологических аспектов научного познания, перехода к «холистской», «экологической», «диалоговой» социальной парадигме, к концепции «экологии духа» или «экологии культуры» как основы для сохранения «экологии природы»{112}. Духовности в глобальном масштабе сегодня противостоят обездушенность разрушительного утилитаризма и фанатичность бездуховного обскурантизма, отделяющихся от универсализма традиции и гуманизма, от интереса к вечным духовно-нравственным, «конечным», предельным вопросам бытия. Религиоведение призвано выявить универсальные методологические основания для решения сложных проблем личного и социального бытия человека в мире.
1.2. Проблематичность европоцентризма
Проблема выявления основополагающих принципов. постижения сущности религиозных феноменов, поставленная в Европе в Новое время, впервые стала теоретически осмысливаться Спинозой, которого некоторые исследователи считают «отцом» философского религиоведения{113}. Другие исследователи «отцом» философии религии считают Гегеля, создавшего грандиозное теоретическое учение о развитии Мирового Духа, в котором он смог «изобразить в их взаимной связи все стороны религиозной проблемы», чем «окончательно выяснил для науки о религии ее задачу»{114}.
Согласно Гегелю, философия и религия – одно и то же проявление Мирового Духа в объективной и субъективной формах, обе они – «служение Богу», различающееся только своими методами, но не предметом осмысления{115}. Конкретные «определенные религии, правда, не составляют нашей религии, но в качестве существенных, хотя и подчиненных моментов... они содержатся и в нашей религии. Следовательно, мы видим в них не чужое, а наше, и понимание этого заключает в себе примирение истинной религии с ложной»{116}. Так Гегель снимает сущностную оппозицию «религии» и «псевдорелигии» как «своей» и «чужой» веры.
Он выделил три типологические формы религии – естественную, абстрактную и откровенную. При этом первые две в строгом смысле «вообще еще нельзя считать религией, и Бог еще не познан в них в своей истинности», подлинной же религией выступает христианство{117}. Все формы содержат два момента: объективные и субъективные особенности понимания Абсолюта, причем между ними имеется прямая взаимосвязь – представления человека о Боге соответствуют «его представлению о себе, своей свободе»{118}. Тем самым утверждается преемственность и своеобразие социально-культурных форм религиозности, или отношения «духа» к «Духу».
Гегель развивает и высказанную Шеллингом идею о субстратном, процессуальном и субстанциональном этапах и уровнях понимания сущности явлений бытия{119}. Эвристичность данного методологического подхода прослеживается в современном системном подходе, в естественных и гуманитарных науках, оставаясь относительно неосвоенной в религиоведении, которое в этом контексте может быть рассмотрено как частная сфера, где общие закономерности проявляются в конкретной форме{120}. Речь не идет о том, чтобы механически «внести» данные принципы в религиоведческий «материал» или «навязать» религиоведению внешнюю для него абстрактную и умозрительную категориальную систему. На протяжении всей истории развития теологии, философии и религиоведения обсуждаются проблемы «сущности», «элементов», «функций» и «субстанции» религии. Религиоведение само выступает как органичный элемент развития духовной культуры, – как форма разрешения фундаментальных категориальных апорий, в которых осмысливается бытие человека в мире, преемственно связанная, как это будет показано ниже, с проблематикой и категориальным аппаратом философии Нового времени, а также с теологией Средневековья и мифологией Античности.
Одновременно с гегелевской философией религии утверждается позитивистская антропология, этнография и социология, стремящиеся уйти от той или иной «апологетики» христианства к предельно беспристрастному компаративизму – сравнительному исследованию феноменов социальной реальности. О. Конт развивает эволюционное понимание религии как функции (или, точнее, дисфункции) познавательной деятельности человека в истории общества. Религия, «теологическая» стадия развития мышления, возникает как антропоморфные представления о причинах явлений наблюдаемой действительности{121}.
Поддерживая просвещенческое сущностное противопоставление познания и религии как «функции» и «дисфункции», О. Конт одновременно и снимает его, отмечая исторический, соотносительный характер познавательной функции как таковой и, по словам К. Леви-Стросса, подчеркивая, что «суеверия, даже те, что сегодня нам кажутся наиболее абсурдными... изначально обладали прогрессивным философским характером...»{122}. Тем самым снималась традиционная оппозиция христианства и архаики, «религии» и «языческого суеверия», выделялись сходство и особенности функционирования в социуме философии, теологии и мифа. Компаративистская методология стала основой как для сравнительной филологии М. Мюллера, которого большинство исследователей признают основоположником собственно научного, сравнительного религиоведения{123}, так и для эволюционистской этнографии Э. Тайлора и Дж. Фрэзера.
Если М. Мюллер еще называл общую науку о религии «сравнительной и теоретической теологией»{124}, то последующие исследователи противопоставляют религиоведение и теологию{125}. Первоначально религиоведение стремилось выявить фундаментальные неизменные основания, «сущность», «элементы», «корни», присущие каждой религии. Так, М. Мюллер пишет о «корне» религии как способности постигать Бесконечное, лежащей в основании более поздних и формальных «символов веры», внешней оболочки религии, об «элементах естественной религии», включенных как в высшие, «чистые», «откровенные», так и в низшие, «идолопоклоннические», «испорченные» религии{126}. «Элементы религии» выявляют Э. Тайлор, К. Тиле, Дж. Фрэзер и многие другие{127}.
Если первоначально эти статичные признаки, элементы непосредственно отождествляются с сущностью религии, основанием ее проявлений, то для К. Тиле, У. Робертсон-Смита и Р. Маретта, автора теории «динамизма», или «преанимизма», этими основаниями было уже нечто «неэлементное», «нестатичное» – «жизнь человеческого духа как целостности», «поведение», «ритуал», «мана», сила, процесс, деятельность, функционирование, активность как таковые{128}. У. Робертсон-Смит противопоставляет традиционному пониманию религии как «доктрины», системы убеждений, из которых вытекают действия (культы), свою, противоположную, где именно культ, функционирование, деятельность являются первичными{129}. В работах Э. Дюркгейма утверждается, что элементарной формой религии являются не сами по себе некоторые признаки, свойства, не сами по себе некоторые функции, процессы, действия, но их целостная система – «Церковь-тотем». Тем самым происходило развитие самого понимания «элементарности» в религиоведении от элементов-признаков к элементам-функциям и, наконец, к элементарной целостной системе признаков и функций.
Развивается и понимание религиоведческой методологии. Историки, филологи и этнографы опирались на тщательное описание и накопление фактического материала, выступавшего объективным и надежным основанием для теоретических выводов. Этнографы объясняли факты через их осмысление в качестве адаптивных, полезных и в этом смысле истинных, познавательных верований и действий для выживания социума. Б. Малиновским обосновывается собственно «функциональный подход» к пониманию религии, в свете которого религия начинает рассматриваться не со стороны ее познавательного содержания, которое после работ О. Конта считалось адаптивным, а со стороны ее функций в социальной системе. А. Радклифф-Браун указывал, что «социальная функция религии не зависит от ее истинности или ложности, что религии, которые мы считаем ошибочными или даже абсурдными, могут быть частями социального механизма и что без этих ложных религий социальная эволюция и развитие цивилизации невозможны»{130}.
К. Леви-Стросс, один из крупнейших представителей структуралистского понимания религии, утверждающего, что в основании системной динамики религиозных феноменов лежат фундаментальные «структуры», системы оппозиций, приводит пример с описанной Р. Линтоном дивизией «Радуга», созданной в период Первой мировой войны и случайно получившей это наименование. Линтон показывает, что за несколько месяцев:
«1) произошло разделение на группы, осознающие свою индивидуальность,
2) каждая группа стала именоваться по названию животного, предмета или явления природы и
3) использовать это название в переговорах с чужими,
4) появились изображения своей эмблемы на коллективном оружии и на транспортных средствах, либо в качестве личного украшения, одновременно был установлен запрет на употребление ее другими группами,
5) установилось почитание „патрона“ и его изобразительного воспроизведения,
6) укрепилась вера в его защитительную роль и его значимость в качестве предзнаменования»{131}.
Прямо на глазах исследователя из социального, «мирского» отношения – искусственно созданной военной группировки – появилась своего рода «религия», сходная с тотемизмом. Сущность религии, ее элементарный минимум здесь понимается как универсальное интерсубъектное социальное отношение, способное порождать системные «религиозные» феномены. Последние являются «функцией» безличной структуры{132}. Тем самым структуральное утверждается как сущностное, а религиозное – как феноменальное.
Т. Парсонс устанавливает функциональные различия между «религией», «наукой», «идеологией» и «философией». Религия выступает как система веровании «не-эмпирическая и ценностная», в отличие от науки, «эмпирической и неценностной». Им противостоят идеология как «эмпирическая и ценностная» и философия как «не-эмпирическая и не-ценностная» системы взглядов{133}.
Очевидно, что такие различия оказываются корректными только в отношении статично рассматриваемого современного «западного общества». Термин «религия» в Данном понимании оказывается чрезмерно зауженным и неприменим уже к христианству Средних веков, да и магия не может считаться религиозным феноменом.
От социологического функционализма, который понимает религию как реакцию индивида на интеграцию в обществе, как пассивное приспособление, адаптацию, необходимо отличать онтологический, философский функционализм. Так, Л. Фейербах считает религию продуктом активного, имманентного функционирования самоопределяющейся личности. Для него христианство выступало как функция отчуждения человеческой сущности, выражающая ощущение раздробленности этой сущности в наличных человеческих отношениях{134}. Конфессиональная и неконфессиональная религиозность в этом случае выступает как проявление самоутверждающейся человеческой целостности, соответственно и исследование религии совпадает с исследованием функционирования и дисфункционирования человека{135}. Существо христианской веры – отношение «духа» к «Духу» – здесь виделось абстракцией дисфункции земных, межличностных отношений, отношений «духа» и «Духа». К. Маркс трактует религию как аспект экономического функционирования общества, при этом ее функциональность или дисфункциональность определяется конкретной ситуацией.
В XX веке антрополого-натуралистическое понимание религии продолжал развивать З. Фрейд, который отмечал, что «религиозные представления суть тезисы, высказанные о фактах и обстоятельствах внешней (или внутренней) реальности, обобщающих нечто такое, чего мы сами не обнаруживаем и что требует веры», повествуя о «самом важном и интересном в нашей жизни»{136}.
Религиозные представления, «выдавая себя за знание ...не являются подытоживанием опыта или конечным результатом мысли, это иллюзий реализации самых древних, самых сильных, самых настойчивых желаний человечества, тайна их силы кроется в силе этих желаний»{137}. Иллюзия «необязательно должна быть ложной, то есть нереализуемой или противоречащей реальности... Мы называем веру иллюзией, когда к ее мотивировке примешано исполнение желания, и отвлекаемся при этом от ее отношения к действительности, точно так же, как и сама иллюзия отказывается от своего подтверждения»{138}. Религия выступает функцией врожденных бессознательных характеристик индивида, которые могут оказаться в социальной «действительности» как функциональными, так и дисфункциональными.
Натуралистична и современная социобиология Э. Уилсона, заявленная как «новый синтез», как систематическое выяснение биологической основы всех форм социального поведения, в том числе и религиозного. Религия в этой концепции предстает как «неотения», феномен «омоложения вида», так как давно «замечено, что организм взрослого человека имеет некоторые черты, свойственные обезьяне, еще не достигшей зрелости». Проекция этих анатомо-физиологических признаков на психику человека приводит автора к выводу, что «человек до конца жизни не становится полностью взрослым», нуждаясь помимо сексуального партнера еще и в «персонаже, играющем по отношению к нему ту роль, которую в детстве играли родители»{139}.
Проект создания позитивистской «универсальной науки», охватывающей как естественные, так и гуманитарные исследования, оказался неосуществим{140}, однако его продолжением стали исследования лингвистической философии, для которой религия, как и мифология, философия, наука и искусство, – это прежде всего коммуникативное функционирование символических систем, «языков», «языковых игр», всегда лишь относительно «истинных», «общепризнанных», «универсальных».
Тенденция к отказу от универсализма единого описания и объяснения всех форм религиозности не означает отказа от самой возможности поисков иных форм универсализма. Она свидетельствует об осознании трудностей такого обобщения и необходимости дальнейшего исследования конкретных явлений и совершенствования средств их описания, терминологического аппарата. Последний, согласно Л. Витгенштейну, выступает «скорее в качестве полезного руководства для движения,от одной обычной истины к другой, нежели в качестве средства исследования трансцендентного мира истин особого рода»{141}. Лингвистический анализ стремится максимально отстраниться от онтологического содержания терминов, предельно сосредоточившись на их коммуникативном функционировании.
А.Д. Айер подчеркивает отличие аналитического подхода от атеизма и агностицизма. «С точки зрения агностика, существование Бога есть возможность, в которую нет серьезной причины ни веровать, ни не веровать; а атеист считает по крайней мере вероятным, что никакого Бога нет. И наша точка зрения, что все высказывания о природе Бога бессмысленны, не только не тождественна этим известным взглядам и не поддерживает их, но Просто с ними несовместима. ...теист... вообще ничего не говорит о мире, его нельзя обвинить в том, что он говорит что-то ложное или что-то такое, для чего у него нет достаточно оснований. ...считается, что Бог выше эмпирического мира и потому находится вне его; он наделен сверхэмпирическими атрибутами. У нас может быть слово, которое употребляется так, как если бы оно именовало эту „личность“, но пока предложения, в которых оно встречается, не выражают эмпирически проверяемых суждений, о нем нельзя сказать, что оно что-либо символизирует»{142}.
В этом смысле нередко противопоставляют науку как единственно содержательное «знание» религии как невежественным «суевериям» или бессодержательной в научном смысле «вере». Г. Керер подчеркивает, что если предметом «теологии является самообнаружение Бога в мире, откровение», то «предметом всех нетеологических наук, исследующих религию, – действия людей, вызванные представлениями о Боге и откровении». В этой связи он отказывается считать научными те «религиоведческие исследования, в которых присутствуют категории „святое“, „встреча со священным“ и т. п.», ибо они «неизбежно теряют эмпирическую основу»{143}.
Исследования по истории науки показали, что понятия «реальности», «знания», «естественности», «действительности», «истины», как и «физичности», «объективности» имеют исторический характер, постепенно изменяясь с развитием науки и в этом смысле сами являясь функциями достигнутого наукой общего уровня понимания действительности. Так, к примеру, физики XVII века верили в существование «флюидов» тепла, электричества и т. п., понятие о которых оказалось результатом ошибочных гипотез о сверхъестественных объектах. С другой стороны, сообщения о метеоритах или наскальной живописи в свое время считались вымыслом, ибо они не вписывались в сложившиеся представления о «естественном»{144}. Понятия же «сверхъестественного», «Сакрального» изначально ориентированы на противопоставление всему действительному как «обыденному», «видимому», «чувственному», «мирскому» и «посюстороннему» и как таковые в принципе не могут быть предметом научного исследования, как, впрочем, и категории «бытия», «первоначала», «субстанции», «структуры», «основания». Наука, однако, исследует объекты, наделяемые сакральным, сверхъестественным значением в той или иной культуре, так, к примеру, возможен научный анализ «святой воды», настойки из корня женьшеня, их состава, особенных характеристик и физиологического действия.
В семиотике выделяют денотатное (дешифрующее, эмпирическое) и коннотатное (интерпретативное, смысловое) содержание значения термина{145}. Семиотика подчеркивает в религии ее смысловую специфику, рассматриваемую вне генезиса, вне отношения с мифом и наукой, когда религия представляется как «символическая», «коммуникативная» данность, как «вечный», внеисторический феномен, подобный в этом аспекте науке, философии, правосознанию, этике и т. п. Этот феномен в XIX веке понимался как «вера в сверхъестественное», а с начала XX века стало утверждаться более общее определение религии как «переживания Сакрального», существующего в формах духов, героев, богов, сверхъестественного. Абсолютного, Трансцендентного и т. п.{146}
Религия выступает как особая коммуникативная система, отличающаяся от феномена науки своим отношением к категориям существования и реальности. Семантический аспект исследовался феноменологией, которая стремится за явлениями, феноменами найти их собственное содержание, особое значение, несводимое к другим сферам бытия. Н. Смарт, вслед за Э. Гуссерлем, писал, что следует различать «объекты, которые реальны и объекты, которые существуют. В этом смысле Бог является реальным для христиан, независимо от того, существует он или нет»{147}. Религия исследует «реальное», а наука – «существующее». Близким видится и подход В. Дильтея – основателя современной герменевтики. Для него характерно отделять «религиозные мировоззрения, сущность которых заключается в том, что отношение к незримому определяет собой понимание действительности, оценку жизни и практические идеалы», от науки, которая направленной на «видимое»{148}.
С таких позиций различие научной философии и теологии как рационализированного религиозного учения видится со стороны их веры или установки на особый предмет: «только теология основывается на действительном существовании предмета, который, выражаясь осторожно, удаляется при каждом приближении человека»{149}. Специфика науки в таком соотношении выступает как «сциентизм»{150}.
Сциентизм смешивает «объективность» и «актуализм», сводя феномены иных эпох и территорий к стандартам современных культурных форм жизни ученого-европейца. К. Леви-Стросс в этой связи отмечает, что «ученые под прикрытием научной объективности бессознательно стремились представить изучаемых людей – шла ли речь о психических болезнях или о так называемых „первобытных людях“ – более специфическими, чем они есть на самом деле...»{151}, радикально разделяя термины, исследователь подвергается опасности не понять их генезиса. Кажущееся самоочевидным сегодня противопоставление науки и религии нуждается в более глубоком осмыслении соотношения знания и веры.
Э. Жильсон обратил внимание на результаты позитивистской политики утверждения тотальной «конфессиональной нейтральности» преподавания философии, когда «оберегая свою философскую мысль от любого религиозного заражения», начинали видеть «скрытую пропаганду» уже в самом факте преподавания истории средневековой философии{152}. Он, однако, не занимается критикой «научности» ради апологии «теологичности», отмечая, что и теология может стать «настоящим бедствием», приводящим к «непоправимым» последствиям, заражая людей духом «войны против всех», конфронтационной жаждой «торжествующих опровержений», когда иная позиция просто объявляется «безумием»{153}.
«Научная» цензура превратила философию в «продукт разложения контизма», который «ограничивался утверждением, как чего-то само собой разумеющегося, что помимо наук не существует никаких иных форм знания, достойных этого названия»{154}. История философии выступала в препарированном, предвзятом и «ампутированном» от теологии виде вплоть до толкований творчества и самого Конта, стремившегося, по его собственным словам, «сначала стать Аристотелем, чтобы затем превратиться в апостола Павла», но «сведенного» к «сущим пустякам» его последователями{155}. Такой «инквизиции позитивистов» Жильсон противопоставляет подлинно свободные образование и политику, которые опираются не на априорность теистической или атеистической веры, но на априорность права личности к свободному духовному самоопределению.
К. Барт видит в основе безличного и беспристрастного знания, науки и объективизма вообще глубоко личностные «страсть» («страсть к ампутации творца», к обезличиванию, к «упразднению персонифицированного начала», к «абсолютному обезволиванию исторического процесса») и «страх» («суеверный страх перед миром духа», неподчиняемого механическому и силовому принуждению, всегда характерному для дехристианизации){156}. К. Поппер именует научный объективизм «эссенциализмом», или полаганием стоящей «заявлениями» объективной сущности, основой чего он тоже видит «страх и стремление избежать осознания того, что мы несем полную ответственность даже за те образцы, которые выбираем для подражания»{157}. Научно-объективное здесь выступает как форма, проявление эмоционально-субъективного, принимаемого за сущностное, абсолютное.
Р.С. Джонс пишет, что «физическая наука – метафора, при помощи которой ученый, подобно поэту, создает и расширяет смысл и ценности ради понимания и целесообразности», что основные физические категории – «это уход от смерти», от хаоса и разрушения{158}. Тем самым утверждается возможность рассмотрения науки только как особого рода установки сознания и особой системы символизации действительности.
Основанием для трактовки научных теорий и гипотез как метафор выступает их релятивизм, изменчивость, историчность. Наука дает символический образ бытия, сходный в этом плане с собственно религиозной и художественной литературой, которые воспроизводят реальность своими специфическими средствами. Тем самым утверждается, что между науками о человеке и науками о природе, между гуманитарным и естественно-научным знанием «может быть культурная, но не экзистенциальная пропасть»{159}.
Проблемой функционалистской методологии является абсолютизация беспредпосылочности религии, явно или неявно полагаемой в качестве «вечной» и «универсальной» характеристики человека и общества. Подобное убеждение само опирается на невыясненную предпосылку – на отказ от проблем историзма и истинности всякой конкретной религии и религии как таковой, от проблем причинности конкретной, социально-исторической содержательности и смены форм религиозности и более общей проблемы соотношения «религиозности» и «внерелигиозности» («мифологичности» и «секулярности») форм индивидуального и общественного сознания. Исторически данный отказ был связан с преодолением конфессиоцентризма, что само по себе, однако, не означает, что между духовными феноменами нет никаких существенных различий.
В этой связи в литературе можно выделить две трактовки соотношения «содержательных» и «функциональных» подходов к религии. Одни авторы противопоставляют функциональный подход как «формальный» – гносеологическому (называемому еще «сущностным» или «субстанциональным»), как подлинно «содержательному»{160}. Данный вывод опирается на распространенную индуктивистскую убежденность в подлинной содержательности только конкретных исследований, опирающихся на историко-этнографический или историко-филологический материал. При этом, однако, отмечается, что «содержательные определения религии „работают“ достаточно убедительно в отношении лишь традиционных форм религии»{161}. Общие религиоведческие понятия, разработанные при анализе «классических» религий, оказываются неприменимы к формам новой религиозности.