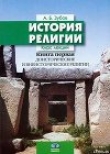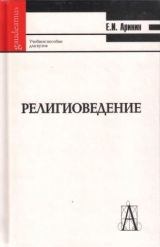
Текст книги "Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов]"
Автор книги: Евгений Аринин
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Он различает мировоззрения в зависимости от их способности координировать определенным, непротиворечивым образом различные виды опыта и давать им какую-то единую интерпретацию. Соответственно, «та система, которая дает какую-то общую интерпретацию природного мира, эстетического, морального и религиозного опыта, превосходит Систему, которая содержит только философию природы, а иные виды опыта изображает как нечто несущественное»{584}. Философия Единого как максимально «все-охватный» синтез, всегда исторична, ибо реально «все охватить» в одной системе невозможно, она есть, поэтому, всегда «смена всеохватывающих систем», или «мировоззрений».
Анализом «сакрального» как «трансисторического значения» религиозного феномена в целом наполнены упоминавшиеся выше исследования М. Элиаде. Он убежден, что история «не может исчерпать весь „религиозный феномен“; она лишь определенным образом манифестирует тот неделимый и неопределенный элемент, который обнажает подлинное место человека в космосе»{585}. В отличие от социологического функционализма, пренебрегающего анализом частных типологических и морфологических особенностей различных религий, он считает, что только через них возможно объяснение «сакрального» как пограничной ситуации человеческой жизни, которую история религии может «лишь верно дешифровать»{586}.
«Сакральное» как объективное основание исторических феноменов, является обратимым и воспроизводимым, в отличие от необратимой и невоспроизводимой истории, предстающей как процесс «манифестации сакрального». История религии выступает здесь как «тотальная герменевтика», как «вскрытие пограничных человеческих ситуаций не только через соотнесение с историческими фактами, но и через определенный выход на вневременное „значение“ религии».
Сущность религии усматривается «за феноменами» культуры и истории как их сердцевина. Сакральное «вторгается» в профанное, «образуя на границе с ним обширное поле иерофаний (через которые сакральное открывает себя как абсолютная реальность) и символов». В зависимости от отношения к манифестациям сакрального Элиаде различает «человека религиозного», и «человека исторического» (или «героя архаического» и «героя исторического»). Архаика (не историческое прошлое, но фундаментальное «начало», «онтологическая категория», абсолютное освобождение от субъективности в символике. Изготовление орудий труда и последующие «техногенные интуиции» блокируют сакральное, рождая «историцизм»{587}.
Христианство, с этих позиций, не есть рафинированно-рациональные конструкции профессиональных городских богословов, или система нормирования всех сфер мышления и жизни, противостоящая стихии народного двоеверия или полуязычества. Оно при этом и не конкретное социальное явление, возникшее в Римской империи две тысячи лет назад. Оно являет собой само бытие человека в космосе, которое может существовать (приниматься и исповедоваться) в нескольких регистрах, но между этими различными планами опыта существуют сходство и равнозначность. Такой подход позволяет найти новый, субстанциональный аспект рассмотрения целостного субъективно-объективного единства человеческого мироотношения вообще.
Миф и ритуал выступают как способы человеческого участия в священном, которые не могут быть упразднены никакими «Научными открытиями», что делает правомерным утверждение М. Элиаде о том, что человек всегда есть и будет «Homo religiosus», «даже если субъективно он будет считать себя совершенно секуляризированным». Мифология выступает не как «пред-наука», или древняя «поэзия», не как «начало» европейской нововременной истории, но как «модель поведения, принудительная сила которой коренится в ее сверхъестественном генезисе»{588}.
Современный конфессионализм анализирует проблему допустимости «феноменологического» понимания религии и стремится превратить феноменологию в новый способ апологетики, в форму теологической методологии{589}. Собственно сам переход от классической философии к «новой» связан с отказом от механицизма «субстратности», как, по словам Ж. Ваарденбурга, от интерпретации смысла реальности к терминам «структур» и их отношений к более глубокому уровню «связей между конкретными людьми»{590}. Тем самым проблема «познаваемости» выходит на уровень анализа «интерпретаций», создаваемых в рамках того или иного направления и возможных оснований этих интерпретаций, т. е. в сферу феноменологической герменевтики, глобальной интерпретативной онтологии.
Герменевтически рассматривает религию как социальное явление П. Хеджи, поскольку позитивистская социология «в большинстве случаев скользит по поверхности, так как чаще всего наблюдает явления, очевидные в буквальном смысле слова»{591}. Социологи игнорируют «незримую», «чувственно-сверхчувственную» природу религии. Однако, даже Ватикан определил «Церковь» как «людей Бога», включая в их число всех людей доброй воли, независимо от их религии и веры, от конкретной конфессиональной принадлежности.
Тем самым «утрачивало смысл различие между священным и мирским: если священное локализуется во внутреннем Я, тогда любая человеческая деятельность, творчество, коллективные, или индивидуальные усилия могут оказаться религиозным опытом». В отличие от М. Вебера, для которого секуляризация выступала как «расколдовывание», рационализация и тривиализация мира, П. Хеджи полагает более оптимистичным видеть в ней «деклирикализацию мира» и «закат традиционализма», общепринятости и ритуальности{592}.
Феноменологический подход в широком смысле характерен и для психологии религии, стремящейся выявить собственно психологические основания проявлений религиозности независимо от материалистической или идеалистической их интерпретации. В. Джеме, один из основателей научной психологии религии, подчеркивал всю унизительность для верующих и абсурдность с логической точки зрения распространенных теорий «медицинского материализма», сводящих «религию» к проявлениям патологии пищеварения, нервов или сексуальности{593}.
Истории религий, по его мнению, выступают как истории их лидеров, основателей церквей, поскольку обычные верующие часто очень поверхностно усваивают нормы религии и «религиозны» в очень незначительной степени. Более того и «атеизм» может переживаться так же ярко, как и собственно связь со «священным»{594}. Религиозность противопоставляется им обыденности и «игривости» как «возвышенность» и «серьезность» – несерьезности и приземленности{595}.
Тем самым происходит переход от поисков психологических «корней» религии к пониманию ее социально-психологических последствий, которыми, собственно, и обусловлена та или иная ее социальная значимость. Это открывает дорогу для сравнения «религии» с другими «идеологическими системами»{596}.
Революция в физике начала XX века, две мировые войны, глобальная информатизация и компьютеризация всей цивилизации, релятивизировали все бытовавшие ранее системы ценностей и стандартов. Индивид и общество выступили как «конструкции», создаваемые экономическими и социальными реформами, системой образования. «Наивному реализму» личного мироотношения противостоят профессиональные «интерпретации» действительности, «рынок» идеологий и мировоззрений.
Стабильность нововременной картины мира XVII—XVIII веков сменилась «философией процесса» А. Уайтхеда, диалектическим материализмом, семиотикой, кибернетикой и синергетикой, так или иначе констатирующими «смерть» декартовско-ньютонианской Вселенной и провозглашающих тотальную «религию развития»{597}.
В советском религиоведении подчеркивался функциональный характер западного религиоведения в целом, дающего религии «внеисторическую» и «расширительную» трактовку, призванную придать ей «вечный характер», и отождествляющего ее с «общественным сознанием в целом», что приводило к включению и самого марксизма в категорию «секулярных религий»{598}. Отмечалось стремление западных исследователей «избегать гносеологического анализа религиозного сознания»{599}. Это, собственно, и объединяет «функционалистские» в широком смысле подходы к религии в целом, как противопоставляемые ее «сущностным», «гносеологическим» трактовкам.
Действительно, исследователь религии начинает испытывать вполне понятную обеспокоенность, когда его начинают убеждать, что православие и марксизм, либеральная этика и табу являются не только сходными в теоретическом смысле «символическими кодами», интерпретирующими действительность, но и одними и тем же феноменами «по существу». Это «существо», однако, таково только в семиотическом плане, в рамках которого действительно приходится отвлекаться от «деталей», различающих язычество и христианство, ортодоксию и ересь и т. п. У специалиста-практика невольно возникает ощущение подмены самого предмета исследования,искажения понятий и расширения интуитивно очевидной сферы действительности, охватываемой понятием «религии», на внерелигиозные сферы социального бытия – идеологию, этику, культуру и т. п. Это рождает определенную оппозицию традиционного описательного религиоведения, вырастающего как эмпирическая наука из этнографии, филологии и социологии, и новых коммуникативистских, семиотических, структуралистских концепций, оперирующих формальными терминами общей теории систем.
С одной стороны, функциональный подход принимался, отмечалось, что «функциональный анализ религии, осуществляемый на разных уровнях ее социального исследования, – необходимый компонент ее социологического анализа»{600}. С другой же стороны, подчеркивалась его идеологическая нагруженность в условиях противостояния двух мировых политических систем, препятствующая его более плодотворному использованию{601}. Само стремление функционального подхода к мировоззренческой нейтральности и обще-значимости воспринималось через неизбежную призму идейного противостояния, вполне объяснимую для того времени.
Если для большинства отечественных исследователей научность описания функций религии виделась невозможной «без ее гносеологической оценки как ложного, превратного сознания»{602}, то для западных исследователей был характерен подход к религии как «структуре, проходящей сквозь историю»{603}. Они полагали, что «бессмысленно искать корни религии» и пытаться выяснить ее происхождение, ибо нет безрелигиозных народов{604}.
Было бы упрощением трактовать альтернативу гносеологизма и функционализма только как идеологического спора в рамках проблематики основного вопроса философии. Проблема лежит глубже, и этот действительно фундаментальный вопрос приобрел совершенно новое звучание в мировоззрении конца XX века. «Гносеологизм» оказывается, с одной стороны, вообще говоря, формально входящим в функциональное понимание действительности в качестве одного из возможных вариантов теории познания, хотя, с другой стороны, по самому существу дела, он принципиально противостоит функционализму, образуя с ним два напряженных полюса современной научной методологии – содержательный и формальный, – сохраняющих свое значение и после ухода марксизма с положения официальной идеологии и завершения «идеологической войны». Спор о гносеологической сущности религии и сегодня отнюдь не стал анахронизмом, он только изменил свою форму.
Действительно, если религия трансисторична, то тогда теряют смысл различия между нею и современной мироориентацией, сменяющей ее и оспаривающей ее истинность, или предшествовавшей ей мифологией. При таком подходе, философия, наука, религия и мифология оказываются только «метафорой бытия», особой «игрой воображения» и «формой субъективной иллюзии», редуцируясь к разновидности художественной литературы. Если гносеологизм редуцирует религию к внерелигиозным аспектам человеческого функционирования, то трансисторизм – наоборот, редуцирует светские, внерелигиозные формы человеческого функционирования к религиозным или полагает их столь же трансисторическими.
Проблема состоит, следовательно, не в том, какая из сторон обладает монополией на истину, а в том, что же есть религия как таковая, как она соотносится с другими сферами человеческого бытия, причем речь идет не просто об экспериментальном или описательном исследовании, но именно о теории религии, ибо только теория позволяет так или иначе систематизировать накопленные факты. Очевидно, что идеологическое противостояние во многом препятствовало утверждению действительно объективного религиоведения, теоретически охватывающего все многообразие альтернативных позиций и подходов, утверждающее единство в противоположностях.
Семиотика высветила фундаментальное значение знаковой, смысловой системы, ориентирующей индивида в мироздании. Мифология и религия выступили первыми формами символизации «трансцендентного интереса» к абсолютным значениям как высшим ценностям и фундаментальным знаниям о действительности и ее основаниях. В Новое время их сменяет наука и светские гуманистические идеологии, профанирующие одни, в том числе и свои собственные, образы и сакрализующие другие.
Первые редуцируют многообразие иных позиций к тождеству «лженаук», тогда как вторые – к тождеству «метафор бытия». В обоих случаях мы имеем дело с редукционизмом, но в первом случае это субстратный актуалистский редукционизм, исходящий из истинности и абсолютности только современной картины мира, тогда как во втором случае мы оказываемся вообще вне проблемы истинности того или иного миропонимания. Редукционизм субстратный сменяется редукционизмом функциональным, основным методологическим пороком которого оказывается отбрасывание самой возможности существования устойчивого и абсолютного как таковых, подменяемых тотальным релятивизмом непрерывных метаморфозов.
3.3. Значение функционализма в истолковании явлений религиозности
Функциональный подход в религиоведении часто понимается как оппозиция «сущностному», «субстанциональному», «субтантильному», «содержательному»{605}. Под «содержательным» здесь понимаются эмпирические исследования конкретных социальных феноменов, имеющих характерные «сущностные» особенности. Невозможность выявления «религии как таковой» и общих характеристик как неизменного субстрата, глубинного содержания всех эмпирических форм, ведет к попыткам выявить эту общность в «функционировании» столь непосредственно разных феноменов как римский политеизм и христианский монотеизм, называвшихся «religio».
Именно характер функционирования верований в государстве стал основанием для самого, вводимого Цицероном, различения «религии» и «суеверия»{606}. Апологетика тоже ссылается на социальную значимость функционирования христианства, на его способность утверждать национальное единство, духовное просвещение/нравственное здоровье в обществе{607}. Дж. Беркли утверждал, что при тождестве «атеизма» и «теизма» как рациональных концепций мира, именно теизм этичнее атеизма, отождествляемого им с натурализмом, ведущим к «звериному» функционированию индивида{608}.
Научное исследование функционирования религии в обществе представляет собой только один аспект из всего бесконечного многообразия характеристик любой «живой религии», которая при этом начинает представляться, «моделироваться» как динамичная система, или деятельное основание. Такое исследование корректнее считать не оппозицией сущностному, а одной из его форм{609}. Его спецификой является «академизм», стремление к объективному, неапологетическому исследованию конкретной религии как особого социального отношения{610}.
Секулярной философией эпохи Просвещения это «отношение» видится «дисфункцией» естественных антрополого-социальных характеристик, сменяемой «подлинным», научным и конструктивным функционированием. О. Конт утверждает производность религии от индивидуального познавательного функционирования, Маркс – от системно-социального функционирования экономики. Джеме и Фрейд трактуют религию как продукт функционирования индивидуальной психики, а Дюркгейм – социума (тотема, Церкви).
Социология, политэкономия, гносеология и психология исследуют эмпирические функции, которые характерны для «религиозных объединений» и субъективной, «религиозности». Функциональный подход, однако, не сводится только к описанию функций, которые религия играет в обществе на том или ином этапе его развития. Исследователь начинает с очевидности, что изучаемый феномен есть именно «религия», а не «магия», «идеология», или «светская культура». Вопрос о том, почему именно данный феномен относится к категории «религия», не ставится. Анализ основания такого отнесения не является экспериментальным или эмпирическим исследованием, здесь требуется собственно концептуальное, теоретическое осмысление сущности предмета.
В XX веке происходит переключение исследовательского интереса с внешних, объективных сторон функционирования религии на субъективные, внутренние. Религия здесь начинает выступать как имманентно-личностное «трансцендирование», фундаментальный «интерес». Феноменология и герменевтика выявляют трансисторические аспекты религии, ее атрибутивные функции как специфической формы отношения с миром. С этих позиций отрицается смысл поиска внерелигиозных оснований религии, ее «корней» – гносеологических, психологических или социальных.
Современный функционализм стремится к пониманию процессов, которые лежат в основе сложившихся характерных особенностей эмпирических религий, «эти теории пытаются определить, какие характеристики позволяют считать какие-либо аспекты человеческой жизни религиозными, соответственно квалифицировать какое-либо явление... как религиозное явление»{611}. Эти «характеристики» здесь анализируются как «причины», деятельные основания, функциональные начала эмпирических явлений, предстающих как «культурные выражения» фундаментального религиозного интереса.
И.Н. Яблоков указывает на то, что «в религии обнаруживаются внутренние, глубинное, скрытые от непосредственного наблюдения, уровни бытия человека и общества, в ней есть адекватное действительное содержание». Это содержание выявляется как в ходе дешифровки функционирования религии в терминах социологии и антропологии, т. е. в ходе редукции религии к социокультурным явлениям, процессам, функциям, так и в ходе ее понимания, интерпретации как особой сферы бытия, ибо «возникнув, духовная сфера относительно обособляется от материальной, начинает развиваться по собственным законам»{612}. В этой связи подчеркивается уникальная значимость религиоведения, относимого к тем отраслям современной науки, освоение которых важно для «становления каждого человека как личности, для формирования его духовной культуры»{613}.
Функционализм полагает, что «всякое эпистемологическое исследование религиозных верований вне контекста удовлетворения потребностей человека не имеет смысла»{614}. Категория «религия» тем самым оказывается тождественной категориям «абсолютные ценности» и «истинные мировоззренческие системы», а сам функциональный анализ выступает как «поиск какого-то логического субъекта для всех исторических и возможных религий»{615}.
«Религия» начинает пониматься не как эмпирический социальный или личностный феномен, но как функции некоторого деятельного основания, особого «субъекта функционирования»{616}. Анализ представлений о субъекте функционирования выводит всю проблематику в теоретическую плоскость. Субъект выступает как основание, «причина», зависимость, порождающие многообразие «эмпирических» религий. Эти «причины» выступают как «корни» религии, но не религии вообще, не религии как таковой, а только совершенно определенных ее форм. Они понимаются как многофакторные и переменчивые детерминанты, т. е. «функциональные начала», отличные от собственно «причинных», генетических, однозначно детерминированных, отношений. Методологически данный вывод опирается на утверждение сложности и многоаспектности различения «истинного» и «ложного» отражения действительности в сознании людей.
Функционализм выступает как специфическая методология, рассматривающая познание со стороны процессов символизации бесконечно многообразной действительности в знаках, средствах коммуникации адептов символизма. Здесь бытие полагается принципиально открытым, достойным вопрошания, что позволяет подвергать критике все частные формы его символического постижения.
В этой связи представляется относительным проводимое иногда противопоставление «редукцирнистских» (объяснительных, моноаспектных, утвердительных) и «герменевтических» (функциональных, многоаспектных, вероятностных) подходов к определению сущности религии{617}. В обоих случаях религия видится особым функционированием некоего субъекта, основания. Функциональный подход должен показать, по мнению Д. Кросби, «что это значит сказать, что такой-то аспект жизни человека является религиозным», а не искать «объяснения» религии, не редуцировать ее к нерелигиозным сферам, как это делает «каузальный», или «объяснительный подход»{618}. Субъектом выступает не эмпирический индивид как таковой, но основание поступков индивида – «интерес», который движет людьми в их «религиозности», в их самоопределении. Проблема, однако, состоит в том, что последовательно проведенный «анти-редукционизм» оборачивается односторонним отрывом религии от «не-религии» – науки, «мирского», культуры вообще. Это ведет к пониманию религиозного интереса как фундаментального интереса к «не-мирскому». Т.П. Берк стремится раскрыть характер фундаментального «интереса», описывая его как наиболее «важное» и «тотальное видение жизни»{619}. Религия состоит в «негативном суждении», отрицании наличного состояния вещей, предлагая «позитивное суждение», выражающее собой идеал.
Такой подход, однако, делает тождественными «гуманизм», «нацизм», «христианство», «миф» и «деньги», «вещи» и иные «ценности» или «идеалы». Функционализм оказывается перед апорией необъяснимости различия между собственно «религией» и сопоставляемыми с ней светскими или архаичными ценностными системами, так как религия здесь отождествляется с «аксиологической» или «коммуникативной системой» вообще{620}. Представление об «особой религиозной функции» оказывается безосновательным.
Абстрагирование от конкретных аксиологических и познавательных особенностей символических систем, сменяющих в истории человечества и научного познания друг друга, характерное для функционализма, оборачивается отвлечением от тех причин, которые в реальной действительности определяют потерю интереса к одним символам и кодам и усилением этого интереса к другим. Смена античных идеалов на церковно-христианские, а последних – на секулярные, с абстрактно-функциональных позиций представляется только как случайная смена символики, а не как прогресс или регресс. Нравственность, логика и красота оказываются лишь условными и соотносительными категориями, лишенными объективного и универсального содержания.
Функциональный подход утверждался по мере осознания недостаточности и профанирования оппозиционных категорий, символов бытия, разработанных в научной философии и теологии Нового времени. Наука стремилась использовать только «верифицируемые» утверждения, опирающиеся на идеал однозначности соответствия между высказыванием и наблюдением. Сегодня же и в физике, выступающей в качестве образца «науки как таковой», используются понятия «квазичастиц», выражающие, строго говоря, «фикции», «сверхъестественные» вещи, ибо «вещью» называют «не-вещи» вообще – взаимосвязи, свойства, процессы, что, однако, отнюдь не мешает практическому использованию ядерной физики{621}. Фикции оказываются необходимым условием для функционирования научного познания.
Биология и возникшая на ее основе общая теория систем стали в XX веке другой сферой научного познания, где функциональный подход стал противопоставляться «химическому» как «субстратному»{622}. На «поразительное сходство» концептуальных структур биологии, лингвистики, социологии и этнографии, эвристичное для религиоведения, указывал Т. Парсонс{623}. В научной методологии сегодня утверждается «биоэпистемология», функционалистское понимание научных категорий и концепций как соотносительных и условных средств символизации действительности{624}.
Функционализм выступает как общенаучная методология, позволяющая методом «черного ящика», имитировать, воспроизводить реальный объект, создавая все более и более совершенную его модель, функциональный аналог, отвлекаясь от конкретной субстратно-структурной специфики «естественного», эмпирического объекта{625}. Функциональный подход утверждает «сокрытый», трансцендентный для существующих средств анализа, характер истины, невозможность для человека абсолютного знания всех причин и зависимостей исследуемого феномена.
Это ставит в новую плоскость и вопрос о критериях различения «религии» и ее функциональных «заместителей», или «новых религий»{626}. функционализм позволяет преодолеть апологетичность характеристик любых «религий», характерную как для их самоописаний, так и для их иноконфессиональных описаний, и не только объективно сопоставить «христианство» и «новые религии», но и выявить динамичную специфику и системные отношения данных феноменов в обществе. Новые религии понимаются как функции от существующих, традиционных или от общего характера современной духовной культуры в целом, квалифицируемого как «постмодернизм»{627}.
Постмодернизм может порождать духовный синкретизм, но он не означает нивелировки символических систем в ценностном отношении. Имманентность любых «религиозных» переживаний берется здесь как данность, исследователь не оспаривает истинности того или иного убеждения, но стремится описать его именно как частную форму универсального субъективного отношения к «священному» (этическому, логическому и эстетическому идеалу), выявив социальные причины именно такой частной формы. Ценностью выступает сама духовная самобытность, сама локальная форма устремленности к трансцендентному – будущему состоянию, цели, ценности, идеалу и т. п...
Субъективная установка субстратного уровня на безусловную ценность только «своих» символов, как уже отмечалось выше, стремится к самообоснованию особыми функциями традиционной (или нетрадиционной) религии. Любым апологетическим «конфессиоцентристским» самоописаниям функций могут быть противопоставлены как иноконфессиональные, где те же функции описываются как «дисфункции»{628}, так и собственно «секулярные», которые в целом критикуют и принимают разные аспекты функционирования конфессиональной религиозности во всем многообразии ее конкретных форм. В социологии религии тоже принято разделять «функции» и «дисфункции» религии, отмечая при этом, что «самое важное заключается в понимании того, что в разных обществах разные религии выполняют неодинаковые функции, т. е. неприемлем универсальный функционализм как попытка просто перечислить функции религии, которые она выполняет в любом обществе или предположительно должна выполнять»{629}.
Собственно функциональный подход состоит как в беспристрастном анализе многообразия процессов самоопределения и идентификации субъектов, позволяющем сформулировать научно-объективные рекомендации государственным правовым и образовательным институтам, так и в рассмотрении конкретно-локальной специфики сложного взаимодействия и взаимропосредования личностного, социального и группового типа субъектов функционирования. Очевидно, что не каждое самоопределение и самоидентификация являются «подлинными» и что религиозное функционирование должно быть по меньшей мере «легитимным». Сама легитимность, однако, как отмечалось выше, достаточно многообразно трактуется в современной культуре, ее подлинное понимание само нуждается в абсолютном обосновании, в понятии абсолютного субъекта функционирования.
Если субстратный подход в понимании религии и религиозности как устойчивых, статичных феноменов ведет к конфессиональному противостоянию, к попыткам жесткого разделения «легитимных» и нелигитимных групп, то функционализм является методологическим основанием толерантности. Толерантность не тождественна безразличию или беспринципности, внутренней несформированности убеждений личности субъекта. Подлинная толерантность состоит в осознании своего долга и ответственности перед другими за свои убеждения и вытекающие из них действия. Основанием здесь выступает совесть, любовь к иному. Исторически первой формой глубокого и всестороннего понимания соотношения категорий, выражающих диалектику уникальности и единства, воплощения единого в уникальном дала тринитарная теология, выразившая особенности подлинной природы функционирования, где самобытность не исключает единства, а единство – самобытности. Подробнее эти методологически важные для современной культуры положения будут рассмотрены в следующей главе. Целостное понимание единства многообразия субстратных и функциональных форм религии предполагает выход на третий уровень анализа – на уровень методологии субстанционального рассмотрения проблемы.