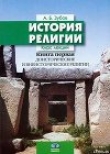Текст книги "Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов]"
Автор книги: Евгений Аринин
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
3.2. Развитие понимания деятельного основания и динамизма
Кардинально новое понимание бытия приносит христианство, где Бог выступает как абсолютный творец всего – материального и идеального, физического и антропного, имперского и варварского. Само себя христианство противопоставляет другим «гносисам» – «традициям», «мифологиям», «философиям», «физикам», «религиям» и «теологиям» как по сути невозможное для античного менталитета и пришедшее из иного – иудейского – этнического истока, где Бог – это «беспредельное всемогущество»{461}.
Столкновение двух концепций «сакрального», удачно выразил известный врач и философ Гален: «Нашему Богу недостаточно только захотеть, чтобы возникли или были созданы вещи той или иной природы... Именно здесь наше собственное учение, так же, как и учение Платона и остальных греков ... отличается от учения Моисея. Согласно Моисею ... для Бога все возможно... Мы же так не думаем, но утверждаем, что некоторые вещи Невозможны по природе, и Бог даже не пытается создавать их. Он лишь выбирает наилучшее из возможного»{462}.
Радикально меняется отношение человека с сакральным, которое перестает представляться безличной и бесчеловечной силой, которую можно более или менее достоверно и точно «познать» и на этой основе «спастись». Такие конструктивные и рациональные отношения Библия призывает изменить на новые, «не от мира сего», где подлинная «конструктивность» видится в «любви», или «agape», а не в «episteme», не в «знании», противостоящем невежественным мнениям, или «doxa». Это, однако, не означало впадения в новое «невежество», но переход к новому духовному горизонту, потребовавшему переосмыслить соотношение «веры» и «разума», человека и мира, тела, души и духа в самом человеке.
Сама необычность «богоявления», традиционно «ужасного» и «невыносимого» для людей в прежних системах вероисповеданий, в том числе и в Ветхом Завете, создала новое духовное пространство, выйти из которого не мог уже никто – ни те, кто верил, ни те, кто активно отвергал «весть Христа»{463}. Анти-антропоморфность и анти-обыденность античной теологии столкнулась с «вызовом» живого Богочеловека, явившегося как «обычный» еврей и в личном общении язычком притч, метафор, без углубленной и отточенной философской терминологии обещающего спасение и воскресение во плоти всех уверовавших в Него. В каждом при этом вдруг открывается новая глубина, стоящая за «разумом», и кажущаяся на первый взгляд «безумием», ибо она лежит вне «ума», как рационального, безличного, общезначимого и опытного «конструирования» картины мира в понятиях{464}.
С этих качественно новых позиций начинается критика как «неподлинных», иных «религий» – и «народных» и «цивилизованных», прояснение их отношения к этой «внутренней личности», к подлинному «Я» каждого. Античный подход при этом неизбежно «функционализируется», становясь предметом экзегезы, или истолкования в свете Святого Писания, уникальной личности Христа.
Наука, автономизировавшаяся в эллинистический период, становится недостойным, перед лицом «спасения», родом «приземленной» деятельности. Идея природы как самостоятельного, материального, или, точнее, материально-идеального единства, характерная для всей Античности и архаики вообще, трансформируется в символ «трансцендентной реальности: в пределе символ разрушает природу и становится на ее место»{465}. Природа как «Вторая Книга» получает свое символическое истолкование.
Сама альтернатива «духовного (разумного)» и «материального (чувственного)», выражавшая древнейшую поляризацию «природного» и «антропного» снимается в обнаружении их фундаментального родства как «сотворенных» и «функциональных», телеологически предуготовленных для определенных целей самим «Субстратом», безначальным и беспричинным основанием всего – Богом. Бог, однако, одновременно и «акт», Творец всего сущего, Субстанция как таковая, фундаментальное начало всех видов «функционирований» вообще, любого «движения»{466}. Складывается Церковь, которая «по своему внутреннему упованию... мыслит себя христианством в его изначальной полноте и неповрежденной целостности»{467}.
Человек выступил как участник всемирной и вселенской истории, приобщиться к которой он может через евхаристию и универсальное образование. Прежний дуализм «божественного» и «материального», «добра» и «зла», абсолютно противостоящих друг другу сменился фундаментальным «монизмом» трансцендентного основания всего. «Каждый элемент опытного мира... служит символом высочайшего, предельного объекта, всеохватывающего единства, совершеннейшей реальности – Божества»{468}. Происходит «перековка ума, перековка античных форм мышления на новые, нахождение нового языка для новой истины», что и сделали Отцы Церкви{469}. Г.К. Честертон писал о «пяти смертях христианской веры», отличавшие ее от статичных и неисторичных доктрин Азии, отражая этот живой ритм «конституирования» и «революций», «нерадивости» и «радения», «внешности» и «внутреннего»{470}.
Конфессиональные «схизмы» локального и континентального масштабов приводят как к борьбе внутри самой Церкви за «истинное понимание вероучения» и постоянным обвинениям друг друга в «ереси», так и к появлению стремлений к «экуменизму», воссоединению на новой основе, «субстратной» по отношению к «особенностям», разделяющим «конфессии» – к попыткам разработки «над-конфессиональной», или «естественной, религии» («religio naturalis»), как универсальной «связности», способной примирить и добровольно объединить не только всех христиан, но и всех людей вообще, т. е. христиан с нехристианскими народами и дохристианскими, «языческими» античными мудрецами.
Эти попытки становятся характерной чертой эпохи Возрождения, породившей феномен «гуманизма», природа которого остается предметом острых дискуссий до сих пор{471}. «Сакральное», «Бог» здесь начинает осмысливаться в качестве единого для греко-римско-иудео-христианско-исламской традиции Абсолютного начала всего. Николай Кузанский, ссылаясь на Августина, разделяет «наглядное», или «интуитивное» («intuitu»), постижение (или «незнание»), и «науку» (знание), или «дискурсивный разум» («rationi discurrenti»), порождающий терминологические конструкции локальных теологии.
Простому невежеству, когда люди, подобно животным, следуют только «наглядному» или «чувственному» («sensus») опыту и просвещенным наукам, где каждый следует логическим правилам деления и соединения терминов с помощью «рассудка» («ratio»), он противопоставляет «docta ignorantia», или «ученое незнание», позволяющее связать «наглядно-очевидное» с «дискурсным» в единую целостную истину{472}.
Рождается новая, «секулярная» культура как моральный протест против власти любого «клерикализма», как католического, так и протестантского, расцветает литературный жанр «утопий», рисующих идеальное общество, где нет религиозной нетерпимости, где совместным трудом достигается гармоничное развитие всех. Развиваются алхимия и астрология, натурфилософско-антропоморфные трактовки всех природных тел как живых, одушевленных и полных таинственными силами, способными дать человеку власть над миром. В противопоставление этим, антропоморфным уподоблениям природных объектов человеку или «духам», Галилео Галилей вводит профанирующее их понятие «объективного, неантропоморфного, чисто физического закона природы»: «природа ...насмехается над решениями и повелениями князей, императоров и монархов, и по их требованию она не изменила бы ни на йоту свои законы и положения»{473}. Языком новой объективной науки, позволяющей получать «знания» о природе выступает язык «геометрических фигур», международного математического наследия, лишенного конфессиональной «специфики».
В этом смысле важным явилось обретение в переводах с арабского сочинений античных математиков, сыгравшее революционную роль в европейской культуре Нового времени. Арабская, исламская культура, синтезировавшая Античность с индийской и древними азиатскими культурами, придала математике «особую алгебраическую „прививку“»{474}. Речь шла о создании символического языка, описывающего не «идеи», статичные субстратные «геометрические» элементы, но «действия», «алгоритмы», «общие решения» частных задач{475}. Античный «математик не конструирует теоретический факт, не изобретает его, а обретает», интуитивно прозревая божественное мироустройство как «простое», «прекрасное» и «гармоничное»{476}. Мистическое математическое «озарение» древних сменяется на сознательное «конструирование», на уподобление самому Богу, как главному «Создателю», «Устроителю» и «Попечителю» всего «тварного».
«Мыслить» и «понимать» в новых условия начинает означать необходимость «освоить» универсальный «метод», который стал рассматриваться не только с рациональной стороны, как трансцендентный божественный «алгоритм», но и с «эмпирической», позволяющей «описывать» саму природу в нематематических терминах, лишенных, однако, «колдовского», «суеверного» содержания, «идолов». Начинается «описательное естествознание», бесконечно «открытое», и сознающее свою незавершенность, но дистанцирующееся от «мифов» или художественных «парабол» как научная «философия»{477}. Начинается разделение светской гуманитарной и естественно-научной деятельности, или «искусства» и «науки», «эстетической» и «практической» сфер культуры.
Именно «experientia literata». эксперимент, становится новым критерием научной истины, дополнительным к математико-геометрическому. Опыт и разум становятся и критериями споров среди христиан, противопоставляемых Бэконом «магометанам», которые ведут «проповедь религии оружием и насилование свободы совести путем кровавых преследовании»{478}. «Ислам» выступает как символ европейских проблем, как намек на нехристианскую суть «папизма» в меж-конфессиональных конфликтах, когда действительно страшные преступления творятся именем Бога. Жизнь человека в его телесности заявляет свои права на приоритет перед любыми «доктринами». Сами вероучения начинают оцениваться с «внешней» Церкви, абсолютной точки зрения. Ставится проблема необходимости анализа «слов», ведущих к религиозным противостояниям, ибо «природа» одна для всех, как и «наука», ее изучающая. «Атеизм» Бэконом критикуется как «неглубокий» натурализм, поскольку истинный натурализм или «наука» опираются на признание глубинной и мистичной роли Бога в мире{479}. «Знание» начинает пониматься как «сила».
Радикально секуляризирует «философию» Т. Гоббс, терминологически противопоставляя ее схоластической «метафизике», или «естественной теологии». Он развивает предельно де-телеологизированное мировоззрение. полностью отказавшись от наивных «идолов» пантеизма, что оборачивается «материализацией» всего, в том числе и «души». Бог оказывается суровым законодателем, совершающим только одно чудо – творение мира, после которого все существует по Им установленным законам. Отсюда и критика различных «фантазмов», которым поклоняются «суеверные люди». Теизм, или деизм начинает противопоставляться «пантеизму» (сам термин «пантеизм» появляется именно в это время), «сверх»-естественный, над-природный Бог—«внутри» – естественному{480}. Собственно «страх перед невидимой силой, придуманный умом или воображаемый на основании выдумок, допущенных государством, называется религией, не допущенных – суеверием. А если воображаемая сила в самом деле такова, как мы ее представляем, то это истинная религия»{481}. Рационально-политический объективизм профанирует живую личную веру, «фантазм».
В этот период делаются попытки Моделировать разум, разрабатываются проекты «умных машин», способных считать автоматически{482}. Причиной наблюдаемых движений в механическом мире выступают некие «духи», «пневмы», «силы» и т. п., т. е. некие стихийные, бездушные (неразумные) «деятели»{483}.
Б. Паскаль одним из первых отметил принципиальное отличие «умной машины» от «человека» – машина лишена имманентного стремления к истине, возвышенной духовности, являясь только слепым и пассивным «механизмом», лишенным «воли». Рационалистической методологии «редукционизма» и «суммативизма» начинает противопоставляться сократовская методология «целостности», «органицизма», да и само познание дуализируется: «Мы познаем истину не только разумом, но и сердцем»{484}. Софистике и казуистике теологии иезуитов он противопоставлял «ученое незнание» Николая Кузанского, скептическое отношение ко всякому «всезнанию», теистическому или атеистическому, у которого всегда готов ответ на любой вопрос. Он полагает, что «атеизм указывает на силу ума, но только до определенной степени»{485}. Субъективная вера профанирует рациональный объективизм.
Бог принципиально мистичен, иррационален и непознаваем, всегда выступая «непроницаемой тайной». Декарт же оставляет Ему функцию, как язвительно отмечает Паскаль, «первощелчка», обходясь далее без Него. Именно Живой Бог христианства, ощущаемый «сердцем», нужен человеку, который обретает его в «игре», вне строгих «рациональных» схем. Но это не «магизм», а именно «мистицизм», не «до-рациональность», а «сверх-рациональность». Только Бог «знает» все целое мироздания, человеку же доступно лишь частное, добываемое наукой, знание. Теология Откровения противопоставляется «естественной» теологии, или «мета-физике», рациональным функциям человека, равно как и лицемерным и невежественным клерикальным «домыслам», унижающим достоинство личности. Бог рационализма и деизма – это мертвый бог. Подлинная теология иррациональна, подлинное отношение с Сакральным – мистично.
Другим «анти-дуалистом» стал отлученный иудей Б.Спиноза, стремившийся разработать универсальную «этику», или рациональную антропологию по образцу математики. «Предрассудкам», или «opinio», он противопоставляет «рассудок», «ratio», или «интеллект», «intellectus». Действующий ум видится «неким духовным автоматом»{486}.
Мир в целом теряет поляризацию на «Бога» и «природу», становясь одной «Субстанцией», одновременно, как де-персонифицированной и де-механистизированной, так и «ре-натурализированной» и «ре-мистизированной». Бог выступает как интуиция единства «материи» и «интеллекта» в Универсуме, как «ближайшая причина» цельности любого предмета вообще и самого человека в частности. Субстанция, Бог, Природа выступают как «causa sui», «причина самой себя», действующая совершенно свободно, имманентно, по своей природе.
Как и у Паскаля, здесь утверждается различие «рациональной» и «интуитивной» картин мира. Но если для первого Бог трансцендентен, то для Спинозы – имманентен субъекту, «модусу» сакрального. Сами «модусы», субъекты вообще, выступают, на первый взгляд, антропоморфно, ибо любой единичный предмет имеет в себе «душу» и «тело», два «атрибута» субстанции, что дает повод говорить о его «пантеизме», «гилозоизме», «панпсихизме» или «панлогизме». В действительности же он имеет в виду присущую любому предмету способность к самоопределению, которую тот сохраняет, оставаясь самим собой, и эта «идея самого себя», являющаяся одновременно и силой самосохранения, и есть собственно «душа» или «жизнь»: «под жизнью мы разумеем силу, посредством которой вещи сохраняются в своем бытии»{487}.
Человек становится здесь как бы самодостаточной силой, субъектом бытия, имманентно сакральным, слушающим только свой «голос совести», интуитивной цельности бытия. Такая позиция радикально противопоставила его самой иудейской общине, теологии и «клерикализму» как таковым, католическому, протестантскому или иудейскому{488}. «Богослужением» становится естественное следование имманентным «законам природы»{489}.
Позднее Л. Фейербах назовет взгляды Спинозы парадоксальным «теологическим атеизмом», а его самого – «Моисеем вольнодумцев и материалистов».{490} Основателем «философии религии в современном смысле» считается Спиноза и в современной западной философской литературе{491}. Здесь профанируются все безличные символические системы и утверждается свободное самоопределение личности в вечном.
Эстетическое, или духовно-нравственное, понимание бытия как гармонии царств «Натуры» и «Благодати», преодолевающей холод здравого смысла, механиков энтузиазмом художников-виртуозов, характерно для Э. Шефтсбери{492}. Он разделяет «энтузиазм», понимавшийся обычно как «одержимость духом», «безумие», характерные для пророков, сектантов и фанатиков, на «отвратительный», унижающий достоинство личности, и собственно «восторг духа», гармоничное, «юмористическое», «благое» его пребывание, способное возвысить душу человека над серой повседневностью{493}.
Шефтсбери подчеркивает значимость внутреннего раздвоения для самосовершенствования духа через диалог самого себя с самим собой, помогающий преодолеть в себе «злодея»{494}. «Великий фокус злодейства и распутства, равно как ханжества и суеверия, состоит в том, чтобы держать нас на значительном расстоянии и в холодной отчужденности нас от нас самих...»{495}. Древним требованиям найти в себе «высшее» и «низкое» и подавить одно другим, он противопоставляет интимное и уникальное «доверие», голос «сердечного сочувствия», отличный от всех бесчувственных «голосов» обычаев или «разумных», но грубых и педантских «истин». Свобода человека оказывается на поверку «свободой мнимости»: «мнение правит миром»{496}.
Самоуверенному педантизму противопоставляется тонкость и «темность» внутреннего мира человека, «игра» его чувств, когда Разум и Желание, Строгость и Фантазия, разговаривая как два «лица» в личности, приходят к некоему единству. Судить о морали и разуме, религии и суевериях других можно лишь на основе самопознания, «произведя поначалу учет всякого такого добра в своих собственных пределах и сделав обзор всего домашнего имущества»{497}. Внутренний мир человека видится ему основой для постижения внутреннего мира «Природы», для срывания «масок» с тех или иных «несомненных истин». Игривость светских салонов переносится в самого человека, выступая как диалог «игрового» и «серьезного» в его душе, в нем самом, как поиск границ «игривости», ее естественных, но не «механических», а этических, религиозных пределов. Сакральное субъективизируется и детеологизируется, отделяется от тех или иных конфессиональных рамок.
Г.В. Лейбниц под влиянием знакомства с открытиями первых микроскопистов, «био-морфизирует» математику, механику, логику и метафизику как части «естественной теологии» вообще. Его биоморфные «монады» (термин микроскописта Ф. ван Гельмонта), или «бесконечно малые» («dx» —дифференциалы), или разведение смыслов «возможность» и «действительность» в «пустом» понятии (non Ens), или «живые силы» (кинетическая энергия) неразрывно связаны с новым взглядом на бытие и отдельные «вещи»{498}.
Лейбниц отмечает, что бесконечно делимая действительность, или «объективное» как таковое, оказывается познаваемым, только будучи «символизировано», т. е. разбито на дискретные и «конечные» знаки, причем знаки «статики» и «динамики», в результате чего статичная знаковая картина мира выступает только как символ объективного динамизма. С другой стороны, объективный динамизм, естественный активизм, самодвижение сами по себе таинственны и невыразимы до конца ни в каких знаках, однако с некоторой долей условности могут быть представлены в символической форме. Человек выступает как сознательный субъект символизации бытия с целью его большего познания.
Символика разделяется на «моральную», выражающую свободу как имманентность Бога и человека, и «физическую», выражающую необходимость природы. Сведение свободы воли человека к механической необходимости унижает личность, и противна духу христианства как истинной религии, оказываясь ближе к мусульманской вере, подчиняющей человека слепому року—«fatum mahometamum»{499}.
Именно Лейбниц вводит понятие «функции» как символа онтологического соответствия «механического» и «духовного», или «видимого» и «незримого». Познание неизбежно «символично», слово, понятие всегда только «приблизительно», или в возможности, в бесконечном приближении к идеалу, истине вообще, соответствуют действительности, являясь ее определенной «функцией»{500}. Однако, как справедливо подчеркивает В.Н. Катасонов, «Лейбниц демонстрирует весь титанизм притязаний рационализма, как мировоззрения, стремящегося сделать все в мире понятным, все измерить разумом человека», но при таком подходе «Бог Лейбница есть Бог деизма»{501}.
Здесь нет места чуду, подлинной неожиданности и свободе. В то же время здесь задана программа бесконечного сближения науки и теологии через профанирование разделяющих их символов и обозначена необходимость образования и самоусовершенствования как пути перехода от относительной ограниченности и большей осмысленности многообразия природных и личностных феноменов в гармоничном целом, которым в полной мере владеет только Бог. Именно Он из «величайшего архитектора превращается... в заботливейшего монарха», а теология из нейтрального «деизма» превращается в «христианский теизм»{502}.
Дж. Локк провозгласил основанием подлинного «знания» сенсуализм и эмпиризм, приводящих, однако при их последовательном распространении на человека и мир в целом, к отрицанию каких-либо «достаточных оснований» морали и «человечности» в «сакральности», помимо «безусловной самоочевидности»{503}. В этом он видит методологическое основание для свободомыслия и профанирования всех форм теологического авторитаризма.
Важнейшим здесь явилось утверждение «субстанции» только в качестве «сложной идей», образуемой из совокупности «простых идеи», открываемых наблюдением. Знание оказывается только функцией наблюдения, а не отображением самого бытия, последнее как «под-лежащее», или «субстанция-субстрат», т. е. само объективное основание «связи простых идей», или «support», приобретает статус гипотезы о бытии. Идеи из «вечных» и «врожденных», каковыми они всегда и считались с Античности, начинают пониматься как «продукт» психолого-физиологических бессознательных процессов, присущих любому человеку по природе{504}.
Концепцию «врожденных идей» он видит со стороны ее социального функционирования в качестве основы для подавления свобод личности, которой на «законном основании» навязываются псевдо-универсальные «общности», тогда как в действительности все общие идеи являются только лишь «ассоциациями», бессознательным группированием «простых» идей, которые естественно присущи всем людям, но сами по себе не являются «разумными». Разум, рациональные правила, «силлогизмы», отнюдь не врождены у человека, не «естественны» ему. Естественность и разумность начинают дистанцироваться и в этом отношении. Общая для древних мудрецов и современных философов, христиан и нехристиан, идея «Бога», представляет собой разные «ассоциации» не только у людей разных вероисповеданий, но и у верующих одного вероисповедания, если сравнить представления крестьянина и философа{505}.
Локку принадлежат знаменитые исследования «веротерпимости», где он утверждает необходимость разумного осмысления проблем свободы совести, разделяя всех спорящих на «две стороны: одна, проповедующая полную покорность, другая, отстаивающая всеобщую свободу в делах совести, – одинаково горячо и ошибочно предъявляют слишком большие требования, но не определяют того, что имеет право на свободу, и не указывают границ произвола и покорности»{506}.
Терпимыми могут быть только «спекулятивные мнения и вера в Бога», поскольку они «не затрагивают моих отношений с другими людьми» и «никоим образом не могут нарушить мир государства или доставить неудобство моему ближнему», если человек «делает это чистосердечно и по совести перед Богом, сколько дозволяют его знания и убеждения»{507}. Он отмечает специфику Англии в понимании природы государственной власти, где мораль как «нормы поведения» вообще, уже отделяется от религии, как «личного спасения души». Религия им ставится в один ряд с «воображением» (фантазией, фантазмами, фанатизмом).
Убеждения, или «мнения» каждый вправе отстаивать, но государственная власть должна заботиться о защите «тел», о предотвращении насилия в отношениях своих граждан, тогда как о спасении своей души должен заботиться прежде всего сам человек, ибо он в этом заинтересован больше, чем кто-либо другой{508}. Важно только, чтобы убеждения не смешивать с совестью, которая состоит не только в личной ответственности перед Богом за себя, но и в смирении себя, своего «энтузиазма/фанатизма/фантазма», своей невыразимой и непередаваемой, возвышенной и мистичной «уверенности» перед ответственностью за спокойствие государства в целом. Теория ассоциаций делает возможным научное обоснование толерантности как государственного блага, встающего на один уровень с личным благом – непримиримые, желающие поступать только по «своей» совести, пренебрегающие социальным порядком, должны либо стерпеть естественное в такой ситуации наказание, либо покинуть страну.
Какие-либо формы насаждения «религии» неприемлемы, ибо только сеют «атеистов», поскольку свидетельствуют о «неестественности» и неистинности данной религии – «прибегает ли кто к такому способу, чтобы убедить другого в несомненных истинах математики?»{509}. Терпимость, однако, имеет границы – государственное благополучие. «Папизм» и «атеизм» выступают как два нетерпимых феномена. Папизм обвиняется им, в насаждении «невежества» и «корыстолюбии», готовности через «клятвопреступление» и «жестокость» добиваться «единообразия» в вере, как, например, «бойня во Франции» (Варфоломеевская ночь), тогда как даже у нехристиан (японцев) можно видеть терпимость ко всем гражданам{510}. Именно протестантское вероучение совпадает с общечеловеческим и собственно христианским, божественным в его разумном понимании, поскольку дает человеку право на свободу совести.
Оборотной стороной такого права оказывается дробимость самого христианства на множество «сект» и группировок, конфронтацию между которыми можно предотвратить не суровостью и силой, но только воспитанием в духе терпимости и широты взглядов. В католическом же вероучении требуется принятие догматов без разумения, на веру, что свидетельствует о возможности разделить религиозные высказывания на разумные и общепонятные, т. е. «естественно-разумные» и бездоказательные, групповые или личные, т. е. «естественно-мистичные». Это предполагает и способность к самоанализу, которая и отличает «разумного» индивида от «фанатика», ограниченного только «своим» (т. е. фантастичным, придуманным им лично или его единоверцами) видением мира. Пороком является не та или иная «вера», но «фанатизм», нетерпимость к иным верам.
Лицемерию папизма противопоставляется идеал нравственного самосовершенствования, подлинной «кротости» и любви ко всякому человеку вообще. Силовые же методы «прозелитизма» и «обращения» могут вызвать только полное неприятие такого учения, которое собственные преступления считает оправданными небольшими и бездоказательными различиями между верующими. Именно терпимость является критерием истинности религии, согласным с духом Евангелий и разумом{511}. Нет судьи, который мог бы отличить истинную церковь от еретической «ни в Константинополе, ни вообще на Земле»{512}. «Гражданская» жизнь отделяется от «религиозной», как мирская – от сверхмирской{513}. Для гражданской власти нет различия «языческой» и «ортодоксальной» религии{514}, более того, «язычники» доверчиво впускают к себе христиан, но те, по мере своего усиления, начинают претендовать на власть, уничтожая своих добродетелей, как это было в Америке.
Нетерпимы и бесчеловечные секты, но таких мало; мусульманство, ибо там само гражданство требует принятия религии, и атеисты. Для последних нет морали и ничего «священного» – «ведь если уничтожить Бога даже только в мыслях, то все это рухнет»{515}. Сами Понятия «ереси» и «схизмы» не носят общечеловеческого характера – так «магометанин не является и не может быть для христианина ни еретиком, ни схизматиком». Одинаковым в верах является закон и культ, причем различие «религий» признается и Церковью. Однако никаких оснований нет для того, чтобы одни символы почитания сакрального имели преимущества перед другими{516}.
П. Бейль, испытавший на себе все последствия принципа «заставь их войти», трактовавшегося «ревнителями» противоборствовавших христианских конфессий как оправдание любых зверств «во имя веры», начинает их радикальную критику с позиций «естественного света совести», являющейся голосом самого Бога{517}. Начинается нравственная критика всех мест Библии, которые могут служить оправданием насилия и преступлений, истолковываемых как «искажения» подлинного смысла Откровения.
Впервые подчеркивается моральная чистота философов – «атеистов», носителей аристократичной моральной истины. Происходит переосмысление церковно-принудительного отношения с сакральным на личностно-интимное, мистическое отношение личности к Богу как основанию нравственности, не имеющему конфессиональной или мировоззренческой определенности, Признанию непреходящей значимости функционирования религии как основы общественной нравственности, начинает противопоставляться факты ее же колоссального агрессивно-деструктивного потенциала, наглядно демонстрировавшегося бурными событиями XVI—XVII веков европейской истории{518}.
Дж. Беркли предпринимает попытку методологической реабилитации религии, разделяя «уровни» функционирования науки и теологии. Он демонстрирует, в отличие от типичной манеры «клерикалов» опровергать через «оскорбления»{519}, великолепную осведомленность в собственно научной проблематике, и свою (а в его лице и Церкви) способность говорить с учеными на их языке. Наука вновь выступает как дискуссионное поле, постоянно сменяющее как свою экспериментальную, опытную базу, так и теоретические способы осмысления этих фактов, тогда как теология видится собственно началом человеческого самобытия как такового{520}. Он отмечает необходимость анализа именно «атеистических принципов» как таковых, т. е. самых на первый взгляд отвлеченных вопросов теории познания, поскольку именно они сами по себе ведут к социальным потрясениям, независимо от личных моральных качеств или стремлений того или иного автора{521}.
С этих позиций и лейбницианский «функционализм» видится «животной стороной жизни», анатомированной человеческим умом для «удобства», но влекущим за собой «неспособность к вещам моральным, интеллектуальным и теологическим» и «наблюдаемый ныне рост безверия»{522}. Это, видимо, первое обвинение науки в «биоморфизации» бытия на уровне математики, противопоставляемое основоположениям «человечности» как «сакральности» и «этичности», «сердечности».