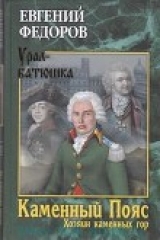
Текст книги "Хозяин Каменных гор"
Автор книги: Евгений Фёдоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 50 страниц)
В самом деле, гречанка назойливо проникала всюду. Демидов уставал от тревог. Разбитый, он приходил в домик просвирни, в котором жила Аленушка, и не находил покоя. Чистая русская красота перестала увлекать гвардейца. Аленушка чувствовала его охлаждение, молчала и стоически удерживалась от упреков.
Однажды Демидов проснулся среди ночи. Над ним склонилось девичье лицо с синими глазами, полными слез. Ему стало жалко свою молчаливую подружку.
– Что с тобой, Аленушка? – ласково спросил он.
– Боюсь, Николенька! Ой, боюсь! – страстно прошептала она и теплым плечом тесно прижалась к нему.
Порыв возлюбленной всколыхнул Демидова. Он осторожно стал ласкать ее светло-русую голову, круглые плечи.
– Чего же ты боишься, моя дурочка? – взволнованно спросил он. – Или ты узнала что-нибудь худое про меня?
– Ах, не то! – покачала головой Аленушка. – Совсем не то! Я знаю, что ты не ангел, но сердцу ведь не прикажешь оставить тебя. Пошла за тобой – выходит, на все решилась: на муки, на радости, на горе! Ах, Николенька, когда любишь человека, то и терзания бывают сладки! Без них не может быть любви! – искренне, горячим шепотом раскрывала она перед ним свою душу.
Демидов удивленно разглядывал девушку.
«Так вот ты какая!» – в умилении подумал он и пожалел о своей слабости:
– Да, нехорош я, Аленушка! Страсти меня обуревают!
Мокрой от слез щекой она прижалась к его щеке.
– Милый ты мой, да где тебе стать хорошим? Барин ты, трудов не знаешь. Все тебе в руки далось без стараний, пришло от богатства! А в безделье человека ржа разъедает! Некрепок он тогда!
– Так ты и боишься этого, что некрепок я и не устою против соблазна? – спросил он, приподнялся и пытливо, долго смотрел ей в глаза.
– Боюсь! – чистосердечно призналась Аленушка. – На худое могут уговорить.
– Кто же меня уговорит?
– Известно кто! – простодушно ответила она. – Подле князя много вертится разных людей, а кто они – один бог знает! Берегись, Николенька! Я прощу обиды, но бывает такое, что никто не простит: ни мать, ни жена, ни люди!
Демидову стало нехорошо под пытливым взглядом девушки. Он опустил глаза, задумался. Потом тихо-тихо снова заговорил:
– Сейчас и я боюсь, Аленушка. Боюсь, что ты моя совесть…
– Далеко мне до этого, Николенька! Я простая русская баба.
Он по-иному рассматривал ее теперь. Впервые увидел в ней человека, русскую душевную женщину. И эта душевность покорила его. Он взял руки Аленушки и перецеловал их.
– Что ты, что ты! – смущенно запротестовала она. – Не надо так! Обними лучше покрепче!
В полуночный час на душу Демидова сошел покой.
– Спасибо тебе! – прошептал Николай Никитич и нежно обнял девушку…
Весь день на очередном дежурстве адъютант напряженно думал. В ставке перебывало много людей: офицеры – курьеры из-под Измаила – ждали приказаний от главнокомандующего, статный кавалергард в серебристых латах из Санкт-Петербурга стремился попасть на глаза Потемкину, генералы, гонцы, просители добивались приема, но Демидов боялся войти для доклада в покой светлейшего. Однако томление достигло предела, и адъютант наконец решился пробраться в комнату князя. С робостью он переступил порог покоя, устланного коврами. Стояла тишина; На пестрой широкой софе валялся Потемкин в атласном голубом халате, надетом на голое тело. На волосатой груди его поблескивали образки, ладанка, два крестика на шелковых шнурках, потемневших от пота. Нечесаный, неумытый, светлейший дремал в забытьи, не интересуясь ни курьерами, ни делами.
При входе адъютанта Потемкин поднял голову.
– Это ты, Демидов? Уйди, надоело мне все!
– Ваша светлость, вы просили напомнить о делах.
– К черту дела! – заревел князь. – Уйди, пока цел!
Потемкин упал лицом в подушки и затих. Адъютант на цыпочках вышел в приемную.
– Господа, князь чувствует себя плохо, и прием не состоится! – оповестил он ожидающих.
Постепенно все нехотя разъехались. Осталась лишь одна де Витт. Шумя шелком, она быстро проскользнула мимо адъютанта и скрылась в покоях Потемкина.
Было за полночь, когда Демидов склонил голову на руки и задремал. За стеной слышались голоса курьеров, берейторов, казаков-скороходов. Тихий говорок монотонно сочился в приемную и усыплял…
Скрип половиц пробудил адъютанта. Он испуганно открыл глаза: что-то легкое, белое мелькнуло мимо него и скрылось в кабинете Потемкина.
«Светлейший!» – в страхе подумал Демидов, и сон как рукой сняло. Он вскочил и, пройдя к незакрытой двери, заглянул…
По мягкому ковру, в ночной сорочке, разглядывая кабинет, медленно двигалась прелестница. На мгновение женщина остановилась, прислушалась и, как мелкий ночной хищник, стала шарить глазами по стопкам депеш…
Шумно дыша, Демидов ворвался в кабинет и схватил ее за руку.
– Что вы здесь делаете? Кто вам разрешил? – возмущенно закричал он, сильно сжав хрупкую руку.
Гречанка приглушенно вскрикнула и виновато прошептала:
– Николенька, я искала вас… Светлейший уснул…
От женщины шло приятное дурманящее тепло, тонкий запах притираний мешался с запахом тела и кружил голову. Она умоляюще смотрела на адъютанта.
Демидов оттолкнул женщину.
– Врешь! – закричал он. – Ты не меня искала! Ты шпионка!
– Николенька, не кричите! Я люблю вас, милый! – жалобно-просяще прозвучал среди ночной тишины ее голос.
– Врешь! Ты не за этим сюда шла! – гневно выкрикнул он и схватил ее властным движением. – Идем!
На крик распахнулась дверь, и вошел встрепанный, вечно бодрствующий Попов. Удивленно разглядывая дежурного адъютанта и полуобнаженную прелестницу, он двусмысленно улыбнулся.
– Простите, я, кажется, помешал! – неприятно скривил он тонкие губы.
– Шпионка! Арестовать! – вне себя негодующе закричал Демидов.
– Прошу вас, тише, господин адъютант! Боже сохрани, разбудите его светлость! – вкрадчивым голосом прервал его правитель канцелярии.
Мягко ступая, он прошел вперед. Его лисье лицо было полно самоуверенности и покоя.
– Демидов, вы с ума сошли! – сказал он сердито. – Мадам де Витт здесь свой человек. Отпустите немедленно!.. Прошу вас! – учтиво поклонился гречанке Попов. – Нельзя быть такой неосторожной…
– Я шла в туалетную! – детски наивно пролепетала она и потупила глаза.
– Вы ошиблись дверью, сударыня. Вот сюда! – Он открыл дверь в покои светлейшего и пропустил ее. Прелестница торопливо скрылась.
– Она шпионка! – гневно сказал Демидов.
– Замолчите, сударь! Своим бестактным поведением вы оскорбляете высокую особу! Слышали? – прошипел правитель канцелярии.
– Вы забываете, господин полковник, что законы военного времени карают шпионов! – наливаясь краской, вымолвил Демидов.
Попов усмехнулся. Оглянувшись, он вплотную подошел к офицеру и прохрипел:
– Запомните раз и навсегда, сударь: все законы здесь, в этом доме, сосредоточены в светлейшем. Он один карает и милует! Потом помните, Демидов, пред вами выбор: или вы будете молчать обо всем, или вам не сносить головы! Вы могли ее соблазнить! Вы понимаете, что это значит? Как посмотрит на это светлейший? Слышали?
У Николая Никитича потемнело в глазах. Его обезоружил этот сутулый, с серым обрюзглым лицом и красноватыми крысиными глазками прислужник князя. У Демидова все внутри кипело, протестовало, но ему стало ясно, что Попов не остановится перед любой ложью.
– Вы слышали? – властно и зло повторил Попов.
– Слышал! Вы подлец! – гневно сорвалось с языка Демидова.
Адъютант схватился за шпагу, готовый вступить в поединок. Но Попов презрительно скривил губы и невозмутимо ответил на вызов:
– Вы ответите мне за оскорбление, Демидов! Драться с вами я не намерен. Вы мальчишка, а я старик; мне не к лицу разыгрывать светские комедии. Спокойной ночи! – Он неторопливо повернулся и тихим шагом вышел из дежурной.
Гречанка и ее муж внезапно исчезли из Бендер. Казалось, никто не обратил внимания на отсутствие де Витт. Даже Потемкин успокоился в тот же день. Оживленный, помолодевший, он весь вечер ласково беседовал со своей племянницей Браницкой.
«Неужели Попов предупредил обо всем прелестницу и они испугались разоблачения? Пустое, эти авантюристы не трусливого десятка! Что же тогда такое?» – растерянно думал Демидов.
Сдавая дежурство Энгельгардту, Николай Никитич задержал его.
– Вы ничего не заметили?
– Нет! – равнодушно отозвался офицер. – На мой взгляд, все идет хорошо!
– Но куда скрылась графиня де Витт? – Демидов пытливо посмотрел на адъютанта.
– Это меня нисколько не интересует! – безразлично ответил тот. – На нашем южном небосклоне каждый день вспыхивают и погасают метеоры. Разве можно обращать внимание на обыденные явления?
В поведении Энгельгардта на этот раз чувствовались превосходство, самонадеянность. С важностью человека, имеющего большой вес, он сказал:
– Только постоянные звезды излучают ровный, негаснущий свет, и это дорого нам, Демидов!
«Он рад за свою сестру, графиню Браницкую. Дальнейшее его не интересует!» – сообразил Николай Никитич.
Демидов взволнованным возвратился в домик просвирни. У огонька, склонившись над шитьем, сидела Аленушка. Тихо скрипнула дверь, девушка обеспокоенно подняла глаза.
– Что с тобой, Николенька? – встревоженно спросила она своего возлюбленного. – На тебе лица нет!
Демидов не спеша снял мундир, обрядился в домашний халат и присел рядом.
– Гречанка сбежала! – глубоко вздохнув, признался он и поведал обо всем, что случилось ночью.
Она внимательно выслушала его.
– Милый ты мой! – воскликнула Аленушка. – Энгельгардт – немец! Ему до России нет дела. Чует мое сердце, Николенька, что не все еще кончилось. Остерегайся!
– Ну, знаешь, волков бояться – в лес не ходить! – насмешливо перебил Демидов.
– Ты не шути! – остановила его строгим взглядом Аленушка. – Звери бывают разные. Трусливая нечисть опаснее храброго зверя! Боюсь я за тебя, Николенька! – Она нежно прижалась к его плечу и стала гладить мягкие волосы.
В маленькой опрятной горенке уютно. В лампочке потрескивает фитилек. В спокойном ровном свете лицо Аленушки выглядит розовым и умиротворенным. Она с душевной лаской смотрит на Демидова. От этого ему приятно и радостно. После шума и сутолоки в штабе здесь все просто, тихо, успокаивает, и забываются все невзгоды.
Аленушка снова принялась шить. Изредка она отрывалась от работы и с загадочной улыбкой взглядывала на Демидова.
– Чему улыбаешься? – ласково спросил он подругу.
– Многое, Николенька, человеку передумается, особенно когда он день-деньской один. Все думаешь и думаешь! – мечтательно промолвила Аленушка. Она снова отложила шитье и склонила на плечо Демидова голову. – Знаешь, Николенька, мне бы… – Она смутилась и покраснела.
Демидов недовольно отодвинулся.
– Да что ты надумала? – обеспокоенно спросил он, и глаза его трусливо забегали.
– Ты не бойся, Николенька! – душевно придвинулась к нему Аленушка. – Ничего этого нет, а случится – не пугайся. Живи как знаешь. Понимаю – не пара ты мне. На это шла…
Круглым розовым локотком она облокотилась на стол и долго задумчиво смотрела на огонек. Он горел ровным пламенем, внося в душу покой и тихую радость. Глядя на грустное лицо Аленушки, Николай Никитич думал:
«Как непохожи русские женщины на авантюристок-иноземок, которые вертятся в ставке светлейшего! У одних любовь и материнство превыше всего, а у тех пустоцветов – ложь, обман и липкая грязь. Фу, мерзость какая! Но отчего же эти пустоцветы больше влекут нас к себе, чем хорошее и чистое? Может, оттого, что последнее – простое и спокойное, а человек вечно чем-либо недоволен, все ищет бури для своего неугомонного сердца! Ах, любовь, любовь!» – вздохнул Демидов.
Угадывая его мысль, Аленушка приласкалась к нему.
– Не кручинься! Не для укора призналась я тебе в своем желании и не для обиды. Господи, как я хотела бы, чтобы ты был простой мужик, пахотник, а я – твоя баба. Натрудился бы ты в поле, наломался над сохой, пришел домой, я тебя бы накормила, обласкала… Николенька…
Он смотрел на нее радостно-удивленным взглядом: Аленушка не оказалась алчной и завистливой. И все же он поторопился отогнать от себя простые и добрые мысли.
«Видать, и во мне сказывается плебейская кровь тульских дедов! – недовольно нахмурился Демидов. – Однако прочь, сии сельские идиллии не для меня писаны!..»
Стараясь скрыть свое настроение, он деланно-протяжно зевнул и пожаловался:
– Спать пора! Сбежал я сюда от суеты на часик-другой!..
Она быстро взбила постель, погасила огонек и улеглась рядом с ним, теплая и покорная.
Не напрасно тревожилась Аленушка: Демидова подстерегало испытание. Поздним вечером он дежурил в штабе. Было около полуночи, когда его сменил Энгельгардт. Веселый и самодовольный, он задержал адъютанта и, обняв его за талию, прошелся с ним по комнате.
– Знаешь, Демидов, я очень счастлив за Сашеньку… Теперь я спокоен…
Николай Никитич озабоченно прервал Энгельгардта:
– А я обеспокоен другим: князь мало уделяет внимания делам…
– Пустяки! Светлейший – чародей, маг! Он все успевает, а для черновой работы – Попов! – отмахнулся адъютант.
«Казнокрад и подлец!» – хотелось выкрикнуть Демидову, но он сдержался. Для многих не составляло секрета, что Попов ночи напролет просиживает за ломберным столом, проигрывая огромные суммы. Откуда они у него?
Хмурый, усталый Демидов посидел полчасика в штабе и, вспомнив Аленушку, решил навестить ее.
На южном бархатно-темном небе мерцали яркие звезды. За Днестром шумели сумрачные заросли. Только что прошел дождь, и в дорожных колеях, наполненных водой, серебрился отраженный серп месяца.
Николай Никитич поспешил по знакомой тропке к дому просвирни. Отчего-то ныло сердце. В потемкинском штабе он чувствовал себя на положении бедного родственника. Санкт-петербургская контора на все просьбы выслать денег скупо отписывалась, тянула и слала ему гроши. Правитель Данилов, ссылаясь на опекунов, не давал размахнуться молодому хозяину. Между тем в главной квартире успех обеспечивался тому, у кого имелся тугой кошелек. Прелестницы дарили Демидову улыбки, жеманились, но подшучивали над ним:
– Не торопитесь, миленький! Ведь вы опекаемый. Дитя!
Он понимал, что дамы знают о состоянии его кошелька, и шутки их злили адъютанта…
В глубоком раздумье пробирался он среди зарослей бересклета, кизила. Позади раздался приглушенный голос:
– Господин, обождите одну минутку!
Демидов оглянулся, вздрогнул. В кустах стоял высокий, широкоплечий татарин в бараньей папахе. Он улыбался, в густой черной бороде блестели зубы.
– Что тебе нужно? – встревоженно спросил Демидов, хватаясь за шпагу.
– Дело есть, господин хороший! – надвигаясь на него, насмешливо сказал татарин. – Зачем трусишь, оставь шпага!
– Какое дело? Кто ты такой? – отступил от него Демидов, пытливо оглядывая бродягу.
Внезапно он услышал тихий плеск и вороватые шаги: кто-то вышел из кустов и преградил тропку.
– Стой! – зло окрикнул его татарин. – Пришел твой конец!
Он ощерил крепкие волчьи зубы и взмахнул рукой. Серебристой искрой сверкнул кинжал, но Демидов проворно уклонился от удара и выхватил шпагу. Он никогда в жизни не дрался на шпагах. Суетливо, но быстро он отбивал удары, стараясь держаться лицом к противникам.
– Зачем канитель такой! Лучше скорый смерть! – насмешливо выкрикнул татарин и с большой яростью напал на офицера. – Не мешай мне! – сказал он своему товарищу.
Медленно отступая, Демидов чувствовал силу и проворство противника.
«Неужто смерть? – мелькнула страшная догадка, и он закричал что было мочи:
– Караул! Грабя-ят!..
– Ну чего кричишь, господин! Добрый офицер стыдится страха. Хороший рубака не кричит, а ты баба! Фазан! Кричи не кричи, все равно тебе сделаю смерть! – размахивая кинжалом, зловеще проговорил татарин. – Смотри!
Он сделал прыжок, но в это мгновение кто-то с разбегу прыгнул ему на спину:
– Ге-е!.. – прохрипел татарин и выпустил кинжал.
С минуту он раскачивался и, с выпученными, изумленными глазами, словно завидев что-то страшное, упал на тропку. Второй противник, грузный и безмолвный, кинулся в кусты…
– Злодей! Николенька, бей их! – раздался женский голос.
– Аленушка! – изумленно прошептал Демидов.
– Круши! – ободряюще позвала она и бросилась за грузным бродягой…
Но Николаем Никитичем овладел страх, безумный, неодолимый страх, от которого похолодела кровь. Не помня себя, он побежал через рытвины и кусты на дальний огонек.
«Господи, спаси меня, спаси!» – тяжело дыша, просил он.
Но никто за ним не погнался. Позади было тихо.
«Ух! – вздохнул Демидов. – Где же Аленушка, что с ней?» – опомнился он.
Впереди на холмике темнел домик, из подслеповатого окошечка струился робкий свет. Демидов взбежал на крылечко и заколотил в дверь:
– Спасите! Спасите!
Распахнулась дверь, в сенцах стоял седенький попик в холщовой ряске.
– Что случилось, сын мой? – встревоженно спросил он.
– Батюшка, там мою холопку режут! – закричал Демидов и схватил его за рукав. – Идем! Идем!
– Эк перепугался! Ничего ей не станет! – спокойным голосом отозвался попик. – Однако погоди, сынок!
Священник вошел в домик и разбудил попадью. Вооружившись топорами, они пошли за Демидовым.
– Что за грех такой! – удивленно пожимал плечами попик. – Откуда и что? Слышишь, все тихо, и, стало быть, понапрасну ты поднял шум!
Они шли по влажной тропке. Ноги скользили, кусты кизила цеплялись за одежду. Зеленый свет месяца то вспыхивал, то погасал. Демидов шел, опустив голову. Ему стало стыдно за напрасную тревогу и за свою трусость.
– Ахти, господи! – вскрикнул вдруг священник и наклонился над тропкой.
Скупой свет пролился из-за тучки. На стежке лежала бездыханная Аленушка. Священник приподнял ее голову.
– Господи, прости ее грешную душу! – тяжко вздохнул он и перекрестился. – Каким извергам понадобилось убивать сию кроткую молодицу?
Демидов упал на колени подле тела Аленушки. Тихие и горькие слезы стали душить его.
Печальная улыбка болезненно скривила губы священника.
– Теперь поздно предаваться отчаянию, господин! Нечистое дело тут вышло! Кто виновен, не я здесь судья!..
Он выпрямился и сказал попадье:
– Пойдем, матушка! Надо прибрать тело!
Мертвящий свет месяца смотрел в похолодевшее лицо Аленушки. Демидовым овладела тоска, смертная, горькая тоска.
5
В то самое время, когда в ставке главнокомандующего Потемкина шли бесконечные пиршества, в столице происходили весьма важные политические события, которые сильно взволновали императрицу Екатерину. Прежде всего ее беспокоила война со Швецией, начатая высокомерным и честолюбивым шведским королем Густавом III, возомнившим себя непобедимым полководцем. Мысль о разгроме России и завоевании балтийских берегов вскружила ему голову. Самонадеянный король хвастался перед придворными, что скоро шведские войска займут Санкт-Петербург и он опрокинет Медного Всадника в Неву. Свитским дамам он заранее обещал пригласить их на великолепный бал, который устроит в Петергофе по случаю занятия русской столицы. Отправляясь в поход, Густав III писал одному из своих друзей:
«Мысль о том, что я могу отомстить за Турцию, что мое имя станет известно Азии и Африке, все это так подействовало на мое воображение, что я не чувствовал особенного волнения и оставался спокойным в ту минуту, когда отправлялся навстречу всякого рода опасностям. Вот я перешагнул чрез Рубикон…»
Военные действия против России начались в 1788 году осадою Нишлотской крепости, находившейся в нескольких днях пути от Санкт-Петербурга.
Императрица сильно перепугалась и на докладе статс-секретаря Храповицкого раздраженно сказала:
– Ах, право, очень жаль, что государь Петр Первый так близко от врага возвел нашу столицу!
Сдержанный и педантичный придворный учтиво ответил:
– Ваше величество, он основал ее прежде взятия Выборга, следовательно надеясь на себя!
Это нисколько не успокоило царицу, волнение ее усиливалось, и в Петербурге со дня на день ждали появления шведов на берегах Невы.
Однако русский гарнизон крепости Нишлота оказался стойким, и шведы не смогли овладеть этой небольшой твердыней. Дальнейшие события показали, что и на море шведы не добились желанных успехов. Битва при Гохланде, которая состоялась 17 июля, закончилась победой: шведские корабли вынуждены были удалиться в Свеаборгскую гавань, и там их блокировал русский флот.
Не удалась Густаву III и главная операция – взятие Фридрихсгамской крепости. Во время приготовлений к осаде в шведском лагере среди офицеров началось волнение. Они отказались сражаться, указывая на незаконность наступательной войны, начатой без согласия сейма. Около ста офицеров подали в отставку и готовились покинуть лагерь. В Аньяле образовалась конфедерация, которая и положила конец военным операциям 1788 года.
Король был в отчаянии. Своему приближенному генералу он признался:
– Наша слава исчезла навсегда, я ожидаю смерти от руки убийцы!
В результате неудач шведский король вынужден был начать переговоры. Между русскими и шведскими войсками возникли самые оживленные сношения.
Один из современников шведского похода сделал очень меткое ироническое замечание об этом событии.
«Шведы в этом походе, – писал он, – нуждались не столько в солдатах, сколько в трубачах для оказания услуг при непрестанном обмене визитами шведских и русских парламентеров».
Екатерина обрадовалась внезапному благоприятному повороту событий. Теперь, когда миновала страшная угроза, она выражала сочувствие шведскому королю и осуждала недовольных им офицеров.
– Изменники! Предали своего монарха! – гневно сказала она о последних. – Был бы король с нами учтивей, он заслужил бы сожаление, но теперь, увы, надо пользоваться обстоятельствами: с неприятеля хоть шапку долой!
Однако радость царицы оказалась преждевременной – вскоре обстоятельства круто изменились к худшему. Королю Густаву III удалось подавить конфедератов. Он стал полным диктатором и с новыми силами бросился в поход.
Вековечные враги России, правящие круги Англии и Пруссии были очень довольны тем, что война со Швецией и Турцией затягивается. Мало этого – эти державы готовы были сделать все для того, чтобы еще больше разжечь вражду между воюющими. Атмосфера накалялась с каждым днем, и можно было ожидать внезапного нападения Пруссии. Обеспокоенная таким оборотом дела, Екатерина 13 мая 1790 года писала Потемкину:
«Мучит меня теперь несказанно, что под Ригою полков не в довольном числе для защищения Лифляндии от прусских и польских набегов, коих теперь почти ежечасно ожидать надлежит. Король шведский мечется всюду, как угорелая кошка. Долго ли сие будет, не ведаю, только то знаю, что одна премудрость божия и его всесильные чудеса могут всему сему сотворить благой конец. Странно, что воюющие все хотят и им нужен мир. Шведы же и турки дерутся в угодность врага нашего скрытного, нового европейского диктатора (короля прусского), который вздумал отнимать и даровать провинции как ему угодно: Лифляндию посулил с Финляндией шведам, а Галицию полякам…»
Положение для России создалось крайне тяжелое, тем более что 17 марта 1790 года шведы неожиданно захватили Балтийский порт. Правда, через несколько часов русские войска выгнали их оттуда, но все же это событие сильно встревожило царицу.
Король Густав III к этому времени разработал план, по которому предполагалось обойти русские крепости Фридрихсгам, Выборг, Вильманштранд, Нишлот и нанести удар непосредственно Петербургу. Это вынудило бы Екатерину заключить мир.
В столицу дошли слухи, что в Балтийском море крейсирует сильный шведский флот и надо ожидать скорого нападения. Царица сильно струсила. Статс-секретарь Храповицкий по обыкновению аккуратно занес 3 мая 1790 года в дневник свои наблюдения за событиями и поведением императрицы: «Шведский корабельный флот в 26 парусах подходит к Чичагову[8]8
Имеется в виду командующий флотом.
[Закрыть], на ревельском рейде стоящему. Великое беспокойство. Почти ночь не спали…»
Царица на самом деле не сомкнула от страха глаз. Однако тревога ее оказалась напрасною. Русский флот всегда отличался неустрашимостью и решительностью действий. Так случилось и в этот раз: утром на следующий день курьер привез весть о победе над шведами. Вражеские корабли были рассеяны.
К сожалению, радость вскоре была омрачена. Несколько дней спустя по столице пронесся новый слух о том, что шведский флот приближается к Кронштадту. Беспокойство, охватившее население Петербурга, достигло крайнего напряжения. Стоило только на одной из окраин города взорваться небольшому запасу пороха, как жители вообразили, что шведы ворвались в столицу.
Вскоре все выяснилось, но горожане по-прежнему собирались на перекрестках, на базарах, – только и было разговору о шведах. В народе в эти дни возникла мысль о создании добровольческих военных дружин для защиты Петербурга. Городская дума одобрила пожелание и решила на свои средства создать команду из двухсот добровольцев.
В таможне в эту пору работал управляющим Александр Николаевич Радищев. Вельможный Петербург считал его очень интересным, но в то же время весьма опасным и беспокойным человеком. Радищева знали и при дворе, так как в юности, во время коронации Екатерины в Москве, он состоял в пажах, затем служил в сенате и даже некоторое время исполнял в нем обязанности обер-аудитора. И там он всегда противодействовал несправедливым решениям; нажил себе среди сенаторов врагов и вынужден был уйти в отставку. О своем прошлом Радищев откровенно говорил:
– Худо ладил со своими начальниками, был не льстив и не лжив.
Александр Николаевич любил литературу, много писал и все свои творения посвятил самому главному в своей жизни – борьбе с крепостничеством и его защитником, царским самодержавием. Лет семь тому назад, в 1783 году, он закончил свою оду «Вольность», которую за резко выраженное революционное содержание отказались поместить в журналах. Списки оды «Вольность» ходили по рукам, и многие с жадностью читали слова о том, что настанет время, и самодержавие рухнет в России, и революция создаст новый строй. Это было неслыханно! Так еще никто не писал:
Из недр развалины огромной,
Среди огней кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег, —
Возникнут малые светила,
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцом,
На пользу всех ладью направят
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцом…
Радищев происходил из дворянской помещичьей семьи и еще в раннем детстве хорошо ознакомился с положением крепостной деревни. Мальчиком он забегал в крестьянские избы и там видел совсем иной мир, который резко отличался от жизни в барской усадьбе. Крепостные вели убогую полуголодную жизнь. В курной избе черно от налета сажи, которая покрывала все: и стены, и потолок, и скамьи. Люди спали прямо на полу или на полатях, подостлав солому и прикрывшись рваным зипуном. Зимой свое жилье крепостные разделяли с ягнятами, телятами, которых брали на ночь, боясь, чтобы они не погибли в холодном хлеву. Долгие зимние ночи трудились при свете лучины. Чрезмерный труд на господ страшно изнурял, и совсем не оставалось времени для работы на себя. Барщина продолжалась четыре, пять, а иногда и все семь дней в неделю. Даже терпеливый отец Александра Николаевича о помещиках-тиранах сокрушенно говорил:
– Они налагают на мужиков труды, выступающие за пределы сносности человеческой.
Ко всему этому за малейшую провинность, а иногда и вовсе без всякой провинности, господа подвергали крепостных порке. Но самое страшное – о крепостных помещики говорили как о вещи или собаке. Крепостных продавали, как обычно продают скот на базаре, иногда разбивая семьи. Еще до восстания Пугачева Радищеву приходилось читать возмутившие его душу публикации о продаже крепостных. Среди них были подобные:
«Сбежал черный курчавый пес; с того же поместья сбежал и дворовый человек. Приметы: рост 2 аршина 6 вершков, бел, кругловат, волосы на голове темно-русые, глаза серые, от роду ему 18 лет, обучен шить мужское платье».
Или:
«Продается дворовая девка 28 лет, умеющая чисто шить и приуготовлять белье и знающая частью женское портное дело».
Или:
«Продается мальчик 16 лет, знающий отчасти поварское искусство».
Все это вызывало искреннее возмущение у Радищева; всюду, где мог, он старался по возможности облегчить участь крепостного раба. Когда петербургская городская дума решила организовать добровольческую дружину, он подсказал, что в патриотических целях неплохо будет принимать в команду и крестьян, бежавших от помещиков. Городская дума согласилась с этим, и вскоре появилось много беглецов, пожелавших встать в ряды защитников отчизны. Таким образом записавшиеся в отряд крепостные избегали кары за побег от барина и, кроме того, получали в руки оружие.
О решениях городской думы доложили императрице. Она пришла в ярость.
– Как смели они делать подобное – в гневе закричала она и повелела немедленно возвратить беглых крепостных помещикам. А тех беглецов, которых помещики не пожелают принять обратно, сдать в солдаты.
Узнав об этом, Радищев сильно огорчился: он явился невольной причиной того, что многие беглые крепостные попали в ловушку.
Между тем беспокойство в Петербурге усилилось. 23-24 мая при Сейскаре произошла морская битва со шведами, и гром орудий был слышен в самой столице. К счастью, и на этот раз шведский флот потерпел поражение и вынужден был удалиться в Выборгскую бухту, где его и блокировали русские. Совершенно неожиданно для короля положение шведов стало самым отчаянным. Ни одно суденышко не могло прорваться сквозь цепь заграждений. Сам Густав III голодал. Екатерина пожалела короля и направила ему особо снаряженное судно с провиантом и пресной водой. Шведам предложили капитулировать, но король, однако, пошел на рискованное дело. Неся огромные потери в людях и в кораблях, окутанный дымом, шведский флот прорвался сквозь густой строй русских кораблей и галерных судов и устремился в открытое море. Даже эта удача шведов не произвела в Европе должного впечатления. Все понимали, что дело короля проиграно…
Казалось бы, Екатерина должна радоваться, однако весь двор находился в большой тревоге: из Франции стали поступать вести одна другой тревожнее, и царица оставалась мрачной, притихшей.
Императрица не случайно отменила решение Санкт-Петербургской думы о допущении в отряд добровольцев беглых крепостных. Русский посол Симолин, пребывающий в Париже, со срочными эстафетами аккуратно присылал ей секретные сообщения о событиях, которые происходили во Франции. К донесениям он прилагал пачки литературы. Каждый раз царица взволнованно вскрывала дипломатическую почту и со страхом читала о событиях во Франции. Но еще больше ее тревожили выписки из донесений французского поверенного Жане. Тайным шифром он сообщал в Париж о настроениях, царящих в России. Пронырливый и оборотистый Безбородко, исполняющий обязанности члена коллегии иностранных дел, сумел добыть ключ к французскому шифру, перехватывал на почтамте письма Жане и делал из них наиболее интересные выписки для императрицы.








