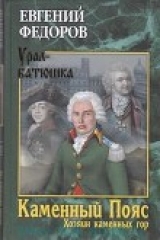
Текст книги "Хозяин Каменных гор"
Автор книги: Евгений Фёдоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 50 страниц)
Конечно, это на руку было Николаю Павловичу, который сам прискакал со свитой и стягивал свои войска. Вот там на углу он на коне гарцевал. Лицо сытое, бледное, надменное. Так и хотелось в него камнем запустить, но, думаю, сейчас и без того начнется настоящее и нам, рабочим, дремать не придется. Ох, горе, и в этот раз до большого дело не дошло! Принялись уговаривать восставших солдат покориться. Генерал Милорадович при голубой ленте вымчал на площадь, на коне ворвался в каре и стал посулы делать. Но не тут-то было! По нему из пистолета стрельнули, вижу – генерал закачался, шляпа с него слетела, телом припал к луке. «Вот наверняка будет схватка», – решил я. Но и опять ничего, прискакал второй генерал уговаривать, угрожал, и тут из народа кто-то его по спине поленом огрел, еле унес ноги его превосходительство… Я на все это гляжу, а самого в лихорадке треплет, даже слезы на глазах выступили, горло пересохло.
«Братцы, братцы! – закричал я солдатам. – Начинайте, мы поможем… Эх-х…»
Каменщик перевел дух, его голубые глаза потемнели. Он ссутулился, словно великая тяжесть навалилась на плечи. Вздохнул и вымолвил:
«Тут бы и ринуться на своего вековечного врага: народ весь в напряжении пребывает, весь Петербург сбежался, только искру брось – живо займется полымя и пойдет крушить! А искры-то и нет, все тлеет, а живинки и не хватает. И вижу, царь подзывает генерала Сухозанета и что-то приказывает ему. Наши мастеровые все знали эту стерву, не раз видели на стройке. Первый подлец был! Глядим – скачет он галопом, и прямо в середину каре. Что он там говорил, не знаю. Сказывают, солдат стращал. Однако и этому не повезло, еле ускакал. Кто-то вслед ему стрельнул, с его султана только перья посыпались.
Ну, думаю, последняя пора подоспела, прозевают, – плохо будет! Холод жмет. Все больше и больше прибывает гвардейцев к Николаю. Затяжка ему, известно, на руку. На сей раз с увещеванием послали митрополита в полном облачении. Солдаты, известное дело, перекрестились, а некоторые и ко кресту приложились, но все-таки строго ему сказали:
«Уходи поскорей, ваше преосвященство, боимся, чтобы беды какой не вышло!»
И столь грозно со штыками наперевес наступили, что митрополит, открещиваясь, еле добрался к нам, за изломанный забор.
«Что, – прикидываю, – и тебя обругали и прочь отослали!..»
Только подумал, гляжу – сам царь Николай выехал на Сенатскую площадь. Но лишь вступил он на нее, как раздался залп. Свита повлекла императора прочь. Пришло и наше время. Коли тебя, подлеца, солдатская пуля миновала, так знай, мы свое в ход пустим. Поленьями, камнями стали в него кидать. Я изловчился – и прямо в каску. Гляжу, царь вовремя голову отклонил. Эх, неудача! Ускакал, ирод! Скачет, а народ кричит, кто чем попало вслед бросает. Комья снега, поленья, палки, каменья полетели в царя и в его свиту. Сказывали, один бросил в Николая кругляшок, тут на храбреца налетел генерал и опрокинул его конем.
«Ты что делаешь?» – закричал генерал. Мастеровой нашелся и лукаво отозвался:
«Шутим мы, барин!..»
В конную гвардию, что царь вызвал к себе на помощь, тоже полетели каменья, замерзшая грязь, а полковника их окружили, и еле он выбрался из толпы. Вот оно, братец, что заварилось…
Черепанов изумленно разглядывал добродушного на вид мастерового. Просто не верилось, что он поднимал руку на царя. Угадав его мысли, каменщик тряхнул головой.
– Ты не гляди, что я такой, – сказал он. – Когда меня за живое тронут, сам не свой: тогда не только до царя, но и до бога доберусь!
Он грустно улыбнулся и продолжал:
– После всего на восставших двинули в атаку конногвардейцев, но их встретили дружным огнем и отбили. Что сделаешь в конном строю, когда гололедица и быстро наползали сумерки… Ох, тяжко мне думать об этом вечере! – пожаловался рабочий. – Ветер усилился, пошел густой снег, солдаты в мундирах окоченели. И чувствую, тоска, смертная тоска навалилась на мою душу. Да что – на мою душу? Вижу, весь народ приуныл, кругом наступило зловещее безмолвие. И наши мастеровые на стройке притихли. Никаким часом, ни курантами это не отметилось, что тут такое произошло, что сейчас так захолодило душу. Упустили время, вот оно что! А главное – с народом не слились, хотя всей душой стремились простые люди помочь им…
Рассказчик замолчал, задумался. Видимо, воспоминания коснулись самого больного места его души. Мирон понял, что он горюет. Положил ему на плечо руку и душевно сказал:
– А ты не терзайся, все миновало…
– Э нет, милок, такое не минуется. Народная кровь не смоется, не забудется. Ух! – Он крепко сжал кулак и постучал по колену, пригрозил невидимому врагу. – Ну, погоди, напомним!.. Однако как ни тяжело, а правду досказать надо… По наказу царя из орудий открыли беглый огонь. Слышу, прогудело и ударило под карниз Сената, только щебенка посыпалась. Народ дрогнул, мастеровые кто куда: между бревнами, камнями, за гранит попрятались. Тут и пошло: второй, третий, четвертый залп, и прямо по солдатам да по народу. Крик, давка. Одни в подворотню побежали, другие в чужие дома, а большинство через перила да прямо на невский лед. Часть восставших по льду норовилась добраться до Петропавловской крепости, но по ним ядрами, ядрами…
Лед местами не выдержал, проломился и немало сердяг ушло вглубь… До самой тьмы била картечь, метались люди, падали в снег и не вставали больше. Вот, как сейчас вижу, по обмерзшим камням, хрипя, припадая, ползет старик с перебитыми картечью ногами и вопит:
«За что же, родимые?»
Эх, горемычный, так и не дополз, тут же у забора и застыл…
– Спустилась мгла, стала оседать изморозь, пала темная-претемная ночь, но и она не принесла успокоения, – грустно вымолвил каменщик и ниже склонил голову. – Как вспомню это времечко, так и сейчас сердце кровью обливается. Кругом лежала такая глубокая тишина, как на кладбище. Только на Сенатской площади и окрест пылали костры. Подле них толпились озаренные пламенем гвардейцы, грелись, несли караулы, да изредка раздавалось цоканье подков – разъезжали конные патрули.
Старшой всех мастеровых собрал на стройке и сказал:
«Выходи, братцы! Порадейте, выполнить надо царский приказ. Надлежит убрать с площади убитых и раненых!..»
Рассказчик смолк, пригорюнился. Молчал и Мирон, чувствуя великую тяжесть на душе.
– Век не забуду и внуков заставлю помнить! – продолжал каменщик; голос его окреп, и жгучая ненависть слышались в нем. – Что царь натворил! Вышли мы на площадь под командой унтеров, и куда на взгляни, куда ни пойди – побитые и покалеченные тела навалом лежат, а снег стал багровым от крови. Немало полегло солдат, но больше всего простого мастерового люда. А за что? За правду, за то, что надеялись на вольность! Убитых клали на дровни и свозили на реку. Товарищи снег скребли и очищенное от крови место присыпали свежим. Мне довелось тела на подводы грузить. Милый ты мой, я крепостной человек и на своем веку много видел жестокостей, но такого злодейства до гроба не забуду! Санкт-петербургский обер-полицмейстер Шульгин, запомни, парень, это имечко, распоряжался бесчеловечно. Всю-то ноченьку на Неве от Исаакиевского моста до Академии художеств били проруби и мертвяков опускали в Неву. А были из полицейщиков и такие звери, которые заодно и раненых опускали под лед. Ни мольбы, ни жалобы, ни стоны не трогали сердца извергов. Ух, как распирало меня всего от злобы! Да что поделаешь? Молчал да скрипел зубами.
Каменщик взглянул на речной простор и с болью вспомнил:
– А к весне весь народ увидел царское «милосердие». В марте на Неве стали извозчики добывать лед и ужаснулись: вытащат льдину, а к ней примерзла или рука, или нога, или целое мертвое тело. Народ со всей столицы сбежался к прорубям. Обер-полицмейстер всех разогнал, а возчикам запретил рубку льда у Васильевского острова. В полую воду все тела быстриной унесло в море. Пошли им, господи, вечный покой. Горемыки, страдальцы, за нас поднялись…
Годы пролетели, а эту ночку не забуду до могилы. Сколько жизней безвинно загубили, а уж что творили полицейщики, не приведи бог. Пустились на разбой, грабили и мертвых и раненых, которых опускали в проруби. Снимали одежонку, отбирали деньги, а того, кто убегал с площади, ловили и в первый черед грабили… Эх…
Черепанов закрыл ладонью глаза, сердце его учащенно билось. Он живо представил себе зимний день, ранний сизый вечер, ночь, костры на Сенатской площади и проруби на Неве. Механик не удержался, застонал.
– Сказывали, что Пугачев с барами был жесток, – взволнованно сказал он. – А как они с нашим братом, с солдатом и мастеровым, посчитались! Разве после этого будешь милостив к барину?.. А что же с теми, которые подняли недовольство на царя? Батюшка мой сказывал, что всех в Нерчинск заслали…
– Погоди, все скажу, дай только с силой собраться. Не могу разом все, больно душу мукой терзает! – Каменщик замолчал, приподнялся с грудки кирпичей, огляделся, прислушался. – Злое ухо ненароком услышит – тогда, парень, обоим нам не сносить головы!
Он смолк и долго-долго сосредоточенно думал о прошлом. Черепанов сидел потемневший, угрюмый. Прекрасный город, который открывался перед ним, сейчас померк. С высоты стройки ему казалось, что на каменной мостовой Сенатской площади проступают красные пятна. Он возбужденно посмотрел на мастера и попросил:
– Досказывай, разом уж всю горькую чашу изопью!
– Слушай, ежели так, – сумрачно отозвался каменщик. – Суд им всем был. Сам царь расписал – кого на каторгу, кого на поселение, а солдат прогнать сквозь строй в тысячу человек, – их шпицрутенами забивали насмерть. С плаца относили одни окровавленные лоскутья человеческого тела. Пятерых, запомни их, – Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского – царь осудил повесить.
Земляк мой Трофимов в ту пору служил в Петропавловской крепости сторожем. Слезно упросил я его допустить меня к себе на жилье, как близкого родственника. Еле-еле уговорил. Старик добрый, хотя и покорный начальству. Видать, и его жалость прошибла…
Двенадцатого июля поутру я заслышал стук топоров.
«Что это?» – спрашиваю старика.
Он побледнел, затрясся и говорит:
«Плотники рубят на Кронверкском валу, из бревен возводят… Подходит, видно, батюшка, их последнее прощание…»
На другой день мне довелось видеть тех, кого осудили на каторгу. Народу набралось много: чиновники, военные, лакеи, женщины. Но больше всего собралось людей у входа в крепость, перед подъемным мостом, да их не пустили. Я в толпу лакеев затесался, да и затаился. Вывели осужденных из крепостных ворот на гласис Кронверкской куртины. На валу виселица: вот почему плотники топорами стучали. Кругом войско. Узников построили, и между ними и войском на красивом гнедом коне разъезжает генерал-адъютант Чернышев. Он что-то крикнул, и тут стали исполнять царский приговор…
Вызывали их, братец, поодиночке. Бледные, измученные, они становились перед палачом. Каждый падал на колени, и палач ломал на его головой шпагу, сдирал мундир и бросал в костер, который развели тут же, на площадке. Бородатый кат в атласной жаровой рубашке держался грубо, жестоко, многим из них причинил излишние страдания. Трофимов по тайности мне рассказал, что Якубович и без того сильно терзался от старой раны. Черкесская пуля пробила ему голову над правым виском, а палач шпагой нажал ему на мучительное место, а у Якушина содрал кожу с чела…
Около часа их терзали, потом обрядили всех в полосатые госпитальные халаты и снова под конвоем повели в крепость… А вскоре на тележках угнали их, скованных по рукам и ногам, на каторгу… Эх, милый, вот оно как!
– А что стало с теми пятью, которых царь приказал казнить? – с волнением спросил Мирон.
Каменщик промолчал, чело его нахмурилось.
– Тех не пощадили. Порешили, но как… И теперь не могу вспомнить без дрожи в теле… – Голос рассказчика в самом деле дрогнул, губы дергались. Овладев собой, он тихо доверился:
– Ты, парень, нашей, крестьянской кости, поймешь, что молчать надо! Сейчас, при царе Николае, вся Расея молчит, безгласна стала. Чуть что – ни милосердия, ни пощады…
– Так ты мне о них расскажи! – напомнил Черепанов.
– Изволь, всего не расскажешь. Про многих мне Трофимов сказывал, как они терзались перед смертью. Умер старик, а мне тайность доверил. Крепче всех запомнился ему тот, который про Ермака песню сочинил, – Кондратий Федорович Рылеев…
Мирон плотно придвинулся к рассказчику. Казалось, давнее время задело его крылом и воскресило минувшее. Кто на Камне не пел про Ермака? Эх, и песня! Как большая и широкая сибирская река, она захватывает и пленит душу русского человека!
– Скажи словечко о нем, – попросил механик, ласково заглядывая в глаза мастерового.
– Запомни, парень, что поведано старым человеком, до внуков донеси предание это! – строгим, величавым голосом сказал мастеровой. – В последнюю ночь Рылеев письмо писал жене. Часто отрывался, думал, метался по камере. С рассветом вошел к нему плац-майор с моим стариком Трофимовым и объявил, что через полчаса надо идти… Он присел, дописал письмо, а в эту пору ему на ноги железа надели. Узник держался спокойно, молчаливо. Он съел кусочек хлебушка, запил водой, перекрестился и сказал:
«Ну, я готов идти! Ведите…»
Черепанов сжал губы, хрустнул пальцами. Каменщик искоса взглянул на него и понимающе кивнул головой.
– Да, милый, хоть и за правое дело идешь на смерть, а душа зайдется. Ничего нет милее и дороже жизни!.. Тяжелее всего довелось другому узнику, Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину. Тому еле двадцать три года минуло. Все дни он метался, как птица в клетке. Бился, искал освобождения, когда принесли ему кандалы и сказали: пора!
Перед выходом из тюрьмы он снял со своей груди образок Спасителя и вручил его Трофимову. Потом я видел этот образок у старика. Старый солдат при мне клялся никому не отдавать эту святыню: на нем, сказывал, двенадцать богатырей из тайного общества клятву дали. До гроба обещал хранить его! Куда этот образок девался со смертью солдата, так я и не дознался…
Из оконца мне довелось увидеть, как всех пятерых повели на казнь. Их ввели в крепостную церковь в саванах и кандалах. И там они при жизни слушали свое погребальное отпевание…
Перед мысленным взором Мирона мелькнули трепетные огоньки восковых свечей, желтые застывшие лица живых людей в саванах и дребезжащий голос священника.
«Да, царь сумел больно ударить по сердцу, которое и без того источало кровь из своих ран!» – с ненавистью подумал он.
Каменщик продолжал глухим голосом:
– Народ издали глядел и томился, что будет на валу… Пятерых в саванах довели до виселицы. Все они крепко, по-братски обнялись и поднялись на высокую скамью, над которой болтались петли. Коренастый палач с рыжими баками, сказывали – швед, из-за моря за большие деньги призвали его на позорное дело. Он и накинул на осужденных петли и сильной ногой выбил из-под них скамью. Двое повисли неподвижно, а трое – Рылеев, молоденький Бестужев да Муравьев-Апостол – сорвались и всей тяжестью пали на ребро опрокинутой скамьи, сильно зашиблись. Народ ахнул, и в толпе закричали:
«Невинны! Невинны! Сейчас их помилуют…»
Их, конечно, никто не слышал, большой ров отделял народ от места казни. Трофимов по тайности передал мне, что Муравьев поднялся с земли и с презрением сказал:
«И этого у нас не смогли сделать!»
Страдал он сильно, да и все измучились. На их глазах снова водворили скамью, перетянули петли. И опять велели подняться на смертное место…
Я смотреть больше не мог, захолонуло на сердце. Еле отошел… Весь день тела для устрашения народа висели под виселицей в саванах. На другой день Трофимов только под утро вернулся домой.
«Ну, земляк, поспешай отсюда! – сказал он мне. – Боюсь я за тебя, место тут проклятое…»
Собрал я котомку, но все же спросил.
«Скажи по крайности, где эту ночь ты пропадал? Никому не скажу!» – пообещал я.
Солдат хмуро повел седыми бровями.
«Перекрестись, что после того не будешь приставать!» – сказал он тихо.
Перекрестился и жду его слова.
«Отвозил их на место вечного успокоения. Уложили их в рогожи, погрузили в лодку и сказали: „Вези!..“ Предал тела земле. Помяни, господи, их души…»
«А где их захоронили?»
«Это не народу знать…»
Больше я не испытывал старика, но скоро среди людей пошел слух, что зарыли тела казненных на берегу Кутуева острова, а другие думку держали, что на Голодае, а были и такие, что утверждали, будто бросили их в яму с негашеной известью, тут же неподалеку, и затоптали…
Каменщик замолчал, поник. То, что смутно рассказывали Черепанову на Урале, встало перед ним во всей жестокости. От сознания этого на душу навалилась тяжесть. Какая страшная сила держит в крепостном рабстве миллионы людей?
– Неужто всем народным мукам не будет конца? – взволнованно спросил он каменщика.
– Всему конец бывает, придет и на них расплата! – строго ответил тот. – В давние времена Степан Разин поднял на бояр всю голытьбу, потом Емельян Иванович зажег пожар на всю Расею. Думается мне, что семена, посеянные на этой площади, обильно взойдут. Придет время…
По лестнице поднимались. Скрипнули тесины, и в отверстии показалась бородатая голова сторожа.
– Это ты, Степанко? – хрипло сказал он. – И чего тебя спозаранку в такую высь занесло?..
– Земляка привел. Пусть полюбуется Питером да работенкой нашей!
– То-то! – безразлично отозвался сторож и, построжав, предложил: – А все-таки, братцы, не мешает сойти вниз.
– Что ж, можно, – согласился каменщик.
Втроем они медленно, осторожно спустились вниз. У стройки Степан сказал Мирону:
– Ты, милый человек, приходи ко мне в барак. Вечером на взморье сплывем, страсть люблю рыбу ловить…
Черепанов возвращался на квартиру, и тяжелые мысли томили сердце. Думы были тревожны, смутны, но совершилось большое и решающее: он потерял веру в царя.
Молча пробрался он в людскую, забился в свой угол и, подложив под голову дорожный мешок, прикинулся, что спит. Но сон не приходил, и беспокойство в душе нарастало. Он сознавал, что обо всем услышанном следует молчать. И Мирон молчал, а на сердце все кипело.
8
Вскоре Черепанова вызвал к себе на доклад главный директор демидовских заводов и вотчин Данилов. За эти годы Павел Данилович изрядно обрюзг, постарел, но важности в нем прибавилось на двоих. Он восседал теперь в обширном кабинете, уставленном мебелью из черного, мореного дуба. Облачен был директор в темно-синий бархатный камзол, на груди – белоснежное кружевное жабо, височки зачесаны вперед, щечки старчески розовые, маленькие склеротические глаза немигающе уставились на переступившего порог механика.
Мирон поклонился и выждал, что скажет Данилов. Директор чуть приметно кивнул на приветствие механика, но с разговором не торопился. Потянувшись к золотой табакерке, усыпанной бриллиантами, он поиграл ею, посверкал, осторожно взял щепотку душистого тертого табаку и медленно заправил в широкий багровый нос с синими прожилками. Потом сладко прочихался, утер кружевным платком верхнюю бритую губу, задумался. Казалось, Данилову не было никакого дела до Черепанова. Положив на стол жилистые руки, он долго играл пальцами, любуясь перстнями. Наконец, видимо насладившись игрой в барина, он поднял плутоватые глаза на механика:
– Здравствуй, Черепанов! Рад видеть. Ведомы мне твои рассказы о санкт-петербургских заводах. Хвалю за любознательность и старание! Покровитель и владелец наш, Павел Николаевич Демидов, не оставит тебя и в дальнейшем своим вниманием! – Он благочестиво взглянул вправо. Там, на стене, в золотой багетной раме красовался портрет Павла Николаевича. Узкое болезненное лицо, бездумные глаза смотрели с полотна. Мирон понял, что надо благодарить хозяина, и, снова поклонившись, сдержанно сказал:
– Спасибо, Павел Данилович, за ласку и заботу! Мы с батюшкой только и живем машинами! Ноне отец ладит станок для сверления насосных труб; это улучшит и удешевит работу по откачке воды из рудника.
– Весьма одобряю! – вымолвил директор. После минутного раздумья он внезапно вспомнил об Ушкове: – Слыхал, что и Климентий ладит свою машину для откачки воды. Выйдет у него?
Мирон хорошо знал, что владелец заводской конницы не знает механики и не интересуется ею. Однако тагилец скромно ответил:
– О делах Ушкова не слышал. Может, что и надумал он, но, не оглядев его механизмов, судить не берусь. Одно скажу, по плотинной части старик Ушков – природный гидравлик. Чутьем доходит!
– Воли хочет! – выпалил вдруг Данилов. – Она не всякому дается. Перед хозяином отменно надо выслужиться! – Директор облокотился на стол и с мягкой вкрадчивостью продолжал: – Одного не понять мне, грешному человеку, к чему мужику воля? За господской спиной – как за каменной стеной! Воля – одно баловство!
Черепанова всего передернуло от суждений Данилова.
«А сам ты кто? Крепостной бывший. Выбрался из грязи в князи, так теперь другое запел! Забыл мужицкую долю. Эх!» – хотелось ему бросить упрек в лицо старому демидовскому холопу, но он сдержался и промолчал.
Главный директор побарабанил по столу перстами, вздохнул:
– Так! Вот и ты, Черепанов, не вознесись гордыней! Что вы ныне задумали с отцом?
– Ох, и сказать страшно! Ругать будете! – взволнованным голосом сказал Мирон. На его лицо легла тихая и грустная мечтательность.
– Говори! – потребовал Данилов. – Если умное задумали, то хозяин непременно одобрит! – Пронзительными хитроватыми глазами он уставился на механика.
– Паровую телегу, или дилижанс, надумали мы мастерить! – смущенно признался тагилец.
– Это что же, вроде дрожек Жепинского? – нахмурился директор.
– Совсем не то, Павел Данилович, – осмелев, запротестовал Мирон. – Дрожки для потехи, а телега – перевозить руду из шахты до завода. Это намного облегчит труд и удешевит железо!
– Разумно толкуешь! – похвалил Данилов. – О сей диковинке стоит подумать. А ну-ка, расскажи подробнее!
Черепанов, не таясь, рассказал о своих замыслах. Он толково и просто объяснил директору действие паровой машины и колесопроводов.
Старик просиял, потирая от удовольствия руки.
– Так, так… В Англии, сказывают, подобные дороги думают строить. Дельно! Ты только подумай, а что, если и в Расее такое? Сколько железа на колесопроводы пойдет! Прикинь, какие барыши да выгоды нашему хозяину привалят! – восторженно выкрикнул он.
Мирон в продолжение всей беседы стоял неподвижно перед главным директором. Хитрые заплывшие глазки Данилова насмешливо поглядывали на Черепанова, прозрачно намекая ему:
«Хоть ты и умница и самоук-механик, а все же раб, так посему потрудись выстоять перед управителем!»
Павел Данилович снова потянулся к табакерке и, заправившись табаком, чихнул. Мирон промолчал, не пожелал здравия директору. Данилов строго покосился, вздохнул:
– Ох, времена пришли тяжелые: не токмо люди наши переменились, но и заморский отпуск славного уральского железа клонится к упадку. Недавно еще наш «Старый соболь» теснил Швецию на английском рынке. Досель мы первыми шли! Кто только не забирал у нас железа? Англичане Судерланд, Ригель, Торнтон! Годков тридцать тому назад шестнадцать контор и английских именитых купцов имели дела с нашей санкт-петербургской главной конторой. А маклеры и не в счет! Да что говорить! Довелось мне поставлять железо португальцам Велью и Мендезе да итальянцу Ливно! И опять же Голландия! – Он утер клетчатым фуляром широкий, изборожденный морщинами лоб и пожаловался: – В середине марта, бывало, перед навигацией в Санкт-Петербург наезжали иноземные купцы и маклеры, и тогда была горячая пора сделок на железо. И цены устанавливал наш хозяин. А на сих днях сэр Прескот со мной говорил, что по семьдесят пять копеек и не более за пуд даст, да и то, сказывает, хуже еще будет, а господин Сулим и в том сомневается, чтобы получить семьдесят пять копеек за пуд. Купец Кононов – тот отказался от сделки, не обинуясь, сказывает: «Железо его высокородия хуже стало!» Вот ты с батюшкой Ефимом Алексеевичем и подумай, как бы поисправнее сделать машину для плющения железа, да и другие выдумки не помешали бы! Надо снизить цену, а то нас вытеснят англичане…
Механик внимательно слушал Данилова, а мысли текли о другом. Он встрепенулся только тогда, когда директор вдруг предложил ему:
– Нева-река в мае вскрылась, море на днях очистится, и пошлем мы тебя на корабле в Англию. Погляди там, что выгоднее: железо, прокатанное в валах, или кованное молотами?
Павел Данилович заговорил тише:
– Известное дело, англичане не уступят секретов, а ты все же вглядись в их прокатные машины. Не пользительно ли будет и нам такое завести у себя на заводах? Главное, дешевле надо научиться робить железо! Вот что важно! – подчеркнул он и внимательно оглядел Черепанова. – Ты перед дорогой получше обрядись, контора толику отпустит на обмундирование, да будь бережлив, честь хозяйскую высоко держи, много денег от нас не жди. Ну, ступай, ступай! Будь здрав!
Мирон поклонился:
– Спасибо за доверие, господин главный директор!
Данилов снисходительно склонил голову и занялся табакеркой. Навощенный до блеска паркетный пол сверкал, отражал в себе шкафы красного дерева, хрустальную люстру и бра. Уходя, механик понял, как высоко вознесся старый управитель. Ни словом не обмолвился он о жизни работных, руками которых создавались демидовские богатства и на труде которых директор сам изрядно разжирел. Горько стало на душе Черепанова; то ли от унижения, что пришлось простоять целый час навытяжку перед Даниловым, то ли от грустного раздумья, но почувствовал он себя страшно усталым.
Выйдя от директора, Мирон побрел по Санкт-Петербургу. Хотелось отделаться от тягостных раздумий. Над Мойкой-рекой зеленели старые тополя, легкий пух цветения носился над водами и набережной. Деревья склонили густые кроны, освещенные снизу голубоватым отблеском воды, и не шелохнутся. Весенний свет лился прямыми потоками на дома, и под этим светом особенно прекрасным казался город. Мирон миновал Исаакиевскую площадь, стройку и вышел к Медному Всаднику. Мечтательно смотрел он на вздыбленного коня, который, казалось, готов был сорваться с гранитной скалы и, гремя огромными копытами, поскакать по берегу. Он вглядывался в лицо Петра, в его протянутую длань и чувствовал грозный взгляд и властную мощь стремительного гиганта. От Невы шла прохлада, запах воды, закованной в гранит. Пахло смолой от причалов, барок и парусников. На плесе у Васильевского острова рыбаки тянули сети, и на солнце серебром сверкала бившаяся рыба. Весна во всей своей могучей силе и прелести чувствовалась здесь, на берегу полноводной реки. Она летела на крыльях вместе с легким влажным ветром, дышала в лицо, бодрила и вызывала в сердце какую-то смутную тревогу. Мирон думал о том, что в жизни хорошее и плохое лежит рядом и люди не хотят изгнать нелепости и гнет, которые мешают им жить.
Крепкая рука внезапно опустилась ему на плечо. Он оглянулся. Большая радость: перед ним стоял в своей измятой, широкополой шляпе улыбающийся студент Ершов.
– Что, братец, залюбовался? Любо и мило мне на Тоболе, но и тут сердце трепещет, глядя на всю эту красоту! – Лицо его сияло, он скинул шляпу, ветер взметнул слегка курчавые волосы. Полной грудью вдохнув глубоко невский воздух, он звучно, крепким голосом продекламировал:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный…
– Ах, мой друг, это он прочел мне свои строки. Они еще никому не известны. Мне доверил! – весь трепеща от радостного возбуждения, воскликнул студент и прижал шляпу к сердцу. – Сегодня великая и незабываемая радость у меня: я был у него – гения нашей поэзии, у Александра Сергеевича Пушкина! Он принял меня, обласкал! С каким вниманием он выслушал мою сказку «Конек-горбунок»! Я видел, как засверкали его глаза, как осветилось лицо гения, и он молвил мне, простому бедному студенту: «Отныне этот род сочинений можно мне и оставить!» Это ли не чудесно? – Он схватил Мирона за плечи, потрясал его и горячо повторял: – Пойми, это диво! Сказка! Очи сомкну в смертный час, в гроб лягу и при последнем дыхании благословлю его имя!
– Так это вы написали сказку! – ошеломленный открытием, воскликнул уралец.
– Я написал, мой друг, я! – горячо заговорил студент. – Да ты не чурайся меня. Ты задумал благое дело – паровые дилижансы, и я для своей Сибири стараюсь. Уж я ее, каторжную, разбужу! Сие чудо совершится поэзией! Гляди, что за диво совершает слово Пушкина! Какое волнение и мысли о свободе оно рождает в обществе! Его словам вторит вся молодая Россия. Ах, какие прекрасные слова:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Уральский мастерко смутился: его пленяли звучные стихи, очарование поэзии, но замыслы и значение, которые придавал Ершов стихам, его настораживали.
– Великие дела творит умное слово! – глухо сказал он опьяненному радостью студенту. – Но во многом не согласен с вами. Вот демидовский приказчик Шептаев не примет доброго слова. Не дойдет оно и до Данилова. Мнится мне, Петр Павлович, не поэзия совершит изменение жизни! Главное в другом! В чем оно, я и сам не додумался пока. Народы угнетены у нас, и одним прекрасным словом не прогонишь наших притеснителей и захребетников. Тут другое надо! Вот Емельян Иванович Пугачев хорошо начал, да где-то ошибочка вышла. Лежит вокруг нас огромная сила народная, а кто ее подымет на вековечных наших угнетателей? Не слово одно, а люди тут нужны. И какие люди! – Мирон пытливо смотрел на студента.
– Поэзия, поэзия решит все! – горячился Ершов.
– Нет, Петр Павлович, не это решит нашу судьбу, – решительно отверг Черепанов. – Надо другой стезей идти. Хорошо начали здесь, на Сенатской площади, да побили их.
– Как, ты и о декабристах слышал? – удивленно вскрикнул студент и сейчас же оглянулся. На набережной было пустынно. – Значит, ведомо тебе и о Рылееве? – приглушенно спросил он.
– Не все, а кое-что ведомо. Дознался, что песню о Ермаке сложил он.
– Вот видишь, – опять за свое взялся Ершов. – Прекрасная песня. Весь народ поет, а что она делает? – Глаза его заблестели, он надел шляпу и спросил:
– А о Радищеве слыхал?
Черепанов простодушно признался:
– Не довелось узнать.
– Вот видишь! А что его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» с умами людей сделала? Разбудила их! Да, разбудила! – сказал он восторженно и со страстью поведал о судьбе Радищева.
Мирон внимательно и молча выслушал. В душе его бушевало. Так вот как! Вокруг него лежит еще целый мир непознанного. «Были люди, которые смело говорили в лицо царям правду о крепостных!» – взволнованно подумал он и спросил:








