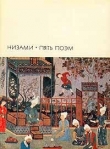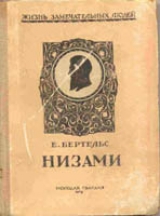
Текст книги "Низами"
Автор книги: Евгений Бертельс
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Теперь Хосров, наконец, собирается с силами, зовет вельмож и приказывает совершить брачный обряд по всем обычаям старины.
В день брака Хосров на пиру вылил слишком много вина. Ширин еще раз дает ему урок и, пользуясь его опьянением, подсовывает в брачную ночь вместо себя отвратительную старуху. Ширин подчеркивает, что Хосров обязан уважать ее и не смеет приближаться к ней в нетрезвом виде.
Женитьба оказывает на Хосрова облагораживающее действие. Ему становится ясно, что развлечения не могут быть единственной целью жизни. Он окружает себя учеными, старается мудро править страной, отдает разумные распоряжения. Но кара за предательство настигает его в то время, когда он достигает вершины счастья.
От Мариам у него был сын по имени Шируйэ (львенок). Юноша увидел Ширин и страстно в нее влюбился. Он переманивает на свою сторону вельмож, свергает отца с престола и заключает его в темницу. Но Ширин готова делить с Хосровом любую невзгоду и идет вместе с ним в заключение.
Тогда Шируйэ решает совсем отделаться от отца. Он подсылает в тюрьму убийцу, который наносит Хосрову смертельный удар. Хосров просыпается, видит исчезающего в окне убийцу, чувствует, что жизнь его покидает. Он хочет разбудить Ширин, мирно спящую рядом с ним. Но ему приходит в голову, что она столько ночей провела в тюрьме без сна и теперь забылась в первый раз. Он не хочет лишать ее утешения сна и безмолвно испускает дух. Низами прекрасно показывает, как переродился эгоист, избалованный царевич, никогда в жизни не думавший о других и искавший только забавы для себя. Хосров поднимается в этот миг до уровня героя.
Теперь Шируйэ хочет овладеть своей жертвой, но Ширин обманывает отцеубийцу. Она притворно соглашается на требования Шируйэ, но ставит условием, чтобы он предварительно уничтожил все, что связано с именем Хосрова: сжег его дворец, убил Шебдиза, предал пышному погребению тело отца. Когда тело шаха вносят в склеп, Ширин входит туда, закрывает двери и закалывается кинжалом над прахом своего возлюбленного. Поэму заключают размышления на тему о бренности мира и непрочности человеческого счастья.
* * *
Мы говорили о той изумительной технике стиха, которую Низами применил в своей первой поэме. Его техническое совершенство полностью перешло и в «Хосров и Ширин». Во второй поэме Низами поднимается даже еще выше. Если в «Сокровищнице тайн» еще кое-где ощущается, что отдельные строки вызваны желанием блеснуть игрой слов, то в «Хосров и Ширин» вся эта техника целиком поставлена на службу основной задаче – как можно более выпукло подать характеры главных героев.
Содержание поэмы, как мы видели, восходит к сасанидской хронике и ряду народных преданий. Форма героического романа относится к далекому прошлому Ирана, к романам, которые складывались, может быть, еще в IV-III веках до нашей эры. Традиция эта упорно держалась в персидской литературе, пережила и тяжкие годы арабского завоевания. Традиция требовала, чтобы заглавие такого романа состояло из двух имен – имени влюбленного и возлюбленной. Еще в XI (веке за романом такого рода закрепился особый метр, так называемый хазадж. Все эти признаки поэмы Низами сохраняет, то есть в формальном отношении не порывает с традицией, но зато по содержанию поэма вводит в классические литературы Ближнего Востока совершенно новый жанр. Совершенно очевидно, что Низами не стремился увлечь читатель обилием и быстрой сменой действия, фантастикой рыцарских похождений. Его задача – совершенно иная: он стремится раскрыть перед читателем во всей полноте характеры трех основных героев своей поэмы. Вся сложность, все их многообразие выявляется полностью именно в процессе их столкновения, и таким образом Низами блестяще решает задачу конструкции самой поэмы.
Истинный герой всей поэмы, конечно, Ширин. Вся любовь поэта на ее стороне. Ширин – та пружина, которая двигает вперед действие поэмы, ею оно направляется, без нее все описываемые события стали бы невозможны. Носитель активного начала в поэме – она, Хосрову же выпадает на долю большей частью роль чисто пассивная. Нужно учесть, что поэма создана в XII веке в мусульманской стране, где женщина считалась игрушкой, продажным товаром. Нужно было обладать необыкновенной смелостью, чтобы так распределить роли героев в то время.
Выразителем традиционных взглядов в поэме является Хосров. Правда, Низами старается подчеркнуть его хорошие задатки, его геройство и человеколюбие, но все же на протяжении поэмы он по большей части предстает перед нами, как прямая противоположность Ширин. Если Ширин уважает народ, заботится о нем, стремится избавить его от ненужных мучений, то для Хосрова народ-средство или для развлечения, или для обогащения. Хосров не способен к действию; при всех своих способностях и красоте он носит в себе яд разложения. Характерно, что все его действия так или иначе обусловлены воздействием Ширин. Единственный раз, когда он предпринимает действие по собственному почину, – это черное предательство по отношению к Ферхаду. Хосров, конечно, любит Ширин, но это эгоистическая любовь, – он только хочет получить, пойти на какие-либо уступки он даже и не помышляет.
Читателю быстро становится ясно, что Ширин отдала свое сердце недостойному. Но здесь-то и сказываются огромное мастерство и глубина психологического анализа Низами. Он прекрасно понимает всю иррациональность любви, знает, что женщины, подобные Ширин, становятся жертвами своей судьбы; полюбив человека, видят уже не его, а тот идеальный образ, который они себе создали. В сущности, вся поэма – цепь разочарований Ширин, которую поражают в самое сердце недостойные поступки ее возлюбленного.
Сила Ширин в том, что, несмотря на все это, несмотря на оскорбления и обиды, она не теряет надежды поднять Хосрова до своего уровня, перевоспитать его и приблизить к тому идеалу, который она себе создала. И поэма кончается победой Ширин. Судьба не дает Хосрову времени полностью раскрыть все заложенные в нем возможности. Но и то немногое, что мы видим в конце поэмы, показывает, что Ширин победила, что под ее влиянием Хосров преображается и становится другим.
Такие взаимоотношения Ширин и Хосрова объясняют и отношение Ширин к Ферхаду. Ширин знает о его любви, видит, что он становится ее жертвой. Можно было бы упрекнуть ее в холодности по отношению к несчастному влюбленному. Но Ширин ничем не может помочь ему. В ее сердце нет места для другого. Любовь Ширин сильнее ее самой. Она оплакивает Ферхада, си души жалеет его, но отвернуться от Хосрова и броситься в объятия Ферхада, с которым она, может быть, и нашла бы большее счастье, Ширин неспособна. Тогда она не была бы той чистой, преданной Ширин, которая цельностью своей натуры способна пленять нас и посейчас.
Конечно, для создания идеального образа женщины Низами мог найти образцы в «Шах-намэ» Фирдоуси, где есть такие прекрасные фигуры, как Рудабэ или Манижэ. Но все же можно думать, что создать образ Ширин ему в значительной степени помогла близость к христианским кругам. При смешанном характере населения Ганджи и ее близости к Грузии поэт не мог не знать о том, что женщина там была свободна и не подвергалась тому унижению, которое было обычно в стране мусульман.
Совершенно исключительное значение имеет третий герой поэмы – Ферхад. Роль Ферхада чисто эпизодическая, его трагическая гибель оказывает сравнительно небольшое влияние на течение событий (если не считать того обстоятельства, что гибель Хосрова – кара за совершенное им предательство). Но, несмотря на это, для замыслов Низами Ферхад совершенно необходим. Поэт противопоставляет эгоистической любви Хосрова другой тип любви – любовь жертвенную. Ферхад ничего не требует, ничего не добивается, – напротив, он готов отдать все вплоть до самой жизни. Любовь для него сама по себе уже величайшая награда. Низами чрезвычайно тонко показывает, что если любовь Хосрова парализует человека, лишает его воли, доводит до низости, то любовь Ферхада, наоборот, поднимает его на неслыханную высоту, толкает на геройские подвиги, помогает полному раскрытию его личности.
Противопоставляя Ферхада Хосрову, Низами еще отчетливее вскрывает недостатки царевича. Но ведь дело в том, что Ферхад – не аристократ. Низами ничего не говорит, о его происхождении; поэт только упоминает, что Ферхад с Шапуром учились у одного мастера. Из этого можно заключить, что Ферхад, как и Шанур, представитель городского ремесла. Но какими чертами наделяет его поэт? Это искусный мастер, бесстрашный, независимый, честный и благородный. Его гигантский рост и сверхчеловеческие силы заставляют видеть в нем, скорее, не индивидуального богатыря, а олицетворенное воплощение труда.
Низами сталкивает между собой представителя замка и представителя города. Представитель города в этом столкновении гибнет. Иначе и не мог решаться вопрос для Азербайджана XII века. Город еще не был достаточно силен. Но характерно, что Ферхад гибнет в результате предательства, а не в честной борьбе. Низами как будто хочет сказать, что пека город еще не может совладать с коварством замка, но, может быть, наступит то время, когда он осознает свое право и сбросит с себя ненавистные – оковы. Для XII века весьма характерен этот рост самосознания города, его стремление окончательно отделаться от опеки замка. Поэма еще лишний раз показывает, какое мощное движение было оборвано кровавым потопом монгольского нашествия, надолго прервавшего естественное развитие стран Ближнего и Среднего Востока.
Таким образом, мы должны признать, что вторая поэма Низами – один из величайших шедевров не только азербайджанской, но и мировой литературы. Первый раз в литературах Ближнего Востока личность человека была показана во всем ее богатстве, со всеми противоречиями, взлетами и падениями.
* * *
Поэма имела успех при дворе. Поэту обещали столько богатств, что ему не верилось в возможность такой щедрости. Ему сулили китайские шелка, коней с царственным убором, десять рабов, пять рабынь. Все это было обещано, но
Смотри, как задержалось выполнение обещания,
Как мое вьючное животное пало, а вьюк застрял на пути,
Как обещавший унес свои пожитки,
оставил несжатым засеянное поле [44]44
[44] То есть умер. Поэма, как мы видели выше, была посвящена главным образом Джихан-Пехлевану. Очевидно, здесь идет речь о его смерти относящейся к 1186 году.
[Закрыть]].
И вот примчался -гонец с письмом, поспешно приветствовал поэта и сел. Он сообщил, что в тридцати днях пути от Ганджи находится шахский кортежи что шах зовет поэта к себе на несколько дней. Затем он вручил Низами письменный приказ. Поэт собрался в путь. Когда он прибыл к шахскому лагерю, о нем доложили, и он был допущен в собственный шатер шаха. На престоле восседал Кизилшах [45]45
[45] Можно думать, что так Низами называет здесь брата Джахан-Пехлевана Кизил-Арслана
[Закрыть]] . Когда Низами вошел в шатер, там происходила веселая попойка под звуки музыки, причем исполнялись газели Низами. При входе Низами шах из уважения к его аскетической жизни приказал убрать вино и удалить певцов и музыкантов. Он оказал:
Напев стихов его – слаще музыки,
Его речи от начала до конца – пение.
Низами приблизился к шаху, тот обнял его и разрешил ему сесть.
Началась беседа, в которой поэт увещевал шаха творить добро и быть справедливым и милостивым.
Затем вошел рави (декламатор) [46]46
[46] У арабских поэтов был обычай держать при себе искусного декламатора, который читал их стихи, когда это нужно было делать публично. Этот обычай позднее перешел и к поэтам других стран Ближнего Востока
[Закрыть]] Низами и прочел касыду Низами в честь шаха. Выслушав стихи, шах положил руку на плечо поэта, похвалил его и завел речь о «Хосрове и Ширин»:
Для тебя и на мне и на брате моем
Стало обязанностью назначить кормление, словно молоко матери.
Брат, который был царем мира,
Миру был и меликом [47]47
[47] Мелик (араб.) – царь, правитель.
[Закрыть]]и богатырем,
За ту книгу, над которой ты годы трудился,
Что дал тебе в награду из самоцветов и сокровищ?
Слыхал я, что он вытянул жребий на избавление тебя от нужды,
Написал на тебя две деревни из своих личных имений.
Что ты скажешь: дали тебе эти деревни или нет?
Ярлык на деревни тебе послали или нет?
Низами был крайне смущен этим вопросом. Как мы видели, он получил только обещание, а даров не получил. Но сказать об этом было опасно. Тем самым он принес бы жалобу на тех вельмож, которым было приказано выполнить веление и которые, очевидно, приказ утаили. Сказать же, что он получил то, чего ему не давали, было бы против правил Низами. Он вышел из затруднения, сказав, что шах, конечно, обещал ему дары, но ведь он же скончался и тем самым «причинил ущерб не только мне, но и всему миру». Он тут же прибавил, что все его надежды на нового шаха.
Кизил-Арслан дал ему грамоту на владение (уже одной!) деревней Хамдуниан и добавил к этому почетный халат. Хотя шахская «милостью и убавила вдвое обещанную предшественником награду, но поэт все же осыпал дарителя благодарностями и получил разрешение отправиться домой. При выходе из шатра какой-то завистник посмеялся над ним, говоря, что особенно распинаться не стоило, так как награда эта -
Деревня, да что за деревня! Словно тесная печь.
Длина и ширина ее полфарсаха,
Дохода она не дает, а расходы на нее истощат любой карман,
Ведь на полях ее работает исполу абхазское царство.
Другими словами, она лежит на границе Абхазии, и урожай ее полей целиком достается не крестьянам, а совершающим набеги абхазцам. Верно ли было это утверждение, Низами не говорит. Он дал обидчику горький ответ, сказав, что шах увидел его скромность и нетребовательность и соразмерил по ней дар свой. Можно думать, что Кизил-Арслан действительно выбрал из всех своих поместий то, которое ему самому ничего не приносило, будучи уверен, что скромный шейх протестовать не посмеет. Никаких указаний на доходы с этой деревни мы в дальнейшем в произведениях Низами не находим.
Этот рассказ о свидании с Кизил-Арсланом дал историку XV века Доулатшаху повод к такому фантастическому преданию:
«Атабек Кизил-Арслан пожелал побеседовать с шейхом Низами. Он послал кого-то за шейхом. Доложили: шейх – отшельник и с султанами и правителями не общается. Атабек, желая проверить это, поехал повидать шейха. Шейх чудесным образом узнал, что атабек едет испытать его и относится к шейху с презрением. Шейх из духовного мира кое-что напустил в глаза атабеку. Тот увидел, что поставили царственный престол, украшенный самоцветами, и увидел кресло из драгоценных камней. Увидел, что сто тысяч слуг и воинов и свиты царской, и гуламы [48]48
[48] Гуламы – рабы, из которых формировались отряды телохранителей.
[Закрыть]] с изукрашенными драгоценными камнями поясами, и хаджибы [49]49
[49] Хаджиб – хранитель завесы, отделявшей помещение, где находился сам повелитель, от остальной залы; своего рода церемониймейстер, камергер.
[Закрыть]] , и недимы [50]50
[50] Недим – лицо, назначавшееся специально для того, чтобы быть собеседником правителя за столом, в часы досуга, когда он захочет развлечься разговором
[Закрыть]] стоят вокруг, а шейх, словно падишах, сидит на том престоле.
Когда взор атабека упал на это величие и мощь, он смутился и хотел смиренно поцеловать ноги шейха. Вернувшись из мира духовного в мир физический, он увидел, что жалкий старик сидит у входа в пещеру на клочке войлока, а перед ним лежат священный свиток Корана, чернильница, калам, молитвенный коврик, посох и немного бумаги. Он смиренно поцеловал руку шейха, и с тех пор его почтение к шейху достигло высокой степени. Шейх тоже краешек помыслов и забот уделял ему и временами посещал атабека и беседовал с ним».
Из этой легенды видно, как трудно полагаться на поздние источники. Авторов XV века скромная действительность не удовлетворяла, и ее украшали, не считаясь с собственными словами автора.
Поездка Низами к Кизил-Арслану была, по-видимому, единственным случаем, когда он покинул свой родной город. Никаких упоминаний о выездах из Ганджи у него в дальнейшем не встречается. Правда, некоторые иранские литературоведы утверждают, что он ездил в хаддж с Хакани, с которым якобы был дружен; хронологически это невозможно, а среди поздних касыд Низами, написанных значительно позже (после 1191 года), можно найти указание, что поэт хотя и -мечтал о поездке в 'Мекку, но осуществить эту мечту ему не удалось.
НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ. «ЛЕЙЛЯ И МЕДЖНУН»
Материальное благосостояние Низами в результате его поездки к Кизил-Арслану едва ли особенно возросло. Но слава его, безусловно, значительно упрочилась. Весною 1188 года в его скромном доме снова появился царский гонец. На этот раз он прибыл из другого конца Азербайджана, из столицы ширваншахов Шемахи. Грозный Ахсатан I, столь сурово обошедшийся с Фелеки и Хакани, обратился к ганджинскому поэту с предложением написать для него поэму. В отличие от Ильдигизидов он не предоставил поэту возможности самому выбрать тему, – он прямо указал, что желает получить обработанную в персидских стихах арабскую легенду о несчастных влюбленных Лейли и Меджнун.
Заказ этот не обрадовал Низами. Тема его не влекла, она не давала возможности достаточно широко применить выработанные к XII веку навыки поэтики. Она не позволяла ввести развернутые описания садов, царских пиров и т. п., обычных для того времени сцен. Низами с горечью замечает, что эта тема суха, как пески аравийских степей, где разыгралась трагедия Меджнуна.
Низами сообщает, что принять заказ его уговорил его сын Мухаммед, который в это время уже был тринадцатилетним мальчиком. Он сказал отцу, что на тему о любви он, знаток человеческого сердца, всегда сумеет создать прекрасное творение. Кроме того, с таким могущественным властелином, как Ахсатан, но его мнению, портить отношения не следовало. Более того, Мухаммед начал упрашивать отца отправить его, когда поэма будет закончена, вместе с рукописью в Шемаху к юному сыну ширваншаха Минучихр ибн-Ахсатану.
Очевидно, Минучихр в это время только что достиг того возраста, когда, по обычаям времени, ему уже подобало создать вокруг себя свой собственный двор, своих советников, недимов и поэтов. Муxаммеда привлекала придворная пышность. Об этом довольно грустно говорит и сам Низами. Мухаммед рассчитывал, сблизившись с Минучихром, по вступлении его на престол сделать блестящую карьеру и выдвинуться на какой-нибудь крупный государственный пост. Низами согласился на эту просьбу и ввел в поэму обращение к Минучихру, в котором призывает его оказать внимание Мухаммеду. Из этого конечно, еще не следует, что поэт хотел расстаться со своим любимцем. Он мог рассчитывать на то, что Минучихр назначит его сыну пенсию, которая, как это тогда делалось, будет высылаться в Ганджу. Как бы там ни было, но из всех этих планов ничего не вышло, ибо по неизвестным причинам Минучихр своему отцу не наследовал.
Эта попытка обеспечить положение сына весьма показательна. Очевидно, материальное положение поэта уверенности в будущем ему не внушало. Правда, в «Лейли и Меджнун» нет жалоб на нужду, которые мы найдем в дальнейших поэмах. Некоторые историки из этого даже заключили, что дар Кизил-Арслана позволил поэту зажить спокойной деревенской жизнью. Но думать, что Низами перебрался в подаренное ему поместье, нельзя. Мы видели, что оно находилось где-то у границ Абхазии. Жить в таком углу в те времена безоружному горожанину было бы слишком опасно. Надо поэтому думать, что Низами довольствовался теми скудными доходами, которые удавалось получить с деревни Хамдуниан. Каждодневное пропитание было обеспечено, но будущее не могло не вызывать опасений. Итти же на службу к шахам Низами попрежнему упорно не желал. Он говорит в «Лейли и Меджнун», в главе, где дает советы сыну:
Откажись от шахского кормления,
Ибо военная служба несет бездомность,
Общения с падишахом остерегайся,
Как сухой хлопок жаркого огня.
От огня, хоть он и полон света,
В безопасности лишь тот, кто вдали.
Можно, однако, думать, что, помимо доходов с Хамдуниана, у Низами был и еще какой-то заработок. На это как будто указывают его слова:
Я кормлюсь трудом своих собственных рук;
Если есть у меня достаток, то из собственного клада,
В другом месте этой же поэмы он говорит, что если бы ему не мешали другие работы, он закончил бы поэму скорее.
Но если материальная обстановка в конце восьмидесятых годов XII века и была у Низами довольно сносной, то жизнь поэта омрачалась тем, что его коллеги по профессии начали проявлять еще более энергичную деятельность, желая избавиться от столь мощного соперника.
Поэт горько жалуется на литературных воров.
Если я своим ремеслом делаю напевание газелей,
То он [соперник] выдвигает клевету.
Если я налаживаю бойкие касыды,
То он открывает вялые создания.
А когда он берется за писание поэм,
Как мне рассказать, какие бредни он городит!
Я чеканю свою монету хорошим штампом,
Он тоже чеканит, но наоборот.
Обезьяна ведь делает то же, что и люди,
И в мутной луже видны звезды.
Мало того, что эти любители легкой наживы его обкрадывают, они еще, стремясь прикрыть свои грязные дела, его же и обвиняют в плагиате:
Обкрадывающий меня, вместо награды,
Ругает меня, хотя это и воровской крик:
Ведь когда на улице ловят вора, воры
Бегут по улице, кричат: «Вор! Вор!»
То, что он крадет мои жемчуга, да простится ему,
Но ругань по отношению ко мне да станет ему бедой.
Видит он искусство, а сам в искусстве не силен,
Творит зло и даже не понимает этого.
Низами неприятно затрагивать эту тему. Но поэт оправдывает себя. Он сам никогда никого не обкрадывал; даже собаку, и ту не обидел дурным словом. Он знает, что выражать гнев не достойно разумного человека. Но все же бывают случаи, когда промолчать означает проявить малодушие. Сказать об этом нужно еще и потому, что если в Гандже земляки знают его силы и способности, то ведь за пределами города никто его не защитит от наветов, -приходится о защите подумать самому.
* * *
Сюжет, на который Ахсатан поручил Низами написать поэму, принадлежит к числу наиболее широко распространенных на Ближнем Востоке преданий. Если сравнить его распространение с близкой к нему по характеру «печальной повестью» о Ромео и Джульетте, то мы убедимся, что «Лейли и Меджнун» распространена гораздо шире.
С «Ромео и Джульеттой» в Европе и Америке, как правило, знакомятся через книгу или театр. Предания о Меджнуне во всех странах Ближнего и Среднего Востока давно слились с фольклором, и образы несчастных влюбленных становятся с раннего возраста близкими и привычными друзьями самых широких слоев населения, включая и неграмотных. Не приходится сомневаться в том, что этому распространению в значительной степени содействовала прекрасная поэма Низами.
Самая основа предания восходит к глубокой древности, Курдские фольклорные варианты довольно ясно показывают астральный (связанный с первобытными объяснениями движения звезд) характер лежавшего в их основе мифа. Однако имеющиеся в нашем распоряжении письменные документы все же не идут далее ранней арабской литературы, с которой поэтому и приходится начинать рассмотрение данной темы.
Заказ Ахсатана был формулирован весьма четко:
Хотим, чтоб в честь Меджнуновой любви
Гранил, как жемчуг, ты слова свои.
Чтобы, Лейли невинность обретя,
Ты был в реченьях свежим, как дитя.
Чтоб, прочитав, сказали мы: «Ей-ей!
Клянемся днесь короною своей,
Что сладость книги стоит сотен книг».
Ты перед нами некогда возник,
В чертоге слов, как некий шах Хосров,
Так не жалей опять своих даров, -
Арабской ли, фарсидской ли фатой
Украсишь прелесть новобрачной той.
Но знай: с твоим искусством, Низами,
Знакомились мы прежде. Так пойми:
Для чьей отрады, для чьего лица
Ты нанизал свой жемчуг из ларца?
Нам неприличен тюркский твой язык.
Наш двор к простецким нравам не привык.
Раз мы знатны и саном высоки,
Высокие да слышим языки!
Характерно подчеркивание необходимости применения в поэме персидского языка. Оно неслучайно в устах ширваншаха, который, говоря о своей высокой родословной, имеет в виду связь с царями домусульманского Ирана.
Мы знаем две попытки увязать династию Ширваншахов с прошлым. По одной они ведут свой род от мифического стрелка из лука – Ареша, сына Кей-Кобада, по другой – от Бехрама Чубинэ, о котором мы говорили в предшествовавшей главе. Об этой похвальбой связью с древними властителями свидетельствует и список собственных имен Ширваншахов, среди которых мы находим Ферибурза, Манучихра, Фервдуна, Шаханшаха, Фаррухзада, Гершаспа, – всё имена, украшающие собой страницы «Шах-намэ». Это ясно показывает стремление восстановить старые традиции, сильно пострадавшие от долголетнего владычества тюрков – газневидов и сельджуков.
Несколько странен выбор темы. Казалось бы, что блюстителям иранских заветов нужно было заказать произведение на тему, связанную с традициями героического эпоса, столь популярного в этих кругах. Однако Ахсатан остановил свой выбор на чисто арабской теме, подчеркнув к тому же еще и желательность использования арабизмов в персидской речи.
О причинах такого выбора можно сделать следующее предположение. Ахсатан, видимо, интересовался литературой и был довольно начитан. Он не мог не знать, что почти все попытки продолжать традиции Фирдоуси в XI веке к желательным для старой аристократии результатам не приводили. Стоит вспомнить такие поэмы, как «Гершасп-намэ» Асади (написана в первой половине XI века) или «Вис и Рамин» Фахраддина Гургани (написана в середине XI века). Задание первой поэмы было – дать идеальный образ феодального аристократа. Гершасп, по мысли заказчика, должен был затмить доблестью даже знаменитого Рустама. На деле получилось иное. Как поэт ни восхваляет Гершаспа, но перед читателем встает образ жестокого, кровожадного, вероломного тирана, кроме отвращения никаких иных чувств не вызывающего. То же случилось и во второй поэме. Рамин, выставленный как образец рыцарских добродетелей, оказывается лживым, трусливым сладострастником, прекрасная Вис – распутной, безудержной в своих страстях, лживой и коварной. Хосров в изображении Низами идеальным типом отнюдь не является и сильно проигрывает рядом с простым ремесленником Ферхадом.
Предложенная Ахсатаном тема давала возможность избежать таких скользких вопросов. Она при любой трактовке не могла повредить интересам заказчика.
Низами взялся за предложенную ему тему, и в четыре месяца поэма была завершена. Совершенно неожиданно для самого поэта работа далась ему крайне легко:
Я говорил, а сердце давало ответ,
Я лишь царапну, а родник дает воду.
Если бы другие дела были запретны,
Была бы она завершена в четырнадцать ночей.
Низами указывает и точную дату окончания Труда – 24 сентября 1188 Пода.
В стихах ранних персидских поэтов XI века мы уже нередко встречаем имя Меджнуна, обычно приводимого как образец преданного возлюбленного. Можно поэтому думать, что предание о Меджнуне в это время уже было широко известно. Но письменных источников на персидском языке, излагающих это предание в более или менее полном виде, пока не обнаружено. Нужно поэтому думать, что Низами пользовался преимущественно источниками арабскими. У арабов эта тема была разработана как в фольклоре, так и письменно. Ввиду крайней сложности исследования раннего арабского фольклора мы здесь этой первой группы источников касаться не будем, а отошлем интересующихся ею к работе академика И.Ю. Крачковского [51]51
[51] И. Ю. Крачковский. Ранняя история повести о Меджнуне и Лейли в арабской литературе. «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка». 1941, № 2, стр. 7-21.
[Закрыть]]
Из письменных источников, которые могли быть доступны Низами» мы остановимся на трех. Старейший из них – «Трактат о поэзии и поэтах» Ибн-Кутейбы (умер в 689 году). В этом трактате целая глава отведена Меджнуну.
Из нее мы узнаем, что настоящее имя Меджнуна [52]52
[52] Меджнун – означает «бесноватый, одержимый».
[Закрыть]] было Кайс ибн-Муад, или, по другому варианту, Кайс ибн-Мулаввах, и что происходил он из племени Бени Джа'да. В детстве Кайс вместе с девочкой из своего племени, Лейли, пас верблюжат. Постоянное общение детей привело к тому, что они горячо полюбили друг друга. Но, как говорит автор, «дело Меджнуна затянулось», и в результате он потерял рассудок. Он бежал от людей, начал скитаться с дикими зверями, носил рубище. Когда с ним заговаривали, он не понимал человеческой речи и отвечал только в том случае, когда при нем произносили имя Лейли.
Некий Науфаль ибн-Мусахик, услышав о Меджнуне, разыскал его в пустыне. Он нашел Меджнуна голым, играющим с пылью. Он одел безумца в припасенные одежды, пытался говорить с ним, но ответа не получил. Тогда он заговорил о Лейли. Меджнун пришел в себя и даже запел стихи. Науфаль решил помочь Меджнуну и повел его с собой. Но племя Лейли встретило их с оружием в руках, и старейшины заявили: «Ёаллахи! О, Ибн-Мусахик, Не вступит Меджнун на нашу стоянку никогда, или же мы все умрем». Науфалю пришлось отказаться от осуществления своего намерения.
Далее рассказывается, что некто на пути в Хиджаз был застигнут непогодой и вынужден искать убежища в богатом шатре, возле которого было много скота. Одна из женщин в шатре, узнав, что он едет из Неджда, стала расспрашивать его, что он знает о человеке по имени Кайс. Узнав о его невзгодах, она долго рыдала. Это и была Лейли.
Отец Меджнуна пытался всеми способами уговорить отца Лейли согласиться на их брак, но тот принес клятву, что не выдаст свою дочь за Меджнуна никогда.
Тогда Меджнуна повезли в Мекку. Там он должен был помолиться об избавлении от страсти. Но когда путники были в долине Мина, где-то поблизости, за шатрами, раздался возглас: «О, Лейли!» Этот возглас мгновенно с полной силой воскресил уже остывавшую страсть, и Меджнун упал без чувств. Надежд на его излечение уже нет. Лейли тем временем выдали замуж за другого, и, узнав об этом, Меджнун окончательно помешался. Его заковали в цепи и заперли. Но он так бился, что родные побоялись удерживать его и отпустили. Он ушел в пустыню и стал скитаться с дикими зверями. Ему носили туда пищу и оставляли ее в определенном месте, куда он за нею приходил. Несмотря на безумие, Меджнун все это время складывал прекрасные песни о своей любви, и одному юноше удалось даже подслушать и записать их. Как-то раз заметили, что он три дня не приходил за пищей. Пошли искать и нашли его мертвым в каменистой лощине.
Очень близки к этим рассказам и сведения, сообщенные знаменитым сборником «Книга песен» Абу-л-Фараджа ал-Иефахани (897-957). Абу-л-Фарадж говорит, что по одним сведениям Меджнунов было несколько, а по другим – это вымышленный персонаж. Один юноша из дома Омейядов любил дочь своего дяди, писал о своей любви стихи и придумал предание о Меджнуне, желая скрыть свою страсть.
Излагая далее самое предание, Абу-л-Фарадж сначала сообщает то же, что мы находим у Ибн-Кутейбы. Интересен такой рассказ. Прекраснее Лейли для Меджнуна в мире нет ничего. Только однажды ее красоту ему напомнила газель. На нее напал волк, зарезал ее и начал пожирать, но тут подоспел Меджнун и убил волка.
Далее следует рассказ о том, как Меджнун однажды встретил двух охотников, которые вели пойманную газель. Он выкупил ее в обмен на овцу и отпустил на волю.
Наиболее полным сводом рассказов о Меджнуне можно считать так называемый «Диван Меджнуна» – сборник его стихов, снабженных комментарием Абу-Бекра ал-Валиби.
В этом сборнике эпизоды уже слегка между собой связаны и чувствуется какая-то единая линия. Детство молодых людей здесь описано так же, как и у Ибн-Кутейбы, с добавлением такого рода. Лейли любит слушать старые предания, и Меджнун развлекает ее своими повествованиями. Об их привязанности узнает отец Лейли и, разгневанный, обращается к султану, который объявляет Меджнуна вне закона. Далее следует неудачное сватовство, отчаяние Меджнуна, его поездка в Мекку и все то, что мы уже рассказывали. Причина, по которой отец Лейли не соглашается на брак, такова: народ слишком много болтает о близости молодых людей друг к другу.