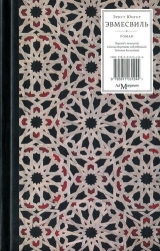
Текст книги "Эвмесвиль"
Автор книги: Эрнст Юнгер
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Эрнст Юнгер
Эвмесвиль
Учителя
1
Меня зовут Мануэль Венатор [1]1
Меня зовут Мануэль Венатор.Мануэль – сокращенное от Иммануэль, «С нами Бог». Венатор – латинское venator, «охотник».
[Закрыть], я ночной стюард на касбе Эвмесвиля [2]2
…на касбе Эвмесвиля. Касба ( арабск. «цитадель», «укрепленное поселение») – крепость, обычно находившаяся на некотором отдалении от исламского города. Прообразом касбы в романе была касба города Агадира в Марокко, построенная в XVI в. и ныне почти полностью разрушенная. 8 марта 1974 г. Юнгер, отдыхавший в Агадире, пишет в своем дневнике: «Последний день в старом году жизни. Я снова ускользнул в Африку. Ночью гроза, сильный ливень в первой половине дня. <…> Продолжил также составление плана „Великого сбора“ [первоначальное название романа. – Татьяна Баскакова]. Действие могло бы разворачиваться на этой сейсмоактивной почве, Касба в центре с видом на море и пустыню, на Сус и заросли кустарника».
[Закрыть]. Внешность у меня неприметная, но в состязаниях я вполне могу рассчитывать на третье место, да и с женщинами не испытываю затруднений. Мне скоро исполнится тридцать; характер мой находят приятным – иначе я бы не мог заниматься таким ремеслом. С политической точки зрения меня считают благонадежным, пусть и не особенно активным.
Вот несколько слов о моей персоне. Приводимые мною сведения правдивы, хотя пока и нечетки. Я буду постепенно уточнять их, поскольку в них содержится завязка некоей диспозиции.
*
Уточнять нечеткое, все более и более внятно определять неопределенное: в этом задача любого развития, любого временного усилия. Поэтому физиономии и характеры с годами проступают яснее. Так же происходит и с рукописями.
Поначалу ваятель противостоит необработанной глыбе, чистой материи, заключающей в себе любую возможность. Глыба же отвечает резцу: ваятель может ее разрушить или высвободить из нее влагу жизни, ее духовную силу. Все пока неопределенно, даже для самого мастера, и не совсем зависит от его воли.
Нечеткое, неопределенное, а также вымысел – не значит неверное. Пусть это будет неправильным, главное, чтобы не было неправдивым. Какое-нибудь утверждение – нечеткое, но не неверное – может проясняться фраза за фразой, пока высказывание наконец не сфокусируется на главном. Если же высказывание начинается со лжи, оно вынуждено поддерживать себя все новой и новой ложью, пока в конце концов постройка не рухнет. Отсюда мое подозрение, что уже сотворение мира началось с вкравшегося подлога. Будь то простой ошибкой, рай можно было бы восстановить в ходе дальнейшего развития. Однако Старик засекретил дерево жизни.
С этим связаны и мои страдания: с неисцелимым несовершенством, не только сотворенного мира, но и собственной личности. Осознание такого несовершенства ведет, с одной стороны, к вражде с богами, а с другой – к самокритике. Возможно, я склонен преувеличивать, но, во всяком случае, и то и другое ослабляет способность действовать.
Только не пугайтесь: морально-теологического трактата не последует.
2
Первым делом следует уточнить, что меня хотя и зовут Венатор, но не Мануэль, а Мартин [3]3
… не Мануэль, а Мартин. Латинское имя Мартин означает «воинственный, посвященный Марсу». Святой Мартин – римский воин, всадник на белом коне – покровительствовал обездоленным (разрубил пополам свой плащ, чтобы поделиться с нищим).
[Закрыть]: именно такое имя было мне дано при крещении, как выразились бы христиане. У нас оно присваивается отцом: подняв новорожденного, он нарекает его именем и позволяет ему огласить помещение громким плачем.
Мануэль же, напротив, – прозвище, полученное мною в период службы здесь, на касбе; его дал мне Кондор. Кондор – это мой патрон, нынешний властитель Эвмесвиля. Он уже много лет живет на касбе, в цитадели, которая приблизительно в двух милях по ту сторону города венчает голый холм, издревле называемый Пагос.
Такого рода соотношение между городом и крепостью встречается во многих местностях; это наиболее удобно не только для тирании, но и для любого личного правления.
Свергнутые Кондором трибуны [4]4
… Свергнутые Кондором трибуны… В Древнем Риме трибуны – должностные лица, с 494 г. до н. э. ежегодно избиравшиеся из плебеев на собраниях по трибам(округам). Должность народных трибунов была введена для защиты прав плебеев от произвола патрицианских магистратов. В период поздней республики ежегодно выбирали 10 трибунов. Трибуны имели право накладывать вето на распоряжения или постановления любого магистрата (кроме диктатора и цензора) и сената, арестовывать и приговаривать к штрафу магистратов (кроме диктатора) и рядовых граждан, созывать собрания плебеев, заседания трибутных комиций и сената и председательствовать на них, издавать эдикты и предлагать законопроекты. Трибуны были единственной магистратурой, не слагавшей своих полномочий перед назначенным диктатором. Личность народного трибуна считалась неприкосновенной.
[Закрыть], наоборот, незаметно закрепились в городе и правили из Муниципио. «Там, где лишь однарука, она эффективней действует на длинном рычаге; где могут высказываться многие, требуется брожение: они внедряются в человеческое сообщество, как закваска в тесто». Так говорит Виго [5]5
… Виго… Прообразом этого персонажа, несомненно, был Карл Шмитт. Однако историческим примером мог служить также Джамбаттиста Вико (1668—1744) – крупнейший итальянский философ эпохи Просвещения, творец современной истории, кроме того заложивший основы культурной антропологии и этнографии. Его главный труд – «Основания новой науки об общей природе наций» (1725), – кончающийся словами: «Только религия заставляет народы совершать доблестные дела под влиянием чувств». Виго в романе имеет и биографические черты сходства с Вико, который в автобиографическом сочинении «Жизнь Джамбаттисты Вико» пишет о себе (Джамбаттиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций / Перевод Андрея Губера. Киев: REFL-book, М.: Ирис, 1994. С. 500):
При исполнении своих профессорских обязанностей Вико живо интересовался успехами юношей. И для того, чтобы избавить их от обмана или не дать им впасть в обман лжеученых, он совсем не заботился о том, чтобы избегнуть недружелюбного к себе отношения ученых коллег по профессии.
[Закрыть], мой учитель; о нем еще речь впереди.
*
Почему же Кондор пожелал, то есть фактически повелел, чтобы я звался Мануэлем? Предпочитал ли он иберийское звучание, или имя Мартин ему не нравилось? Так я предположил вначале: существует ведь, в самом деле, какая-то антипатия или, во всяком случае, чувствительность к некоторым именам, которую мы недостаточно учитываем. Иные на всю жизнь обременяют своего ребенка именем, отвечающим их сокровенным мечтам. Подходит к тебе какой-то гном и говорит, что его зовут Цезарь… Другие выбирают имя господина, в данный момент стоящего у кормила власти, так же как и здесь среди бедных и богатых уже есть маленькие Кондоры. Это тоже может принести вред, особенно во времена без надежного порядка наследования.
Слишком мало – и это касается большинства – обращают внимание также на то, гармонирует ли имя с фамилией. «Шах фон Вутенов»: это громоздкое, почти непосильное с фонетической точки зрения требование. Зато: Эмилия Галотти, Евгения Гранде – такие сочетания легко и уравновешенно парят в акустическом пространстве. Естественно, «Евгения» произносится подчеркнуто на галльский, а не на алеманнский манер: Ёжени, со смягченным «ё». Точно так же здешний народ сгладил имя Эвмена: в просторечии наш город называется Ёмсвил.
Теперь подойдем ближе к делу: «Мартин» несовместим с явно выраженным музыкальным слухом Кондора. Оно и понятно, поскольку средние согласные звуки звучат твердо и зазубренно, они царапают ухо. Покровитель моего имени – Марс.
Такая чувствительность у владыки, обязанного своей властью оружию, конечно, представляется странной. Я осознал данное противоречие лишь после длительных наблюдений, хотя оно бросает тень на каждого. Ибо у каждого человека есть дневная и ночная сторона, и с наступлением сумерек он становится другим. У Кондора эта разница была выражена с необычной остротой. Внешне он, правда, оставался одним и тем же: холостяк средних лет с чуть склоненной вперед фигурой человека, часто ездящего верхом. Прибавьте сюда улыбку, привлекшую на его сторону многих: свойственную ему любезность, ко многому обязывающую.
Однако сенсориум [6]6
… сенсориум… Общий орган ощущений; кора головного мозга; способность к ощущению.
[Закрыть]изменяется. Дневной пернатый хищник – ловец, видящий далеко окрест и следящий за дальними движениями, – превращается в ночного; глаза среди теней отдыхают, слух же обостряется. Как будто на лицо пала пелена, и потому открылись новые источники восприятия.
Кондор придает значение дальнозоркости; у него редко находит удачу претендент на какую-то должность, который носит очки. Особенно это касается командирских должностей в войсках и в береговой охране. Человек, притязающий на одну из них, приглашается для непродолжительной беседы, во время которой Кондор прощупывает его. Кабинет Кондора возвышается над плоской крышей касбы круглым, вращающимся стеклянным куполом. Во время разговора Кондор обычно проверяет остроту зрения кандидата, указывая на какой-нибудь корабль или на очень далекий парус и задавая вопрос о классе этого судна или о направлении его движения. Разумеется, разговору предшествуют тщательные проверки; а собственное суждение Кондора должно лишь подтвердить их результат.
*
С превращением дневной хищной птицы в ночную привязанность к собакам уступает место привязанности к кошкам – за теми и другими на касбе ухаживают. Пространство между крепостью и опоясывающей ее наружной стеной в целях безопасности не засажено растениями и содержится открытым: это сектор обстрела. Там в тени бастионов дремлют сильные доги – или, резвясь, носятся по простреливаемой полосе. Чтобы животные не слишком докучали, от площадки, где ставят машины, до входа в касбу ведет мост.
Когда мне надо сделать что-нибудь на простреливаемой полосе, я никогда не вхожу туда без одного из охранников; я дивлюсь той невозмутимости, с какой они управляются со зверями. Мне становится не по себе, уже когда собаки тычутся в меня мордами или облизывают мне руку. Эти животные во многом умнее нас. Очевидно, они чуют мое замешательство, которое могло бы усилиться до страха – – – тогда они напали бы на меня. С ними никогда не знаешь, где заканчивается игра. Это у них с Кондором общее.
Доги, темные тибетцы с желтыми мордами и желтыми же бровями, используются также для охоты. Они неистово прыгают от радости, заслышав рано поутру рог. Их можно спускать на самых грозных противников; они атакуют льва и носорога.
Эта свора здесь не единственная. Удаленный от касбы, но видимый с высоты, вдоль берега моря тянется корпус конюшен, ремизов, вольеров, открытых и крытых манежей для верховой езды. Там тоже есть загон – для борзых. Кондор любит со своими миньонами [7]7
… со своими миньонами… Миньон ( фр. Mignon – «малыш», «милашка») – распространившееся в XVI в. во Франции обозначение фаворита, любимчика высокопоставленной особы. Миньоны при дворе выполняли роль, среднюю между советниками, стражниками и членами свиты. В зависимости от прихотей покровителя они также могли быть его любовниками. Прислуживающие за столом персидского вельможи мальчики описываются в «Анабасисе» Ксенофонта (Ксенофонт, 33, перевод М. И. Максимовой, в книге: Ксенофонт. Анабасис. Греческая история / Перевод М. И. Максимовой, С. Я. Лурье. М.: Азбука, 2010):
Когда они пришли к Хирисофу, то застали и там пирующих, увенчанных венками из сена; а прислуживали им арменские мальчики в варварских одеждах. Мальчикам, словно глухонемым, они знаками давали понять, что им надлежит делать.
О Ксенофонте см. ниже, комментарий к с.505 (в электронной версии – прим. 481)
[Закрыть]скакать галопом у самого моря; обычно их окружает стая бледно-желтых гиеновидных собак, предназначенных для охоты на газелей. Аллюр борзых напоминает бег гонщиков и ловцов мяча, торжествующих здесь на арене: интеллект и характер принесены в жертву травле. Черепа у них продолговатые, со сглаженными лбами, мышцы нервно играют под кожей. Во время долгой охоты они загоняют свою жертву до смерти – неутомимо, как будто в них раскручивается какая-то пружина.
Впрочем, газель нередко могла бы еще спастись, не будь она настигнута соколом. Пернатого добытчика освобождают от колпачка и подбрасывают в воздух; собаки и конные охотники следят за его полетом, наводящим их на дичь.
Такая охота на раздольных, поросших лишь эспарто [8]8
… поросших лишь эспарто… Эспарто – травянистое растение наподобие ковыля.
[Закрыть]равнинах представляет собой величественное зрелище: мир будто упрощается, тогда как напряжение нарастает. Это лучшее, что Кондор может предложить своим гостям; сам он празднично наслаждается охотой, и одно стихотворение, сложенное на краю пустыни, было придумано, кажется, специально для него:
Хороший сокол, быстрый пес и благородный конь
Дороже стоят двух десятков женщин.
Само собой разумеется, что соколиная охота – со всеми тонкостями ловли как таковой, правил поведения и натаскивания птиц – пользуется почетом. Кречеты и балабаны добываются в сельской местности с помощью специальной защелкивающейся западни; другие ловчие птицы, в том числе белоснежные соколы Крайнего Севера, поступают издалека. Желтый хан, знатнейший из приглашаемых на охоту гостей, ежегодно привозит их в подарок Кондору.
Соколиная охота разворачивается на обширном пространстве вдоль берега Суса. Близость реки благоприятна и для дрессировки. В пойменных лесах гнездятся бесчисленные водоплавающие птицы; они собираются, чтобы ловить рыбу, на затопляемых песчаных мелях. Для обучения соколов, используемых во время охоты на пернатую дичь, подходит в первую очередь цапля. При этом необходимы также собаки: длинноухие спаниели, которые охотно идут в воду; шкура у них в белых пятнах, чтобы стрелок различал их в камыше.
Главный сокольничий, Роснер, – зоолог по образованию, который в силу душевной склонности обратился к охоте. И он правильно поступил, ибо профессоров здесь можно отыскать сколько угодно, тогда как такой сокольничий считается счастливой находкой.
Впрочем, он тоже профессор. Роснера я часто вижу на касбе и в его институте, а также встречаю порой, когда он одиноко прогуливается по охотничьим угодьям. Однажды я сопровождал его во время вылазки за сапсаном к одной из засад. Степь там граничит с зарослями кустов дрока высотой с дом, в тени их и прячется птицелов. Голубь на длинной бечевке служил приманочной птицей. При приближении сокола Роснер подбрасывал голубя, чтобы тот взлетел. И едва хищник вцеплялся в него и удерживал, их обоих можно было без труда подтянуть к кольцу, через которое проходила бечевка и возле которого на них падала специальная сеть.
Процесс был увлекательным – как образец продуманного преследования. Сюда добавлялись обстоятельства, далеко выходящие за границы человеческой перспективы и кажущиеся магическими. Так, голубь должен быть уже в воздухе, когда мимо проносится сокол, которого не замечает даже самый зоркий глаз. В качестве дозорного сокольничему служит пестрая птица величиной с дрозда, которую он привязывает рядом с голубем и которую хищник на невероятном удалении скорее угадывает, нежели распознает. Тогда эта дозорная птица пронзительным криком предупреждает о его появлении.
Магическое воздействие такой охоты [9]9
Магическое воздействие такой охоты… На Древнем Востоке участие царя в охоте магическим образом обеспечивало победу над силами хаоса. В средневековой Европе охота в заповедных лесах становится исключительным правом королей. Так, в книге англичанина Ричарда Фитц-Нигеля, автора «Диалога о Палате шахматной доски» (ок. 1180), говорится: «Леса – это священные заповедники королей и источник их высочайшего наслаждения, они приезжают в леса охотиться, оставив на время свои заботы и набираясь свежих сил. Леса являются естественным отдохновением от двора, и здесь король может вдохнуть глоток чистой свободы. Поэтому проступки против леса подлежат наказанию по воле короля». В романе Юнгера «Гелиополь» (1949), описывающем события, случившиеся раньше тех, о которых идет речь в «Эвмесвиле», об историке Ортнере, «Гомере Гелиополя», говорится: «Позже участвовал в народных бунтах, военных походах и охотничьих кампаниях в свите Ориона» (Эрнст Юнгер. Гелиополь / Перевод Г. Косарик. СПб.: Амфора, 2000. С. 126).
[Закрыть]заключается в том, что она, кажется, превращает в пернатое существо весь мир. Охотники сливаются со своей добычей в общей зачарованности, их уловки вибрируют в едином порыве. Не только смуглый капканщик, всю жизнь проведший за этим занятием, но даже образованный орнитолог превращается в Папагено [10]10
… превращается в Папагено. Папагено – персонаж оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта» (1791), птицелов, простодушное «чудо в перьях».
[Закрыть], уподобляется сомнамбулическому танцору. Даже меня захватывало учащенное и глубокое дыхание этой страсти.
При этом нужно заметить, что я не охотник; более того, охота – вопреки моему имени – мне неприятна. Возможно, все мы рождены для ловли рыбы и птиц, и убивание – наша задача. Что ж – во мне, значит, эта предрасположенность трансформировалась. Во время охоты на цаплю я чувствую себя скорее заодно с жертвой, нежели с соколом, который ее забивает. Все снова и снова цапля пытается найти спасение в высоте, а он опять и опять настигает ее – пока, наконец, не полетят во все стороны перья.
Газель – одно из самых нежных существ: беременные женщины охотно держат этих животных рядом с собой, газельи глаза воспеты поэтами. Я видел, как газели теряют силы в конце травли, когда сокол вьется в клубах пыли, а собаки тяжело дышат. Охотники с особым удовольствием убивают красивое.
*
Однако речь сейчас не о газельих глазах, а о глазах Кондора и его дневном зрении. Конечно, мне еще придется иметь дело с охотой, и притом в различных ее аспектах, – но не в роли охотника, а в роли наблюдателя. Охота – это прерогатива, привилегия правителей; она передает суть господства не только символически, но и ритуально, благодаря пролитой крови, которую освещает солнце.
*
Моя должность предполагает, что я больше принимаю участие в ночной стороне жизни Кондора. И вижу в основном бледные лица в очках, собранные вместе, точно в совином гнезде, профессоров, литераторов, мастеров малодоходных искусств, чистых гурманов, способствующих умножению удовольствий. Остроумие тут рассчитано только на слух. Намеки заключаются уже не в словах, а в самом тоне или даже в мимике – тогда мне приходится вслушиваться. Обсуждаются другие, главным образом мусические темы, а охота, как кажется, – лишь в странно зашифрованном виде. За этим стоит понаблюдать.
Бар – помещение с хорошей звукоизоляцией; настройка тембра входит в мои обязанности. Громкий и резкий говор – здесь – неприятен Кондору, даже причиняет ему боль. Поэтому постоянным гостям и части официантов он дал другие имена, а также проследил за тем, чтобы они благозвучно сочетались друг с другом. Например, Аттила, его врач, который почти ни на шаг от него не отходит, здесь носит имя «Альди». Если Кондор хочет, чтобы я оказал Аттиле какую-нибудь услугу, он говорит: «Эмануэло – – – : Альди»; это звучит красиво.
Кондор подобрал для меня новое имя, когда я – как всякий, кому предстоит работать с ним рядом, – ему представлялся. «Мануэль, Мануэло, Эмануэло» – в зависимости от сочетаемости с другим именем. Дифференциация имен, их модулирование усиливают воздействие обращений Кондора. На агоре «как» еще важнее, чем «что», а сама речь сильнее фактов, которые она может изменять и даже порождать.
«Домогаться благосклонности»: это тоже искусство. Оборот речи, изобретенный, видимо, кем-то, кто оказался в положении небезызвестной лисицы, мечтавшей о винограде. Впрочем, когда «домогающийся» сидит в начальственном кабинете, положение дел, естественно, меняется. Конечно, если «соблазнитель» не выходит за порог кабинета, обстоятельства изменяются. Толпа, словно возлюбленная, радостно привечает своего господина, после того как впервые пустила его к себе в светелку.
*
Я был представлен в форменной одежде – тесно облегающем костюме из льняного полотна в голубую полоску, обновляемом ежедневно, поскольку белья под ним не носят. К нему – мавританские чувяки из желтого сафьяна. Мягкие подошвы удобны и беззвучны, когда я передвигаюсь за стойкой бара, где нет ковра. И, наконец, забавная шапочка – этакий кораблик, который следует надевать набекрень. В общем, нечто среднее между униформой и эффектным вечерним костюмом: мой внешний вид должен свидетельствовать о сочетании надлежащего служебного рвения с радостным настроем.
Во время представления Кондор, чтобы проверить мою прическу, снял эту пилотку у меня с головы. Тогда же он дал мне новое имя, используя какой-то каламбур, точная формулировка которого выпала у меня из памяти. Но смысл был таков, что он-де считает возможным и надеется, что из Венаторакогда-нибудь выйдет сенатор.
*
Над словами могущественных людей следует задумываться. Это высказывание допускало различные истолкования. По сути, Кондор, вероятно, хотел указать мне на значение моей должности. Конечно, если вспомнить те чины и почет, до которых возвышаются иные его миньоны– а почему бы и нет? – то и от должности ночного стюарда не стóит воротить нос. В конце концов, Папа Сикст IV тоже делал кардиналов из своих эфебов.
Но Кондор мог иметь в виду и мою личность. В Эвмесвиле все знают о расположении Венаторов – по крайней мере, моего отца и брата – к трибунам. Хотя ни тот ни другой не проявляли политической активности, но по убеждению и симпатии они всегда были республиканцами. Старик еще пребывает в должности, а вот брат из-за дерзких речей отправлен в отставку. Возможно, намек на сенатора имел еще и такой оттенок: дескать, кровное родство с оппозиционерами не должно меня пачкать.
Мануэло: этим закладывались основы своеобразного опекунства. Одновременно я получил фонофор [11]11
… фонофор… Аппарат, объединяющий технические возможности современного мобильного телефона и Интернета. Придуман и описан Э. Юнгером еще в романе «Гелиополь» (1949).
[Закрыть]с тонкой серебряной полосой – отличительный признак служащих, хоть и занимающих небольшую должность, однако относящихся к непосредственному окружению тирана.
3
Вот вкратце о моем имени и его вариациях. Далее следует уточнить мою профессию. Хотя и верно, что я работаю на касбе ночным стюардом, к этой работе мое существование не сводится. Об этом можно, пожалуй, судить уже по моей разговорной манере. Внимательный читатель мог бы даже по ней догадаться, что в глубине души я историк.
Склонность к истории и тяга к историографии передаются в моей семье по наследству; это касается не столько корпоративных традиций, сколько генетической предрасположенности. Я сошлюсь здесь лишь на своего знаменитого предка Иосию Венатора, чье ключевое произведение «Филипп и Александр» издавна пользуется авторитетом как важный вклад в теорию влияния среды на личность. Данное сочинение публикуется все снова и снова, а недавно было выпущено новым изданием. В нем нельзя не заметить симпатии к наследственной монархии, а потому историки и специалисты по государственному праву Эвмесвиля хвалят его не без смущения. Хотя лучи славы великого Александра вроде могли бы падать и на Кондора, однако прежде должен был бы восстать из пепла – как птица Феникс – гений этого императора.
Мой отец и мой брат, типичные либералы, осторожно обращаются с Иосией по другим причинам. Прежде всего, и это понятно, им мешает соответствие античного предка политической злободневности. Кроме того, дух их смущает масштаб этой незаурядной исторической личности. Александр кажется им стихийным явлением – молнией, достаточно отчетливо освещающей напряженность в отношениях между Европой и Азией. Есть странные соответствия между либеральной историографией и историографией героической.
*
Итак, мы уже на протяжении нескольких поколений порождаем историков. В качестве исключения обнаруживается один теолог, а также один бездельник, чей след теряется в неизвестности. Что же касается меня, то я нормальным путем стал магистром, был ассистентом Виго, а сейчас в качестве его правой руки участвую в коллективных исследованиях и занимаюсь собственными работами. Кроме того, я читаю лекции и забочусь о докторантах.
Этих занятий мне хватит еще на несколько лет; я не спешу ни к званию ординарного профессора, ни к чину сенатора, поскольку хорошо себя чувствую в своей шкуре. Не считая периодических депрессий, я пребываю в душевном равновесии. В таком положении можно позволить времени покойно течь мимо тебя – – – само его протекание дарит наслаждение. Читатель, конечно, догадается о тайной роли в моей жизни табака и вообще легких наркотиков.
*
Над своими темами я могу работать дома, то есть у себя в квартире, или в институте Виго, а также на касбе – последний вариант предпочтительнее из-за наличия бесподобной документации. Я живу здесь как зяблик среди семян, и меня бы вообще не тянуло в город, если бы Кондор терпел присутствие в крепости женщин. Но у него их не встретишь даже на кухне, мимо охраны не пройти и молоденькой прачке, с которой, имей я ее под рукой, можно было б неплохо коротать время; исключения не допускаются. Женатые мужчины держат свои семьи в городе. Кондор полагает, что присутствие женщин, будь то молодых или старых, лишь порождает интриги. А между тем обильную пищу и праздную жизнь сложно сочетать с половым воздержанием.
*
Отец с недовольством взирал на то, что я слушаю лекции Виго, а не еголекции, как то делал брат. Однако из разговоров за столом я знаю, что может мне предложить мой старик, а кроме того, считаю Виго гораздо лучшим историком. Моему родителю не нравится «ненаучность», даже «фельетонизм» Виго; а значит, он не понимает подлинного корня присущей моему учителю силы. Что общего у гения с наукой?
Однако я не хочу спорить с тем, что историк должен основываться на фактах. Впрочем, Виго нельзя упрекнуть в невнимании к ним. Мы живем здесь в безветренной лагуне, где море выбрасывает на берег огромное количество предметов с затонувших кораблей. И мы лучше, чем когда-либо раньше, знаем, что именно – тогда-то и там-то – происходило на нашей планете. Материал этот вплоть до мельчайших подробностей известен Виго; он знаком с фактами и умеет объяснить ученикам, как их оценивать. В этом я тоже многому у него научился.
*
И если минувшее таким образом приблизилось к современности и снова воздвиглось перед нами стенами городов, сами имена которых давно позабыты, можно сказать, что была проделана честная работа.
При этом следует заметить, что Виго ничего произвольного в историю не привносит. Он скорее оставляет открытыми последние вопросы, подводя нас к пониманию сомнительности происходящего. Когда мы обращаем взор назад, мы видим могилы и руины, груды развалин [12]12
Когда мы обращаем взор назад, мы видим могилы и руины, груды развалин.Фраза отсылает к известному высказыванию немецкого философа Вальтера Беньямина (1892—1940) из эссе «О понятии истории»: «У Клее есть картина под названием „Angelus Novus“. На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас – цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал» (перевод С. Ромашко).
[Закрыть]. При этом мы сами подчиняемся отражательному эффекту времени: полагая, что двигаемся вперед и дальше, мы на самом деле приближаемся к этому прошлому. Вскоре мы будем принадлежать ему: время нас обгонит. И эта печаль тенью падает на историка. Как исследователь, он не более чем копатель в пергаментах и могилах, но потом, держа на ладони череп, он ставит судьбоносный вопрос [13]13
… он не более чем копатель в пергаментах и могилах, но потом, держа на ладони череп, он ставит судьбоносный вопрос.Здесь соединены образы могильщика и Гамлета из сцены, открывающей пятое действие шекспировской трагедии. Вопрос Гамлета: «Увы, бедный Йорик! Я знал его <…> человек бесконечно остроумный, / чудеснейший выдумщик <…> Здесь были эти губы, / которые я целовал сам не знаю сколько раз. – / Где теперь твои шутки? Твои дурачества?» (перевод Т. Щепкиной-Куперник).
[Закрыть]. Основной настрой Виго – фундированная печаль; я чувствовал, что она близка моей убежденности в несовершенстве мира.
*
Виго владеет особым – произвольным, то есть не хронологическим, – методом продвигаться сквозь прошлое. Его глаз – глаз не столько охотника, сколько садовника или ботаника. Так, наше сродство с растениями он считает обоснованным глубже, нежели сродство с животными, и полагает, что по ночам мы возвращаемся в леса, даже к водорослям морей.
В животном мире сродство с растениями повторно открыла пчела. Ее спаривание с цветками является не прогрессом и не регрессом, а своего рода сверхновой звездой – вспышкой космогонического эроса в некий звездный час. Такая смелая мысль еще никому в голову не приходила; реально лишь то, что не может быть выдумано.
Ожидает ли он чего-то подобного в человеческом мире?
*
Как и в любом незаурядном произведении, в его труде тоже больше невысказанного, чем сформулированного. В его расчетах остается некая неизвестная величина; это ставит его в неудобное положение перед теми, у кого все делится без остатка, – в том числе и перед собственными учениками.
Я хорошо помню день, сблизивший меня с ним; все произошло после окончания одной лекции. Темой ее были «Растительные города»; семинар продолжался более двух семестров. Рассеивание культур по суше и морям, по побережьям, архипелагам и оазисам профессор сравнивал с полетами семян или с намывом на берег плодов на кромке приливов и отливов.
Виго имеет обыкновение во время лекций показывать маленькие объекты или же просто держать их в руке – не в качестве подтверждений, а как носителей той или иной субстанции: иногда лишь черепок или кусочек кирпича. В тот полдень это была фаянсовая тарелка с причудливым орнаментальным мотивом из цветов и букв. Виго указал нам на краски: поблекший шафранно-розово-фиолетовый узор, а поверх него мерцание, представляющее собой не глазурь и не роспись кистью, но порожденное самим временем. Так грезятстекла, извлеченные из римского мусора, или же черепичные крыши жилищ отшельников, выжженные тысячами летних солнц.
Виго подбирался к этому моменту извилистым путем – начал он с рассказа о побережье Малой Азии, столь благоприятствующего попыткам укорениться на новой почве. Он продемонстрировал свой тезис на примере финикийцев, греков, тамплиеров, венецианцев и прочих народов.
Виго питал особое пристрастие к торговым культурам. Уже в древности по пустыням и морям были проложены пути для соли, янтаря, олова, шелка, а позднее – также для чая и пряностей. На Крите и Родосе, во Флоренции и Венеции, в лузитанских и нидерландских гаванях накапливались, как мед в сотах, всевозможные сокровища. Они потом превращались в более роскошный образ жизни, в наслаждения, постройки и художественные произведения. Золото олицетворяло солнце, благодаря его сосредоточению начали развиваться и процветать искусства. Все это неизбежно сопровождалось и миазмами упадка, ощущением осенней пресыщенности. Рассказывая, Виго держал на ладони тарелку, точно ожидая подаяния.
Как получилось, что он заговорил о Дамаске и затем – о бегстве в Испанию, благодаря которому Абд ар-Рахман [14]14
… Абд ар-Рахман… Абд ар-Рахман I по прозвищу ад-Дахил (Пришелец) (731—788) – эмир с 756 г., основатель династии кордовских Омейядов, правившей большей частью Испании до 1301 г., и эмирата на Пиренейском полуострове. Внук Хишама ибн Абд ал-Малика, десятого омейядского халифа (правил с 724 по 743 год). В результате восстаний 741—750 годов в Арабском халифате Омейяды были свергнуты, и все, кроме Абд ар-Рахмана, вырезаны. Спасаясь от преследований Аббасидов, Абд ар-Рахман бежал в 750 г. из Сирии через Северную Африку в Испанию и захватил Севилью и Кордову. После этого он был провозглашен эмиром Андалусии. Старался укрепить государство, успешно боролся с сепаратизмом арабо-берберских племенных вождей. Создал профессиональную армию и успешно отразил нападения правителей христианских государств на севере Испании и войск Карла Великого. Однако попытка ответного вторжения во владения франков окончилась неудачно.
[Закрыть]избежал убийства? Почти триста лет в Кордове продолжала цвести ветвь искорененных в Сирии Омейядов. Наряду с мечетями, фаянсовые изделия тоже свидетельствуют об этой давно засохшей боковой ветви высокоразвитой арабской культуры. Позже и в Йемене возникли крепости потомков Бени Тахир [15]15
… потомков Бени Тахир. В 1454 г. Аден был захвачен войсками Али ибн Тахира из племени Бени Тахир. Спустя несколько лет большая часть Южного Йемена перешла под власть Тахиридов (1454—1517). Было образовано единое йеменское государство, простиравшееся от Тихамы до Дофара.
[Закрыть]. Зерно упало в песок пустыни и принесло там еще четыре урожая.
Предок Абд ар-Рахмана, пятый из Омейядов, послал эмира Мусу в Медный город [16]16
… в Медный город. Здесь и далее пересказывается «Повесть о Медном городе» из «Тысячи и одной ночи».
[Закрыть]. От Дамаска через Каир отряд, совершив переход по великой пустыне, попал в западные земли и добрался до самого побережья Мавритании. Целью экспедиции были медные бутылки, в которые царь Сулейман когда-то запер мятежных демонов. Рыбаки, забрасывавшие сети в море Эль-Каркар [17]17
… море Эль-Каркар. В «Повести о Медном городе» царь черных говорит эмиру Мусе: «А что касается этого моря, то оно известно под названием Эль-Кар-Кар».
[Закрыть], время от времени вытягивали вместе с уловом одну из таких бутылок; эти сосуды были запечатаны печатью Сулеймана; если откупорить бутылку, из нее вырывался демон – как дым, затемняющий небо [18]18
… из нее вырывался демон – как дым, затемняющий небо. Этот сюжет отсылает нас к «Тысяче и одной ночи»; см. сказки 566—578; Сулейманом в мусульманской традиции именуется Соломон. Э. Юнгер с детства живо интересовался этим восточным эпосом и не раз касался его в своих размышлениях. Так, еще в «Первом парижском дневнике» (запись от 28 января 1942 г.) он пишет о получении от художника Рудольфа Шлихтера письма с рисунками:
Среди почты письмо от Шлихтера с новыми рисунками к «Тысяче и одной ночи». Особенно замечательно удалось изображение Медного города – скорбь смерти и величественность. Вид его возбудил во мне непреодолимое желание обладать листом, я с удовольствием имел бы его в качестве контраста к его же «Атлантиде перед гибелью», которая уже долгие годы висит в моем рабочем кабинете. Сказка о Медном городе, на волшебство которой мой отец уже давно заострил мой глаз, принадлежит к самым прекрасным в этой чудесной книге, а эмир Муса – ум недюжинный. Он – знаток меланхолии перед руинами, той горькой гордости в преддверии заката, которая образует для нас суть археологического стремления, но которую сам Муса переживает чище и созерцательней.
И на следующий день, 29 января 1942 г., Юнгер добавляет:
Написал Шлихтеру по поводу рисунка Медного города. При этом вспомнились мне и другие сказки из «Тысячи и одной ночи», прежде всего сказка о Пери Бану, с давних пор казавшаяся мне воплощением высокого любовного приключения, ради которого охотно отказываются от унаследованной монаршей власти. Поистине прекрасно, как юный принц укрывается в этом царстве, словно в духовном мире. В этой сказочной истории он, наряду с Мусой, относится к тем князьям индогерманских царств, которые были на голову выше деспотов Ближнего и Среднего Востока и понятны также и нам. Весьма красиво прямо в самом начале описанное состязание по стрельбе из лука, который является символом жизни и у принца Ахмеда имеет метафизическое натяжение. И посему стрела его летит несравненно дальше других, в неведомое. / Замок Пери Бану – это Венерина гора, обращенная в духовное; незримое пламя приносит дар там, где зримое – пожирает.
В романе «Гелиополь» возлюбленную главного героя, принадлежащую к народу парсов, зовут Будур-Пери.
[Закрыть].
Эмиры по имени Муса позднее встречаются также в Гранаде и в других резиденциях мавританской Испании. Упомянутый здесь завоеватель Северо-Западной Африки может считаться их прототипом. Западные черты в его образе несомненны; следует, правда, помнить, что в моменты наивысшего напряжения сил различия между расами и регионами стираются. Как в моральном отношении люди, приближаясь к совершенству, становятся похожими, даже почти идентичными, так же происходит и в сфере духа. Отстраненность от мира и от объекта увеличивается; растет любопытство, а с ним – стремление приблизиться к последним тайнам, несмотря даже на большую опасность. Это аристотелевская черта. Ставящая себе на службу искусство счета.
Предание умалчивает, испытывал ли эмир опасения относительно откупоривания бутылки. Из других рассказов мы знаем, что такое действие таило в себе опасность. Так, один из плененных демонов поклялся сделать человека, который освободит его, могущественнейшим из смертных; он сотни лет размышлял, как кого-то облагодетельствует. Но потом настроение его переменилось: за время заточения накопились яд и желчь. И когда спустя сотни лет один рыбак все-таки откупорил бутылку, он лишь хитростью избежал злой судьбы – быть разорванным этим демоном в клочья. Зло всегда становится тем ужаснее, чем дольше оно остается в безвоздушном пространстве.
Как бы то ни было, ясно, что Муса не побоялся распечатать бутылку. Об этом свидетельствует уже необыкновенная смелость его перехода через пустыню. Седой Абд эс-Самад [19]19
Седой Абдэс-Самад… Абд эс-Самад – персонаж «Повести о Медном городе», спутник эмира Мусы.
[Закрыть], который владел «Книгой скрытых сокровищ» и был сведущ в астрономии, за четырнадцать месяцев привел караван к Медному городу. Они устраивали привалы в покинутых крепостях и на заброшенных кладбищах. Иногда находили воду в источниках, вырытых еще по велению Искандера [20]20
… по велению Искандера… Искандер – арабское имя Александра Великого.
[Закрыть], когда тот продвигался на запад.
Медный город тоже оказался вымершим и был наглухо обнесен высокой стеной; понадобилось прождать еще два лунных месяца – пока кузнецы и плотники сооружали приставную лестницу, достающую до самого верха. Всякий, кто взбирался по ней, был настолько ослеплен колдовским заклятием, что хлопал в ладоши и с возгласом «Ты прекрасен!» прыгал со стены вниз. Так погибли один за другим двенадцать спутников Мусы, пока Абд эс-Самаду не удалось, наконец, разрушить колдовские чары. Поднимаясь по лестнице, он безостановочно возглашал имя Аллаха, а наверху прочитал спасительную суру. Галлюцинируя, он, словно под водной поверхностью, увидел размозженные тела своих предшественников. Муса: «Если так поступает благоразумный – что тогда делать безумному?»
Потом шейх спустился по лестнице одной из башен и изнутри отворил ворота мертвого города. Но не ради этих приключений, хотя у них была своя подоплека, упомянул Виго эмира Мусу, а чтобы рассказать о его встрече с историческим миром, который перед реальностью сказки превращается в фата-моргану.
Поэт Талиб прочитал эмиру надписи на надгробных камнях и на стенах опустелых дворцов:
Где ныне те, что построили и воздвигли
Эти горницы, которым нет подобных?
Где теперь Хосрои, чьи крепости неприступны так?
Мир оставили, как будто их и не было?
Где ныне тот, что застроил земли когда-то все,
И Синд и Хинд, и был врагом-притеснителем?
Абиссинцы, зииджи послушны были словам его,
И нубийцы также, и гордым был и кичливым он.
Не жди же ты вестей о том, что в могиле с ним:
Не бывать тому, чтоб нашел об этом ты вестника!
Поражен он был смерти гибельной превратностью,
Не спас его дворец, ему построенный [21]21
«Где ныне те, что построили и воздвигли… <…> Не спас его дворец, ему построенный».Цитируется по изданию «Тысячи и одной ночи» [без указания переводчика], ночь 572—573. Хосрои – имя двух персидских царей из династии Сасанидов. Синд – название страны, лежащей в долине реки Инд (Синдху); арабы завоевали эту страну в 711 г. Зииджи – обитатели острова Занзибар, у восточного берега Африки.
[Закрыть].
Эти стихи наполнили Мусу такой скорбью, что жизнь стала ему в тягость. Проходя по залам, Муса и его спутники наткнулись на стол, изваянный из желтого мрамора или, по другим сообщениям, отлитый из китайской стали. На столешнице арабскими письменами было вырезано:
«За этим столом трапезничала тысяча царей, которые были слепы на правый глаз, и тысяча других, которые были слепы на левый глаз, – – – все они сгинули и населяют ныне могилы и катакомбы».
Когда Талиб прочитал это, в глазах у Мусы потемнело; он возопил и разорвал на себе одежды. А после велел переписать все стихи и надписи.
*
Едва ли когда-нибудь боль историка была понята столь проникновенно. Это – боль человека, которую он почувствовал задолго до возникновения наук и которая сопровождала его с тех пор, как были вырыты первые могилы. Тот, кто пишет историю, хотел бы сохранить имена и их смысл, хотел бы даже вновь отыскать названия городов и народов, которые давно изгладились из памяти. Писать историю – все равно что возлагать цветы на могилу: «Вы, мертвые, и вы, безымянные, – – – князья и воины, рабы и злодеи, святые и блудницы, не печальтесь: о вас вспоминают с любовью».







