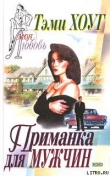Текст книги "Мистериум"
Автор книги: Эрик Маккормак
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
– Зачем ты выключила свет? – спросил он. – Я хочу тебя увидеть.
Она обняла его в темноте.
– Прошу тебя, – сказала она. – Я не против лечь с тобой в постель. Я этого хочу. Но я не хочу, чтобы ты видел мое тело. Пожалуйста, не проси.
И он больше не просил. Это не имело значения. Когда они занимались любовью в ту ночь и во все ночи, что последовали, он поклонялся ей во тьме руками и поцелуями, и она яростно обвивалась вкруг его тела.
Несколько месяцев он был счастлив, Как никогда в жизни. Он любил – любил, и жизнь стала чудом. Он не просто любил – он хотел жениться на Веронике. Он сделал ей предложение, и она сказала нет. Не захотела обсуждать. Когда он попытался снова, она ответила, что он все испортит.
Однажды ночью в номере «Чертополоха», после того как они любили друг друга – Вероника все время была очень молчалива, – она ушла в ванную и пробыла там столько, что он забеспокоился. Он выскользнул из постели и пошел выяснить, что случилось.
Дверь в ванную была чуть приоткрыта, горел свет. Он увидел, что она стоит и разглядывает себя в высоком зеркале: фигура хороша, но на грудях, с тех пор как они наливались молоком, остались растяжки; рваный шрам от кесарева сечения бежал по животу (Блэр часто нащупывал его пальцами), отмечая место, где явилась на свет ее дочь; а волосатый холмик ниже уже поседел. Блэр взглянул ей в лицо и увидел, что она за ним наблюдает.
Когда она вернулась в постель, он все обнимал и обнимал ее, но она не шевельнулась.
– Прости, что подсмотрел, – сказал он.
– Время увидеть, – сказала она. – Время увидеть. На следующий вечер, когда он заехал за ней, в кафе работала новая официантка. Она сказала, что Вероника ушла с работы. Из квартиры тоже съехала и скрылась из города.
На Острове прятаться затруднительно, и Блэр без труда ее разыскал. Она поездом уехала на Юг и нашла работу в баре при гостинице на пасмурном курорте возле свинцового моря. Он на несколько дней отпросился из академии и поехал к Веронике. Он сидел на скамейке на молу перед гранитным фасадом гостиницы, где Вероника работала, и ждал. День был прохладный и ветреный, пляж пуст, за вычетом чаек.
Около двух часов дня она вышла из распашных дверей. Он поднялся и пошел ей навстречу.
– Вероника! – сказал он. Она, кажется, не удивилась.
– Уходи, – сказала она.
– Пожалуйста, поговори со мной, – сказал он.
– Уходи, – сказала она. – Ты не представляешь, как я несчастна. Я себе позволила влюбиться в человека вдвое моложе меня. Я заставила себя забыть, что придет день, и он посмотрит на меня и возненавидит.
– Мне совершенно плевать на возраст, – сказал он. – Я люблю тебя.
– Да, ты влюблен, и поэтому ничего не видишь. С юнцами вечно так, – сказала она. – Я тоже тебя люблю, но меня любовь не ослепила. Я не хочу, чтобы мое счастье зависело от любви, которой не суждено продлиться. Это слишком трудно вынести. Я прежде научилась быть счастливой без любви; я знаю, как это, и я научусь заново, пока еще не поздно. Если ты меня любишь, уходи.
– Прошу тебя. – сказал он.
Ее лицо опустело, закрылось, будто она его ненавидела.
– Нет, – сказала она. – Лучше бы я могла тебя возненавидеть за то, что ты со мной сделал. Уходи.
* * *
– Знаешь, Джеймс, – сказал комиссар Блэр, – единственный человек, кому я рассказал о Веронике. С тех пор я любил других женщин, но никого не любил так, как ее. Она любила меня, но отвергла. Не доверяла мне, ибо я был молод.
Мне польстило, что комиссар Блэр мне доверился; меня поразила эта новая его сторона, которая не могла мне и присниться. Разумеется, я сам виноват – на меня подействовала его суровая внешность. С той ночи, каким бы ни мнился он аскетом, я ни на миг не забывал, как он обнажил предо мной свою человечность.
Наутро я мучился от ощутимого похмелья – у меня не имелось привычки к питию даже в микроскопических дозах. В половине девятого я прошагал по дороге в город. Пасмурное небо на востоке едва приотворилось. Типичный сумрак Каррика, но сегодня я был за него благодарен: мои глаза еще не были готовы к свету.
На улицах вокруг Парка я не заметил ни единого шевеления. Часовые в дверях домов – только зловещие силуэты, в коих человеческого не больше, чем в трех фигурах Монумента. Витрины и двери в лавку Анны были забиты досками.
Я свернул направо по мощеной улочке, ведя пальцем по очертившей ее изгороди, пока не приблизился к темному дому. Симметричные железные шипы, задуманные как украшение, торчали из садовой ограды.
Я постучал в дверь, и моим костяшкам она показалась свинцовой. Солдат, ее открывший, секунду разглядывал меня, точно мое явление удивило его. Я сказал, что мне назначена встреча, и он впустил меня и направил вверх по лестнице, обшитой панелями красного дерева, мимо распахнутой двери в кабинет, где толпились высокие книжные шкафы. Справа деревянная табличка на закрытой двери гласила:
ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
ПРИЕМНАЯ
Взбираясь по ступенькам, я распознал едкие миазмы, словно воспарявшие от плюшевого ковра. Стремившись к лестничной площадке, я почти не дышал. Оттуда я разглядел обшитый деревом коридор и шесть дверей. Из одной выступила медсестра; жестоколицая женщина с колообразным телом, что крепилось налево. В отличие от солдата, медсестра не удивилась.
– У вас ровно час, – сказала она. – Он и помирать отказывается, потому как с вами хотел поговорить. – Она протиснулась мимо меня (такое тело создано, чтобы протискиваться) вниз по лестнице. Я включил диктофон и направился в комнату, откуда вышла медсестра.
Доктор Рэнкин восседал на кровати под балдахином. Вся комната – сплошное красное дерево. Единственное окно заперто накрепко; тепло, пахнет сильно и прогоркло. На тумбочке под лампой я увидел экземпляр рукописи Айкена, а на ней очки-полумесяцы в серебряной оправе.
Доброе утро, – сказала я, поскольку он меня не заметил. – Доктор Рэнкин?
Он поднял голову и улыбнулся:
– И вам доброе утро, какашка куриная.
Меня такое приветствие от совершеннейшего незнакомца изумило – а кого бы не изумило? Впрочем, комиссар Блэр предупредил меня, что таким вот образом подействовал на эскулапа яд: доктор Рэнкин пересыпал свои тирады детской руганью, о чем, судя по всему, сам и понятия не имел.
Поэтому я смолчал, лишь пригляделся внимательнее. Маленькая голова, волосы отливают сталью и густы для человека, которому уже за семьдесят. Черная пижама – кажется, шелковая.
– Я бы предложил вам стаканчик чего-нибудь, горшок зассанный; но у меня больше нет служанки. Умерла на той неделе. – Голос его был тонок, но полон сил; улыбаясь, доктор скалил зубы, желтые, как и глаза.
Интересно, отчего Айкен так перед ним трепетал. Кем бы ни был доктор Рэнкин прежде, ныне это лишь умирающий человечек.
– Вы говорили с остальными, да, клизма давленая? Думаете, всё на свете стали понимать? – Его язык высуггулся из крошечного рта, и я представил себе затычку в сливе бочки. – А если я вам скажу, что ничего-то вы и не поняли, дятел безмозглый?
Оскорбления эти по большей части излагались предельно вежливо. Но теперь беседа сменила направление, точно краб попятился, и голос стал резче – впрочем, этого не скажешь о лексиконе.
– Довольно болтовни. Времени мало, а я должен многое рассказать о Грубахах и о матери Роберта; слушайте внимательно, свиное рыло.
Я как мог достоверно изобразил внимание, и он приступил к рассказу:
– Ох уж эти Грубахи. Вот же недоделки придурочные. Вы представляете, какими они казались странными, когда только приехали в Каррик?
Показания доктора Рэнкина
(расшифровано с кассеты и сокращено мною, Джеймсом Максвеллом)
В самом начале Войны они бежали с Континента и осели в Каррике. Они стали пациентами доктора, так что знал он их весьма неплохо. Елена Грубах была высокая сутулая женщина с волосами цвета черного янтаря. Ей за сорок, Якобу – за шестьдесят. Они изъяснялись на новом языке неловко и высокопарно, а некоторыми оборотами давились. В Каррике, где фамилии не менялись веками и выгладились, точно галька в ручье, иностранное имя напрашивалось на дразнилки. («Эй, Грубах. Ты к кому был так груб, что ах?» – кричали им дети.)
В своей стране Якоб преподавал историю и собирал антиквариат по традиции семьи Грубахов. Но в годы перед Войной его версию истории объявили официально неприемлемой, и началось систематическое преследование всего семейства.
Формальные процедуры при таких издевательствах были традиционны и диктовались протоколом: Грубахов оскорбляли, в них плевали, затем им били окна, а со временем начали бы ломать кости и наконец отдали бы на заклание. Пока не случилось это последнее, Якоб присоединился к Сопротивлению. За один буйный год он обрел весьма неакадемические навыки: как установить мину-ловушку и минировать мосты; как взрывать тоннели, когда по ним мчатся поезда. Но, видимо, сопротивление только раззадоривало угнетателей; стало ясно, что единственная надежда Якоба – хватать Елену и бежать. Им посчастливилось найти рейс на Остров: сочувствие капитана судна удалось купить.
Местом изгнания стал Каррик. Елену их беды сокрушили; Якоба злило одно – что нельзя отомстить врагу: он слишком стар, сказали ему, и не может записаться в армию Острова. Поэтому он открыл антикварную лавку напротив Парка и погрузился в историю своей новой родины со страстью, непостижимой для доктора Рэнкина, с которым Якоб нередко о ней дискутировал. Ибо, невзирая ни на что, в историю Якоб верил по-прежнему. Он верил, что обладание прошлым государства – почти то же самое, что обладание его твердью. Он хотел, чтобы история его приемной страны была доброй – такой, чтобы добрый человек мог встроить в нее свою жизнь. Якоб таскал Елену по промозглым столичным музеям. Грубахи близко познакомились с кладкой средневековых аббатств и увитыми плющом скорлупками разрушенных замков. По изрытым полям они совершали паломничества на места древних сражений – пока за границей каждодневно вспыхивали новые.
В ходе сих исторических изысканий Елена выяснила, что беременна, – к великому ликованию супругов. И вскорости они равно возликовали, когда их лучший каррикский друг, аптекарь Александр Айкен, поведал, что его жена ждет ребенка. Александр, естественно, тоже ликовал.
Сплошное ликование.
Доктор Рэнкин уже знал нечто такое, чего не знал Александр, – такое, что поубавило бы ликование аптекаря.
Он прекрасно помнил тот день, когда жена Александра Айкена явилась к нему в кабинет. Доктор Рэнкин частенько недоумевал, как она терпит жизнь в Каррике после Столицы. Изящная, с длинными светлыми волосами, ни капли не похожая на коренастых смуглых женщин Холмов. Одевалась элегантно, много читала, и в глазах ее неизменно мерцало изумление. Доктор Рэнкин замечал, как она играет с Александром – точно кошка играет с мышкой; с минуты на минуту доктор ждал хруста, когда она перекусит мужу хребет.
Итак, в то утро она появилась в кабинете, объявила, что, кажется, беременна, и доктор постарался сдержать волнение. Задал рутинные медицинские вопросы, и она ответила, по обыкновению чуть снисходительно улыбаясь. Он взял анализы и сказал, что о результатах сообщит.
Результаты анализов прибыли несколько дней спустя, и были они положительны. Доктор Рэнкин позвонил и велел ей прийти в кабинет в три часа дня. Устроил так, чтобы она была единственной посетительницей.
Он сидел с медицинским журналом в кабинете; ровно в три постучали в дверь. Служанка провела жену Александра в приемную. В февральский мороз женщина надела шубу. Доктор Рэнкин закрыл за ней дверь приемной.
– Пойдемте, – сказал он.
И провел ее в кабинет. В камине плясал огонь, как всегда, зимой и летом, ибо доктор не терпел холода. Он запер дверь и развернулся, скрестив руки на груди. Давайте вас осмотрим.
Она в недоумении замерла посреди кабинета:
– Что-то не так? Вы получили результаты анализов? Раздевайтесь.
Он видел, что смущает ее. Тем не менее она принялась раздеваться, а он наблюдал, восторгаясь, как и в прошлые осмотры, ее длинными ногами, гладкой белой кожей и крупной грудью.
– Ложитесь. – Он махнул в сторону смотрового стола. Она неловко вскарабкалась – тело ее мелькнуло в зеркале над столом, – и легла на спину.
Он медленно приблизился и положил руки на ее голые плечи.
– У вас прекрасная кожа.
Она глядела на него, и высокомерная улыбка стерлась с ее лица начисто. Он помассировал ей плечи, затем провел ладонями до грудей. Нежно сжал. Ее тело окаменело, но, оставаясь терпеливой пациенткой, она вынесла его касание.
Он повел ладонями ниже, ощущая изгиб ее грудной клетки и припухлость живота. Она терпела его руки, но напряглась – он чувствовал. Его левая рука осталась на ее груди, правая поползла сквозь светлые волосы и легла на лобок.
Лишь тогда она стала отбиваться:
– Что вы делаете? Пустите меня.
Она сопротивлялась, ее бедра тисками сплющили его руку.
– Отпустите, отпустите!
Он прижал ее к столу; она всхлипывала.
– Кто отец? – просипел он. Она противилась, она вскрикивала:
– Отпустите!
Теперь он тоже задыхался.
– Ребенок не от Александра, – выдавил он.
Ее бедра по-прежнему стискивали его руку, но отбиваться она перестала. Умолкла; просто лежала, часто дыша. Это возбудило его неописуемо – как всегда.
– У твоего возлюбленного муженька в двадцать пять лет была свинка. Он совершенно бесплоден. Поняла? Он не может.
Теперь она лежала, будто кролик на жертвенном камне; хватка ее бедер слабела. Взгляд сочился страхом и ненавистью.
– Он об этом не знает. Повезло тебе, а? – Он слышал собственный голос, вкрадчивый и пронзительный.
Ее мускулы обмякли, и он задвигал пальцами в великой суши ее промежности.
– Это будет наш секрет.
Она лежала, не пытаясь бежать. Он медленно убрал руки. Она не двигалась. Он принялся сколупывать с себя одежду. Она повернулась лицом к зеркалу и закрыла глаза. Он с торца взобрался на стол и раздвинул ей ноги. Глядя на себя в зеркало, взгромоздился на нее и ни звука не проронил, разве что в самом конце, когда излился в нее и, не отводя взгляда от зеркала, простонал:
– Аааах!
В одну роковую субботу ее измена с пленником открылась. Александр пришел к доктору Рэнкину и рассказал; заявил, что жаждет мести, и недвусмысленно пояснил, что мести одному-единственному пленнику из Лагеря Ноль не хватит, дабы смягчить его страдания. Он хотел уничтожить их всех и уже договорился со своим другом Якобом Грубахом, который, видимо, распознал свой последний шанс нанести удар тем, кто разрушил его семью и родину. Доктор Рэнкин не смог их отговорить, однако вынудил дать слово хотя бы немного подождать. Выберите удачный момент, сказал он, и я вам тоже помогу.
В полночь старый «мерседес» полз к востоку в холмы. Туман был непроницаем – оно и к лучшему, но ухабы на дороге пугали их, пугали до смерти. Когда они подъезжали к развилке, где дорога уходила на юг, туман так сгустился, что правое переднее колесо «мерседеса» соскользнуло и зависло, вращаясь над канавой. Долгую секунду они просидели не шевелясь и не дыша, затем Александр осторожно дал задний ход, пока все четыре колеса не вернулись на дорогу. Якоб Грубах, яснее прочих постигавший опасность, сидел зажмурившись. Доктор Рэнкин потел, хотя ночь стояла холодная.
Некоторое время ехали гладко, пока Александр не совершил нежеланную остановку на открытом участке. Выхода не было: прямо перед ними посреди дороги образовалось привидение – высокий юноша в одежде шахтера; белые брови, белые ресницы, длинные белые волосы. Несколько секунд он их рассматривал, затем шагнул вбок, пропуская машину.
– Это Свейнстон, – сказал доктор Рэнкин. – Он нас видел.
Александр на это не отозвался – он ехал дальше, и медленно-медленно они приближались к цели. Прошел, казалось, еще час, и они подкатили к дальнему берегу запруды Святого Жиля, невидимой в тумане. Берегом запруды был северо-восточный склон Утеса; больше сотни футов воды давило на каменную породу, под которой петляли какие-то выработанные тоннели Каррикской Шахты.
Александр Айкен остановил машину, вылез и открыл дверь Якобу Грубаху. Александр и доктор Рэнкин смотрели, как Якоб выполз сам, затем подхватил вещмешок, который баюкал всю дорогу из Каррика. Якоб пошел в тумане – пятьдесят ярдов до запруды, опасливо – только бы не споткнуться в папоротниках. Александр и доктор Рэнкин шли за ним. Подойдя к воде, Якоб осторожно опустил тяжелый вещмешок – вниз, вниз, в глубокую черную воду.
А потом они втроем со всех ног помчались от запруды назад к машине, ибо секунды эти были грозны. Якоб Грубах, сконструировавший бомбу, прежде не делал таких, чтобы таймер срабатывал под водой. Он не знал, не сдетонирует ли нитроглицерин преждевременно от самой воды или перемены давления, когда вещмешок пойдет ко дну.
Они ждал у машины, переводя дух. Тишина. Минут через пять они решили, что вещмешок, вероятно, уже утонул. Бомба в мешке взорвется наутро, в тот час, когда все пленники будут работать в нижней штольне Шахты, глубоко под запрудой Святого Жиля.
На обратном пути в Каррик Александр Айкен вел машину и безмолвствовал, лелея свою ненависть. Якоб Грубах разговорился: его вдохновляла мысль об отмщении тем, кто отправил его в изгнание. Что касается доктора Рэнкина, теперь, когда опасность миновала, он ничего не чувствовал – ну, разве что, может, любопытство ученого, который ждет результатов интересного эксперимента.
* * *
– И прекрасно все получилось, правда, жопа с ручкой?
Сей последний вопрос он адресовал мне. В этой спальне мне было весьма неуютно. Меня душили запах и жара, а также смехотворные нападки и общая омерзительность старого хрыча. Трудно поверить, что когда-то могущество его зиждилось на тайной сокровищнице его молчания. Мне хотелось бежать из этой комнаты и от этого человека, но еще хотелось яснее понять некоторые детали.
– Вы говорите, что велели Александру Айкену и Якобу Грубаху выбрать удачный момент. Верно ли я понимаю: вы решили, что момент настал, когда узнали о смерти мужчин Каррика на мосту через реку Морд?
Выпученные глаза доктора Рэнкина так выпучились, что я испугался, как бы они не выскочили из орбит.
– Ты почти угадал, мозги твои протухшие. Только не совсем. Момент так и не настал. Ты меня понял, башка недоумочная? МОМЕНТ—ТАК—И—НЕ—НАСТАЛ. – Он изверг это и умолк, пытаясь отдышаться. Когда он вновь заговорил, слова его были тихи, но ясны и точны – будто стрелы свистели мимо моих ушей. – Вообще-то Александр Айкен и Якоб Грубах взорвали Каррикскую Шахту за день до смертей на мосту через реку Морд. – По-моему, он торжествовал.
Что тут сказать? Я сидел, ошеломленный туманностью прошлого. Я изобрел причину и следствие, понятные и удобные. И совершенно неверные.
Доктор Рзнкин заметил, как я растерялся.
– Не строй мне тут невинную телицу, пиписька обормотская. Александр на один день предвосхитил потребность Каррика в отмщении. Он и Грубах убили пленников из Лагеря Ноль по своим причинам. Спустя сутки, когда стало известно о гибели мужчин Каррика на мосту через реку Морд, у всех горожан появились свои причины. Чуточку запоздали, но неужто друзья об одном дне не договорятся, а, трещоткин твой язык? Судьбе тоже полагается чувство юмора. Мы все решили: пускай история самую капельку себя перепишет.
Теперь в окно легонько постукивал дождь – словно малый барабан аккомпанировал докторовой тираде.
– С того дня от жены Александра никому не было проку. После рождения мальчика она умерла от… осложнений. – Он уставился на меня, дабы удостовериться, что я понял намек. Затем вяло ухмыльнулся: – Свидетельство о смерти составлял я.
Лицо его уподобилось черепу, ибо он смертельно устал – вампир с иссушенным сердцем.
Значит, вот это наконец – правда? – спросил я.
Правда, супница у тебя, а не голова? Правда? Говорить правду возможно, лишь когда не слишком много знаешь.
Сколько раз я слышал это в Каррике!
Он говорил, но голос его так поблек, что я с трудом разбирал слова:
Ну вот как южанину, вроде этого твоего друга комиссара, понять такие простые вещи?
Другой голос, жестче, вмешался у меня из-за спины:
– Так ты еще не помер?
Медсестра с угловатым телом разглядывала доктора Рэнкина. По лицу не разберешь, сколько она слышала; у нее лицо из тех, что с равным недовольством поглощают любую человечью повадку.
Доктор Рэнкин сильно осел в постели. Я не хотел наблюдать, как умрет еще один горожанин, даже такой; и пришла пора бежать от едкого запаха – он был так силен, что у меня слезились глаза. Я встал и принялся натягивать плащ. Доктор Рэнкин смотрел снизу вверх, выпуклые глаза следили за мной, пока я задавал последние вопросы:
– А при чем тут был Кёрк? Зачем Роберт Айкен всех отравил?
Улыбнулся он отвратительно.
– Мне об этом говорить не положено. Айкен тебе расскажет. Хорошо он меня в своем документе изобразил, а? – Это он громко прошептал. – Тебе страшно было входить, я же видел. – И потом забормотал, будто приберег эти слова для последнего штурма, а может, хотел избавиться от остатков: – Горшоквонючий! Жирдяй жопастый! Консервамолофьиная!
По-моему, это его взбодрило, но я ушел, ничего не сказав. Он меня больше не забавлял ни на йоту.
Вечером, когда пришел комиссар Блэр, я поставил ему кассету.
– Какой нелепый старик, – сказал я потом. – Одновременно глупый и злобный. Но теперь мы хотя бы знаем, что Александр Айкен придумал убить пленников мести ради, а Якоб Грубах изготовил бомбу. Однако это все в прошлом. Это не объясняет, что творится в Каррике в последнее время. Или объясняет? Порой мне чудится, что я многое знаю. А то чудится, что эти люди устроили нам экзамен, который невозможно сдать.
Комиссар утешал меня как только мог:
– Не терзайся. Все прояснится. Будь у нас отмычки к чужим мозгам, жизнь получилась бы чересчур проста. Ты сделал все, о чем тебя просили, и гораздо больше, чем удалось бы мне. Они тебе доверяют. – В голосе проскальзывало восхищение, однако ни намека на зависть.
– Комиссар Блэр, – сказал я. – Может, прежде чем я поговорю с Айкеном, имеет смысл пообщаться с другими горожанами – с Митчеллом, например, или с Камероном?
– Не выйдет, Джеймс, – ответил он. – По одной простой причине. Они мертвы. Почти все горожане мертвы. Анна, городовой Хогг, мисс Балфур и доктор Рэнкин– единственные, кто согласились побеседовать с тобой. Это чудо, что они дожили.
Чудо, подумал я. Да, видимо, не исключено, что чудо. Чудо в психушке.
– Но все по-прежнему в тумане, – сказал я. – Маловато деталей.
– В моей профессии, а равно и в твоей, слишком много деталей – это не обязательно хорошо, – сказал он. – Когда деталей слишком много, картина расплывается и становится похожа на любую другую.
Эту аксиому он повторял в Каррике несколько раз. Однажды мы сидели у меня, и я, сама наивность, поинтересовался, откуда у него столько необычных теорий – для меня, во всяком случае, необычных. В ответ он изложил мне пространную лекцию о сложностях теории уголовного права быть может, она кое-что проясняла и в его собственной позиции.
Лекция комиссара Блэра о теории уголовного права
(расшифрована с кассеты и сокращена мною, Джеймсом Максвеллом —
насколько я смог ее понять)
Он и сам был, пока его не назначили Лектором в Юридическую академию – читать теорию уголовного права.
Он великолепно провел пять лет младшим городовым в сомнительном сердце Старого Города – бродил по лабиринтам его переулков, занимал ум его тайнами. Но в академии он числился среди лучших студентов и знал, что начальство рано или поздно попросит его занять должность преподавателя.
Если б не воспоминания о Веронике, он был бы отнюдь не прочь вернуться в стены академии. Корпуса располагались в Новом Городе – хотя ему уже перевалило за сотню лет, – где элегантны городские дома и геометрически правильны круглые террасы. Бродить по нему, работать в нем означало раствориться в его удивительной мандале, что утешала и поддерживала Блэра.
Но даже за те краткие годы, что прошли со студенчества Блэра, все изменилось. Классическая архитектура корпусов академии – символов порядка и уверенности, – ныне служила маскировкой интеллектуальным ферментам, что бурлили внутри: традиционные теории уголовного расследования ставились по сомнение; прямо скажем, в некоторых прогрессивных кругах теории эти уже считались устарелыми.
Комиссар Блэр воспитал себя мастером вековых традиций: во-первых, проанализируй преступление; во-вторых, изучи место преступления; в-третьих, обдумай мотивы; в-четвертых, поищи улики; в-пятых, допроси подозреваемых; в-шестых и в-последних – составь описание преступника.
Сия трудоемкая и зачастую неэффективная метода ныне во всеуслышание отвергалась некими революционными теоретиками, что преподавали и проповедовали в неких заведениях на Континенте. Будучи в академии новичком, комиссар Блэр принужден был ознакомиться с новыми теориями; приступив к их изучению, он поразился, до чего радикально они отклонялись от традиции.
Инициатором мятежа стал человек по имени Фредерик де Нессэр. В своем трактате «Курс общей криминалистики» он поставил теорию уголовного права на уши простым тезисом: «Природа преступления решительно случайна и требует новых систем анализа». Эти системы, полагал он, могут зародиться лишь в том случае, если объектом пересмотра станет сам язык, коим следователь описывает преступление. Нессэр предложил ввести совершенно новую терминологию, построенную вокруг триады ПРЕСТУПИВШИЙ – ПРЕСТУПЛЕННЫЙ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ. По Нессэру, преступник был героем собственного преступления; естественно, повествование о нем должно указывать на этот базовый факт, а не искажать его в угоду следователю.
Некоторые последователи Нессэра, такие как Винсент Нагличек, пошли еще дальше и призвали к формальному структурному анализу преступлений, к созданию «системы различий» (выражение, использованное Нагличеком в основополагающей работе «Теория преступления»). Нагличек интуитивно угадал, что гений искусного преступника коренится в умении сделать «знакомое» преступление «незнакомым» – таким образом преступник, разумеется, продлевает следствие, но также доставляет извращенное (а может, не такое уж извращенное) удовольствие следователю, которому интеллектуальная загадка и видимая запутанность вариации только в радость. Структурный анализ позволит распознавать эти «незнакомые» преступления и укажет их место в архетипической истории преступности.
Ученик Нагличека Ролло Якобит в «Основах преступления» замечал недостаток объективности, заполонивший данную сферу. Он задумывался, «не зачарованы ли следователи суровыми субъективными доктринами. Ни один манифест, навязывающий преступлению вкусы и суждения следователя, не может являться субститутом объективного научного анализа». Базируясь на теориях Нагличека, Якобит указывал на «поэтику преступления», отмечая многообразные рецидивные типы структурных метафор либо метонимии. Тропы прослеживаются не только в преступлениях, но и в разнообразной человеческой деятельности, связывая их тем самым друг с другом. Он проиллюстрировал это примером, который ныне признан классическим:
Судья: Обвиняемый признан виновным в убийстве.
Адвокат: Обвиняемый не более убийца, чем вы. Разве все мы не убивали в своей жизни – комара, скажем, или бабочку? Когда мы идем по газону, разве не калечим мы и не убиваем тысячи растительных и насекомых жизненных форм?
Судья: Подобное сравнение лишено обоснованности.
Адвокат: На первый взгляд – да. Однако по сути своей, метонимически, все мы – убийцы существ, обладающих сознанием; просто решая вопрос, кого убить, мы сделали иной выбор, нежели обвиняемый. Многие восторгались якобитским учением, однако сформировалась новая группа теоретиков, ставивших под сомнение структурный подход к теории преступления как таковой. Лидером их стал Иржи Гоннади, автор «Образности в криминалистике». Он утверждал, что «идеологическая предвзятость анализа структур в ущерб содержанию переоценивает их объяснительную ценность». Гоннади считал, что фундаментальной важностью обладает значение преступления. Простой анализ преступления, розыск преступника, может, даже получение его признания никоим образом не объясняло преступления. Гоннади приводил в пример знаменитое дело грабителя книжных магазинов. Грабитель грабит два магазина в одном районе города, используя один и тот же modus operandi[9]9
Здесь: способ совершения преступления (лат.).
[Закрыть]. Его арестовывают, и он сознается в обоих ограблениях. В одном магазине, рассказывает грабитель, он просто обчистил кассу – топорный меркантильный поступок. В другом, говорит он, касса была пуста; поэтому он прошерстил книжные полки и набил рюкзак грудой ценных порнографических изданий, намереваясь впоследствии их продать.
В каждом случае, утверждает Гонпади, мотивы грабителя не слишком важны. Однако выводы из его поступков могут оказаться грандиозны. Первое ограбление – заурядное доказательство того, что известно всем и каждому: в нашем обществе деньги – привлекательный товар. Но второе ограбление, с точки зрения Гоннади, представляет огромный интерес: неученый представитель нижних слоев нашего общества способен распознать и оценить стоимость предмета, который мы риторики ради назовем произведением искусства. Безусловно, заявляет Гоннади, вот такие открытия («значения» преступлений) и должны стать центральным объектом наших исследований.
После Гоннади поле теорий только усложнялось. Яго Лонглак, к примеру, в своем «Психотике» доказывает, что «преступные действия структурированы, как язык, и язык этот может означать одно для преступника и совершенно другое – для следователя». Допустим, пыряние жертвы ножом в восприятии следователя может оказаться лишь очередным актом насилия. Но в восприятии преступника сам нож может являть собою фаллический символ, а пыряние – вторжение пениса. Гендерная принадлежность преступника, совершившего этот акт, может быть сугубо значимой или не иметь значения для одного или для другого (то есть для преступника или следователя); или даже для третьего лица – (почти забытой) жертвы.
Кульминационной фигурой среди новых теоретиков выступил Яспер Дорреми. Свой великий опус «Преступление и различие» он завершил нижеследующим язвительным пассажем: «Я принимаю мир преступлений, лишенных вины, истины и источника, открытый нашим рьяным интерпретациям». Тем самым он подразумевал, что до сих пор проблема какого бы то ни было следствия коренилась в том, что оно строилось вокруг допущения следователя – островка безопасности, на котором следователь стоял извне и отдельно от расследуемого преступления. Однако нет такого островка, провозгласил Дорреми. Всякое преступление зависит от следователя, как и следователь от преступления – будто стержни циркуля.
Впоследствии Дорреми оплодотворил (или породил – ему нравилась такая двусмысленность) целую школу теоретиков, выступавших за «освобождение» следователя. Он никогда не уставал повторять студентам: «Изобретайте интересные решения! Это – и только это – ваш долг. И думать забудьте о соотношении. Не важно, как соотносится разгадка с преступлением, абсолютно не важно».