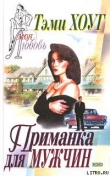Текст книги "Мистериум"
Автор книги: Эрик Маккормак
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Допив второй стакан, Кёрк медленно встал и сказал, что должен идти – завтра вставать спозаранку.
– Сколько вы пробудете в Каррике? – спросила Анна.
– По крайней мере пару месяцев. Надеюсь, что вновь увижу вас. И вас, Айкен. – И Кёрк вышел из бара на совсем одеревенелых ногах.
Анна смотрела, как за ним закрывается дверь, и потом не отвела взгляда, будто видела, как он идет через вестибюль и хромает вверх по темной лестнице к себе в номер.
– Что думаешь, Роберт Айкен? – спросила она. – Похоже, он милый человек. Похоже, с ним можно подружиться.
От Кёрка у меня сосало под ложечкой; но я видел, что Анне он понравился.
Я спрашивал себя, как всегда, если Анну интересовал другой мужчина, смогут ли они стать великим двуглавым зверем – любовью.
– Да, похоже на то, – сказал я, добавляя еще один кирпич в стену ее «похоже». – Время покажет.
Около десяти я проводил Анну до ее лавки. Теперь шел дождь, холодный дождь. И, я был уверен, туман стал намного плотнее, чем раньше, когда мы шли в «Олень». Я сказал Анне об этом; она ответила, что я ошибаюсь. У дверей поблагодарила меня за ужин, но не пригласила зайти, как это иногда случалось.
По-моему, я не слишком расстроился.
Стало быть, этот разговор в «Олене» произошел через несколько дней после того, как я увидел Кёрка сквозь витрину Аптеки. И когда Монумент потерял лицо (уместное выражение), я счел необходимым пойти в Околоток и сказать городовому Хоггу, что лучше бы последить за нашим гостем из Колонии. Мне от него как-то не по себе, сказал я.
Городовой посоветовал оставить заботы ему.
Что касается Монумента, попытки ремонта сильно изменили его. Гипс, что заполнил выбоины в разрушенных лицах, превратил фигуры в грозных зомби. Впрочем, сей эффект подчистую стирался гипсовым треугольником у свинцовой женщины в промежности: теперь Свобода как будто натянула трусы.
Как раз в то время, когда чинили Монумент, я пересказал Анне свой сон о колли – о том, как я бил собаку, а та все не умирала. Мы с Анной сидели в кафе.
– Может, нечто пытается выйти из тебя, а ты его не пускаешь, – сказала она. – Или же ты пытаешься что-то из себя выгнать, а оно не уходит.
Ее толкования моих снов (если я их ей пересказывал) всегда были невероятно проницательны. Сама Анна снов никогда не помнит – во всяком случае, так говорит. Но она столь глубоко разбирается в странностях сновидений, что я даже не знаю, верить ли ей.
Сидя в кафе и спокойно попивая кофе, я заговорил о том, что занимало мои мысли:
– Я слышал, вы с Кёрком очень подружились за прошлую неделю.
Анна была невозмутима:
– Да, подружились.
Я не спросил ее, правда ли, что она приглашала Кёрка к себе или что она провела ночь в его номере в «Олене». Митчелл мне об этом уже сообщил.
– Анна, я на тебя надеюсь. Мы все надеемся.
– Я знаю.
И больше мы об этом не разговаривали.
Прошла неделя после надругательства над Монументом, а в Каррике больше не произошло ничего необыкновенного. Я был занят в Аптеке, но мельком рано по утрам часто видел, как Кёрк из Колонии с удочкой и коробкой проходит мимо Монумента и сосновой рощицы наверх, к холмам. Дни были в основном холодные, или пасмурные, или с дождем, или с туманом, или все вместе. Любопытно, каково Кёрку в такую погоду.
Утро восьмого дня – воскресенья – разметало безмятежность, пустившую корни в Каррике.
В ту ночь я вновь спал беспокойно, и еще до рассвета меня разбудил какой-то стук. Оказалось, это воздушная пробка в трубе с холодной водой, упрятанной в стену за моей кроватью. Я немного поворочался, снова ища дорогу в сон, которого толком не мог вспомнить. Но от усилий втиснуться в это бесконечно сужающееся отверстие я лишь становился бодрее.
Я встал и сварил кофе, дабы выгнать холод из тела. Только я начал пить, как опять застучало – на сей раз с первого этажа. Кто-то барабанил в окно. Я глубоко вздохнул и спустился в полутьму Аптеки. На улице я различил фигуры в дождевиках и с фонарями; среди них был городовой Хогг.
Я открыл дверь. Шел дождь, и утро еще не посветлело. Улица лоснилась от тумана.
– Роберт. Я рад, что ты не спишь, – сказал городовой. – Можешь пойти с нами? Что-то случилось на кладбище.
Я осмотрел их всех – двенадцать мужчин в плащах и зюйдвестках, безликие, как монахи, но узнаваемые по фигурам: я увидел Готорна, Кеннеди, Камерона и Томсона.
– Через минуту я буду готов.
Пока мы шли к кладбищу – милю на запад от Каррика по горной дороге, – городовой Хогг рассказал мне, что случилось.
– Камерон ехал из Ланнока в тумане с утренним хлебом. Посреди дороги валялся камень, Камерон в него едва не врезался. Вылез, чтобы его сдвинуть, – но это был не камень.
Больше никто не разговаривал; только скрипели сапоги по дороге. Скрип стал громче, когда миновали то место, где дорога пересекает остатки древней стены, про которую Кёрк спрашивал меня в тот вечер в «Олене». Это просто-напросто земляной вал, покрытый булыжником, – точно огромная десна с поломанными зубами. Люди построили его тысячу с лишним лет назад, и он опоясывает нашу землю миля за милей. Говорят, в стену эту замуровывали тела живых девственниц, дабы она простояла века. Теперь никто уже не помнит, от чего должен был защищать этот вал – от того, что внутри или же снаружи.
За стеной мы прошли болота, наполненные многовековым зловонием. В детстве мы воображали, будто это смердит грязная вода, что просачивается в болото с кладбища. Нам нравилось, как эта жижа липла к ногам, отчего мы переступали дерганпо, словно марионетки. Мы представляли себе, как некий болотный демон пытается затянуть нас в трясину.
После болота лучи наших фонарей осветили дорогу у кладбища. Мы увидели обломки, на которые наткнулся Камерон. Не камни, но осколки вдребезги разбитой могильной плиты; и чуть дальше – безрукая и безголовая статуя.
Мы прошли на кладбище. Ему тоже много столетий; оно окружено каменной стеной высотой по грудь. По краю стены причудливые железные цепи связывают горгулий. Группа наша, двигаясь медленно, плохо видела, что творится впереди: лишь несколько надгробий словно бы пришпиливали собою края тумана к земле. За границами наших лучей таились темные контуры. Может, то какие-то существа склонялись над могилами; но мы знали, что это всего лишь кусты.
Чугунные ворота были приоткрыты. Городовой Хогг толкнул мокрую решетку, распахнул ворота пошире, вытер руки о дождевик и вошел.
Мы шагали за ним по центральной аллее между захоронениями. В свете наших фонарей различались могильные холмики, от которых поднимался пар, и ряды надгробий. (Мой отец, Александр Айкен, называл их «указателями выхода». «Некоторые люди всю жизнь ищут свой указатель», – говаривал он.) Многие могильные камни сделаны из бетона и разрушаются немногим медленнее, чем тела тех, чью память увековечили; другие же, изваянные из мрамора, свидетельствуют, сколь камень прочнее плоти.
Мы все дальше углублялись на кладбище, но ничто не казалось необычным – разве что наше присутствие здесь в такое время суток.
Потом городовой Хогг в нескольких шагах впереди меня обо что-то споткнулся. Его фонарь осветил лишенную тела женскую голову с ярко-красными губами. Хогг пихнул ее сапогом, по мы не увидели ни крови, ни разорванных жил на шее. То была голова статуи, но рот ее густо намазали помадой.
Разрушения только начинались. Далее дорожку, по которой мы шли, усеивали разбитые вдребезги надгробия, черепки погребальных урн, сломанные кресты и ангельские крылья. Труд поколений каменотесов и скульпторов лежал в руинах.
Посреди кладбища мы наткнулись на кольцо из побитых и выкорчеванных мемориальных досок. В центре кольца один каменный ангел возлежал на другом; лицами они утыкались друг другу в промежности. На спине верхнего ангела ярко-красной краской из баллончика был нарисован жирный круг размером с суповую тарелку.
– Я насмотрелся, хватит, – сказал городовой Хогг. – Вернемся, когда рассветет.
И мы двинулись в обратный путь, держась вместе и стараясь не споткнуться о разбросанные обломки. У ворот на одной из боковых дорожек мы увидели свежевырытую могилу.
– Давайте глянем, – сказал городовой.
Мы неохотно подошли с ним к могиле и посветили фонарями.
Яму частично завалило землей. Лопата с длинным черенком, какой работают могильщики, лежала рядом на куче глины, и городовой Хогг ее подобрал. Наклонился и несколько раз копнул свежую землю в могиле.
Мы все смотрели вниз и своими глазами видели, что произошло. На самом деле нам следовало это предсказать, посмеяться – только дети верят, что подобное может случиться в такую ночь и в таком месте. Под нашими взглядами земля сама собой зашевелилась, будто нечто ворочалось внизу, толкало ее изнутри. И вдруг она прорвалась, и наружу высунулась волосатая рука" с раздвоенной ладонью – она дрожала от напряжения, пытаясь дотянуться до нас.
Я не помню, у кого первого сдали нервы, но кто-то побежал, и остальные бросились за ним. Только городовой Хогг, Камерон и я не побежали, но все же довольно быстро пошли через ворота и дальше, по дороге в Каррик. Я бы шел быстрее – и я видел, что Камерон так же нервничает, – но городовой Хогг сдерживал нас, не обращая внимания на наши страхи.
Когда мы добрались до Каррика, мужчины, которые убежали, стояли и ждали нас возле Околотка. Парк был покрыт туманом, и большинство домов терялись во мгле – различимы были только Церковь и Библиотека; они проступали, точно гигантские гири, не дающие улететь этому эфемерному миру. Городовой Хогг отпер дверь, и все мы – те, кто бежал и кто не бежал, – вошли и стали ждать рассвета.
Весь этот день и почти всю неделю горожане искали на кладбище обломки, даже мельчайшие, чтобы восстановить доски и скульптуры. Будто собирали огромную головоломку. Многие надгробия после восстановления стали похожи на треснутую яичную скорлупу; другие кое-как склеились, точно покореженные здания в городе после бомбежки.
Горожане особо старались сложить могильные надписи, ибо в Каррикс существует традиция: когда умирает кто-то из членов семьи, натирать имя, высеченное на памятнике, кровью оставшихся в живых родственников. Надгробный камень моего отца разлетелся на столько кусков, что не стоило и пытаться его восстановить. Доска на могиле родителей Анны была разбита не так сильно, и я предложил Анне помощь.
Она поблагодарила, но сказала, что ей уже вызвался помочь Кёрк.
Никто, насколько я видел, даже не притрагивался к кольцу из камней в центре кладбища. Два ангела все так же лежали друг на друге, головами в промежностях, будто герои некоего эротического мифа.
Что касается волосатой руки, тянувшейся к нам в то сумеречное утро, – при свете дня мы увидели, что это лишь копыто дохлой овцы, все еще неуклюже торчащее наружу. Мы недоумевали, как туда попала овца. Кэмпбслл, могильщик, сказал, что, насколько он понимает, в этой могиле никакой человек похоронен уже не будет; он оставил овцу в яме и закидал остатками земли.
Я счел необходимым нанести визит городовому Хоггу. Я вновь рассказал ему о своих подозрениях насчет Кёрка. Я обратил его внимание на то, что не все надгробия изуродованы вандалом одинаково: в некоторых случаях варварство было совершенно дикое – например, с памятником моему отцу, Александру. Я надеюсь, также сказал я, что городовой обратит особое внимание на круг у ангела на спине.
Он неловко заерзал своим грузным телом, и его короткая шея покраснела.
– Я видел все, что видел ты, Роберт. А теперь прошу тебя: позволь мне действовать так, как я считаю нужным. – Деревянный стул под ним отчаянно заскрипел.
– Может быть, мы хотя бы проведем заседание Совета? – спросил я.
Он, как это часто бывало, стал водить глазами вокруг, словно боялся испепелить взглядом меня или то, на чем задержится его взгляд.
– Я подумаю.
Как-то вечером на той же неделе перед самым закрытием в Аптеку зашла мисс Балфур, тоже член Совета. Ей понадобилось лекарство от пчелиных укусов; ее (как и многих горожан)ужалила пчела, спутавшая времена года. Было непривычно видеть мисс Балфур в Аптеке, хотя она часто захаживала, пока жив был мой отец, Александр. Она помогала присматривать за мной, когда я был маленьким.
– Позволь мне спросить, каковы твои соображения по поводу всего этого, Роберт, – произнесла она, очень старательно выговаривая слова. Мисс Балфур носит свитера с высоким горлом, чтобы прикрыть родимое пятно на шее; нередко оно злорадно высовывается, когда мисс Балфур говорит; это случилось и теперь. – Пожалуйста, просвети меня.
Соображения по поводу чего? – спросил я.
Этого жуткого членовредительства. – Она посмаковала это слово. – Кто из нас способен учинить подобное зверство? Наши сограждане никогда бы не стали осквернять свое прошлое.
– Возможно, стоит провести заседание Совета, – сказал я. – Быть может, нам необходимо поговорить о том, что происходит. – Я дал ей лекарство; и, пока она отсчитывала деньги при свете лампы на прилавке, я обратил внимание, как костлявы ее пальцы под кожей.
– Я согласна с тобой, Роберт, – сказала она. – Я поговорю с городовым. Я очень боюсь, что дальше будет только хуже.
Я смотрел сквозь стекло, как она выходит в Парк. На мгновенье она растворилась в темноте, пока фонарь по ту сторону Парка не вернул ее к жизни.
Вскоре после ее ухода я запер дверь (теперь все мы в Каррике стали запирать двери и окна) и пошел ужинать в «Олепь». Кёрка не было видно ни в столовой, ни в баре; я поел в одиночестве и около восьми отправился обратно в Аптеку. Вечер стал пронзительно холодным; город затих – быть может, ждал, что случится.
Проходя лавку Анны, я заметил свет в ее комнатах на втором этаже. Я подумал, не постучать ли, как я сделал бы еще недавно; теперь же я засомневался и отбросил эту мысль.
Под дверь Аптеки была подсунута записка. Я поднес ее к свету из окна и прочел слова, написанные массивным почерком:
Роберт,
Заседание Совета отн-но приезжего из Колонии.
Завтра в 4 у доктора R.
Хогг
На следующий день, когда я вышел из Аптеки и направился на заседание Совета, небо огромным темным валуном громоздилось на вершинах восточных холмов. Я шел к доктору Рэнкину и машинально вел рукой по костлявой живой изгороди вдоль дороги. Дом доктора – приземистое двухэтажное здание из гранита; двор прятался от улицы за железной шипастой оградой. Выкрашенные красным ступеньки перед дверью, увитой плющом, – словно помада на губах под усами.
Миниатюрная женщина – вылитая монашка в наряде горничной – открыла на мой звонок; она служила доктору, сколько я себя помню. Она проводила меня в кабинет, где вдоль стен выстроились книжные шкафы красного дерева, заполненные тяжеленными томами по медицине. Книги поглощали весь свет, что с трудом просачивался в узкое окно, выходящее к северу.
Мои коллеги по Совету сидели за овальным столом. Городовой Хогг нервно ворошил бумаги. Лицо мисс Балфур смотрело в окно, но родимое пятно на шее было обращено ко мне.
Не успел я сесть, как появился доктор Рэнкип. Это худой маленький человечек; ему около семидесяти. У доктора тяжелая походка, словно когда-то он был толст (он никогда не был толст) и его тело еще не успело приспособиться к легкости. Доктор сел в свое кресло с высокой спинкой и кивнул городовому Хоггу – дескать, можно начинать заседание.
Городовой прокашлялся. Ему всегда неловко произносить слова – будто они слишком малы и его большое тело не в силах с ними совладать. Когда городовой говорит, невольно представляешь в целом мирное жвачное на Пастбище, что хвостом отмахивается от мух.
Роберт и мисс Балфур беспокоятся насчет человека из Колонии, Кёрка, – сказал он, оглядывая стол. Колибри не умеют бить крылышками быстрее, чем городовой Хогг машет ресницами. Потом он снова посмотрел в бумаги; его вступление, к большому удовольствию доктора Рэнкина, закончено. Теперь все в моих руках.
– Оба происшествия имели место вскоре после приезда Кёрка, – сказал я. – Он задает слишком много вопросов о Каррике. Суть в том, что я ему не доверяю.
– Он часто приходит в Библиотеку, – сказала мисс Балфур. – С первого своего визита проявил огромный интерес к нашей истории. – Как всегда, мисс Балфур выговаривала слова так четко, что они сошли бы за бритвенные лезвия. – Он особенно интересовался здешней ситуацией во время Войны. Разумеется, я сочла, что мой долг – показать ему, где располагаются подходящие книги. Я поступила неподобающе? – Ее родимое пятно высунулось и пропало, будто играя в прятки.
Городовой Хогг с огромным усилием заговорил снова:
– Митчелл за ним присматривает. Говорит, что Кёрк подолгу сидит в номере, когда не бродит по холмам. – Его глаза метнулись ко мне. – Они часто в номере. Кёрк и Анна.
Я молчал, хотя два этих имени вонзились мне в мозг, точно дротики. Я ждал, что скажет доктор Рэнкин. Когда мы принимали решения, последнее слово нередко оставалось за ним. Он прокашлялся и наконец заговорил – почти шепотом:
– Кёрк из Колонии как раз заходил ко мне вчера. Показал мне карты уровня воды в водоемах. Хотел знать, откуда мы берем питьевую воду. Засыпал вопросами о запруде Святого Жиля. – Доктор неопределенно взмахнулхудыми пальцами правой руки; казалось, его собственные ногти чем-то его удивили, и он несколько секунд их рассматривал. – Кёрк особенно интересовался, почему закрыли Шахту. – Доктор пальцем потер переносицу.
В детстве, лежа на спине на смотровом столе, я изо всех сил цеплялся за него руками, потому что боялся улететь в эти перевернутые венерины мухоловки – докторовы ноздри. Когда-то я верил, что невозможно обмануть человека, который знает тайны плоти так основательно, как доктор Рэнкин.
– Я рассказал ему не больше, чем рассказал бы любому, кто задал бы этот вопрос, – промолвил он. – Но Кёрк остался недоволен. Нам всем должно проявить сугубую осторожность.
– Очень хорошо, – кивнул городовой. – Я послал в Центральное Управление по Безопасности запрос о Кёрке. Они любят таинственных персон не больше, чем мы. Нам еще нужно попытаться выяснить, чем он занимается в холмах. Согласны?
Мы были согласны, и заседание Совета быстро завершилось – как это и бывало обычно. Меня всегда увлекали эти заседания – так много сказано и так мало слов произнесено.
Гуськом мы вышли на улицу, в темноту и холодную изморось – предвестницу, быть может, снега. В Парке мы простились и разошлись: мисс Балфур – открывать Библиотеку, работавшую по вечерам; городовой Хогг – в Околоток, к вечной своей бумажной работе; а я – в Аптеку, смешивать компоненты для пчелиного эликсира. Потом – банка супа (у меня не было настроения идти в «Олень»), книжка, мои раздумья – и сон.
Назавтра после заседания Совета наступило первое февраля. Рано утром Митчелл зашел в Околоток и сообщил городовому Хоггу, что Кёрк заказал на обед бутербродов: это означало, что он уходит в холмы на целый день. Городовой, в свою очередь, пришел ко мне. Отмстил, что это удачная возможность – я могу пойти за Кёрком и понаблюдать, чем он занимается. Так я и сделаю, сказал я.
То было редкое для зимы утро – ясное и почти не холодное. Светило солнце, и рано вставшие горожане делали вид, будто знают, как полагается вести себя при солнечной погоде, и улыбались друг другу на улице, огибавшей Парк. Чужака эта перемена погоды могла одурачить – внушить надежду, что дальше будет еще лучше. Но мы-то знали, что клубы тумана, лежащие по лощинам высоко в холмах, поднимутся, словно тесто, и разольются по всей долине еще до того, как опустится ночь.
Я стоял у витрины в резиновых сапогах, пил кофе и смотрел. Около девяти я увидел, как Кёрк вышел из «Оленя» на солнечный свет. В зеленом походном свитере и сапогах; на плече висела все та же черная жестяная коробка. Однако он не изображал рыболова – удочку больше с собой не таскал.
Кёрк быстро зашагал на восток; я сунул бинокль в карман плаща, повесил в витрину табличку «ЗАКРЫТО» и отправился вслед за Кёрком. Соседи, гревшиеся на солнышке, кричали мне вслед слова ободрения. Проходя лавку Анны, в окне я увидел хозяйку; но стекло сияло на солнце, и лица мне разглядеть не удалось.
К востоку от города полмили дорога постепенно идет в гору до самой развилки. Затем она превращается в тропинку, покрытую гравием. Южное ответвление вьется по склону холма мимо нескольких домов; вторая ветка, что идет к Шахте, ныне совсем заросла. По ней-то и направился Кёрк. Эта тропинка ведет на северо-восток, минуя Утес – ближайший из холмов, которые называются Костяшки (в старой балладе поется, что рядом с Карриком похоронен демон, и эти холмы – Костяшки на его левом кулаке).
Я шел поодаль, примерно на четверть мили отставая от Кёрка, и не остановился, даже когда Кёрк сошел с дороги и зашагал по нехоженой земле. В холмах в такой день легко было за ним следить; однако приходилось осторожничать, потому что с такой же легкостью он мог увидеть меня.
Вскоре мы забрались довольно далеко – к болотам у подножия холмов. Всякий раз, когда на пути попадался ручеек или речка, Кёрк на несколько минут останавливался. Один раз он спугнул болотных птиц, те захлопали крыльями, заголосили, и Кёрк обернулся. Я рухнул в папоротник, зарывшись носом в его землистый запах. Когда я поднял голову, Кёрк уже шел дальше. Знает ли он, что за ним следят, спрашивал я себя. Может, он даже знает, кто за ним следит, и решил играть свою роль, раз уж я играю свою.
Теперь я уверился, что он направляется к запруде Святого Жиля и старой Шахте и идет кружным путем – вдоль дороги, за Утесом. Я решил срезать прямо к северу, через болота, где идти короче и опаснее.
Сюда мой отец, Александр, ходил собирать растения. На этих болотах растет утесник, из которого отец готовил мочегонное и обезболивающее; тут есть заросли редкого черного вереска, который отец добавлял в микстуры от кашля – запах вереска такой стойкий, что я слышал его даже в тот февральский день. Здесь же растет карликовый орляк – рвотное средство, которое может оказаться смертельным, если его неправильно приготовить.
– Лекарство может стать ядом, – часто говорил мне отец, когда я учился ремеслу, – а яд – лекарством. Забавно, правда? – Он никогда не смеялся, произнося эти слова.
Четверть часа я пробирался по болотам и наконец дошел до сухой земли и Монолита. Монолит – скала высотой в двадцать футов, осколок каких-то древних смещений темной коры. Погода и время покрыли выбоинами ее южный склон. Я полез вверх очень осторожно, потому что выбоины эти заросли толстым слоем мха. Когда я скользнул во впадину на вершине, мой сапог пробил во мху водяной глазок, который уставился в небо.
Я умостился как можно удобнее и навел бинокль на болота севернее Утеса. Я видел, как вдали блестит запруда Святого Жиля, и еще дальше, за ней– рубец дороги и старую Шахту. Через некоторое время из-за Утеса показался Кёрк.
Поразительно интимное ощущение – наблюдать за кем-то в бинокль. Кёрк шел, а я видел, как шевелятся его губы и он улыбается, будто рассказывает себе что-то смешное или умное. После одной такой беззвучной тирады он остановился у ручья, и я отчетливо разглядел, как он занимается своим ремеслом. Кёрк открыл черную коробку, вынул стеклянную пробирку и зачерпнул ею воды. Потом отмерил в пробирку какого-то порошка из бутылки, взболтал, поднял пробирку к небу и внимательно рассмотрел. Потом выплеснул воду обратно в ручей и сполоснул пробирку. Вынул записную книжку и черкнул в ней пару слов. Я видел его так четко, что, поверни он страницу под другим углом, я мог бы даже прочесть, что он пишет.
Кёрк закрыл коробку, выпрямился, потом медленно развернулся и посмотрел в сторону Монолита, встретившись со мной глазами. Я быстро нырнул за выступ. Лежал и думал: он ведь не мог увидеть меня с такого расстояния. И спрашивал себя: что же он может увидеть?
Некоторое время я не показывался. А когда снова посмотрел, Кёрк, ко мне спиной, уже дошел до поляны неподалеку от запруды Святого Жиля и Шахты. Он медленно обходил ее, глядя в заросли папоротника.
Это место я тоже хорошо знал. В детстве вместе с другими мальчишками мы устраивали в этих папоротниках поиски. Хоть что-то нашел один лишь Камерон, когда ему было лет двенадцать. Подобрал монету со странной надписью и принес домой. Его отец забрал ее и велел нам всем забыть, что она существовала.
Тишину рассек свист. Воздушные потоки принесли его сначала ко мне, потому что я стоял выше. Кёрк услышал его мгновение спустя и посмотрел на север. Затем помахал. Я провел биноклем по дремотным папоротникам и вереску, по серым овцам, кляксами разбросанным по склону, по черно-белому яркому пятну – двум колли. Потом навел окуляры на того, кто свистел, – человека в темной кепке, сдвинутой на затылок, и клетчатом шарфе, обмотанном вокруг шеи.
Мое сердце рухнуло прямо на холодную скалу. Свистел Адам Свейнстон.
Я наблюдал, как они с Кёрком идут друг к другу через торфяник, словно мухи, что преодолевают просторы стола. В бинокль я видел, как они встретились, пожали друг другу руки, потом сели в зарослях папоротника. Свейнстон вынул трубку и закурил; Кёрк развернул бутерброды и начал есть. Одно было ясно: эти двое встречаются не впервые.
Я увидел то, зачем пришел. Я осторожно спустился со скалы и двинулся в обратный путь – по болотам до Каррика. Некоторые жители так и стояли в Парке. Они воззрились на меня с любопытством; но я не стал ни с кем разговаривать и пошел прямо в Околоток. Те же люди смотрели, как мы с городовым Хоггом вместе вышли из Околотка и направились к Анне в лавку. И они все так же смотрели, когда мы оттуда вышли. К тому времени миновал полдень, и все устроилось.
В тот вечер в «Олене» Митчелл отвел меня в номер рядом с комнатой Кёрка. Отодвинул в сторону гардероб и показал мне в стене аккуратное отверстие на уровне глаз. Ковер под отверстием был изрядно вытоптан.
– Сегодня пользуйтесь, – сказал Митчелл, оставляя меня.
Через отверстие, сквозь решетку и вазу с бумажными тюльпанами, я видел большую часть номера Кёрка. Поэтому я устроился и стал ждать. Ждал я долго.
Время тянулось, и я уже было решил, что потеряю целую ночь. Но около одиннадцати я услышал голос в коридоре и занял свой пост. Через дырку я увидел, как дверь в соседний номер открылась и вошли Кёрк с Анной. Он говорил, она молчала. Он включил свет и закрыл дверь, отгораживаясь от всей остальной вселенной. Кёрк обнял Анну и поцеловал.
– Анна, Анна. – Я слышал, как он снова и снова повторяет ее имя.
Она прошептала ответ, не предназначенный для моих ушей.
Все еще стоя, Кёрк бережно стянул с нее через голову зеленый свитер; потом стал нащупывать застежку на лифчике. Но тут Анна сказала:
– Подожди минутку, – потянулась и выключила свет.
Какое разочарование: моя любовь к ее наготе никогда не меркла.
Минуту я слышал только шуршание и шепот в темной комнате, скрип кроватных пружин. Потом в свете уличных фонарей проявились контуры письменного стола, стула, двери. И постепенно стали видны их тела на постели. В комнате стояла душная жара, им незачем было укрываться одеялами. Он что-то отчаянно ей говорил – мне казалось, слова нежности и страсти. Потом две фигуры слились в единое корчащееся существо, белое чудовище о многих конечностях. Корчи стали быстры и ритмичны, слышались судорожные вздохи и знакомые вскрики Анны. Потом чудовище опять распалось на два существа – они лежали, не двигаясь. И через некоторое время до меня донеслись голоса: Анна и Кёрк тихонько беседовали.
Я слушал их и завидовал этому обмену словами в близости больше, чем физической любви. В основном говорил Кёрк – тычась в Анну; время от времени я, кажется, слышал, как он говорит «люблю» – однако не улавливал ее ответа. Но вскоре Анна села и – я знал, что она так сделает, – громко сказала:
– Ты должен мне кое-что сказать, Кёрк. От этого зависит очень многое. – Она сделала глубокий вдох. – Это ты учинил весь этот вандализм?
Долгая пауза.
– Почему ты спрашиваешь? – откликнулся Кёрк. Голос измученный.
Но Анна твердо выучила свое задание:
– О чем ты говорил с Адамом Свейнстоном?
Она сидела, обхватив руками колени, и ждала ответа; свет с улицы мягко освещал ее тело. Кёрк по-прежнему лежал.
– За мной следили?
– Что тебе говорил Свейнстон? – Анна была непреклонна.
Он ответил далеко не сразу и вновь вопросом на вопрос:
– Анна, ты знаешь, что произошло здесь, в Каррике, очень давно?
– Ну при чем тут ты? – Она почти умоляла его: – Почему ты не можешь об этом забыть? Пожалуйста, оставь это.
– Не могу.
Тогда я должна оставить тебя, – сухо сказала она.
– Раз должна, значит, так тому и быть, – ответил он.
Когда он произнес эти слова, было около полуночи. Я видел, как Анна встала с кровати и на ощупь пробралась вдоль стены к двери, к выключателю. Нашла его, включила свет и принялась одеваться, не думая о том, чьи взгляды, быть может, наблюдают за ней.
Кёрк тоже вылез из постели; его жилистое тело было намного темнее, чем ее. Он хотел проводить ее домой, но она сказала, что прожила в городе Каррике всю жизнь и найдет дорогу без помощи чужака. Делая вид, что помогает ей одеться, Кёрк гладил Анну, водил руками по ее телу, будто пальцами просеивал семена. Она отвела его руки, закончила одеваться и ушла, не сказав больше ни слова.
В темноте, после того как Анна ушла, Кёрк долго стоял у окна. Текли минуты, но он не двигался: думаю, смотрел, как она идет через Парк, входит в лавку. Потом он снова очень медленно лег в постель.
Уже далеко за полночь я спустился вниз, миновал пустой вестибюль и вышел на улицу. Хорошая погода сменилась туманом и холодной моросью. Туман в Парке был таким густым, что на той стороне всё будто стерли с лица земли. Я пошел длинной дорогой – освещенной. Забавно было смотреть, как под каждым фонарем моя тень убегала от меня, торопясь спрятаться под крышкой темноты.
Во вторник, шестого февраля, в полдесятого утра, я стоял за аптечным прилавком и готовил новую партию особого отцовского эликсира. Зазвонил телефон.
– Роберт. – Звонил городовой Хогг. – Приходи в Библиотеку. Тут что-то случилось.
Из окна я уже видел, как Анна идет через Парк; я поскорее застегнул плащ и поспешил наружу, чтобы пойти вместе с ней. Утреннее солнце (то, что от него оставили восточные облака) затмилось оранжевым нимбом. Воздух был спокоен. Мы вброд пересекли лагуну низко висящего тумана. Монумент был рострой затонувшего корабля; дымчатые каналы разделяли дома на дальнем берегу.
У входа в Библиотеку мы пробрались сквозь стайку встревоженных горожан. Я сказал им, что мы знаем не больше их. Мы взошли по шести вытертым гранитным ступеням к тяжелой деревянной двери, я открыл ее и пропустил Анну вперед; мы поднялись по гулкой лестнице на площадку, затем через стеклянную дверь прошли в саму Библиотеку.