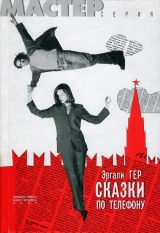
Текст книги "Наталья"
Автор книги: Эргали Гер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– Так что я, согласно полученным указаниям, активно провожу политику невмешательства, – благодушно доложился Сапрыкин.
– За меня выпей, – попросил Николай и положил трубку.
Женщины вскоре прибыли. Николай по очереди обнялся с бабушкой, теткой, стараясь не дышать на них скверной, затем тетка под руку подвела бабушку к пьедесталу – и ничего не случилось: Серафима Никифоровна кивнула, словно обнаружила в гробу именно то, что собиралась увидеть, опустилась на ближайшую скамью и, стянув варежку, долго расстегивала негнущимися пальцами верхнюю пуговицу пальто. Растерянно постояв над нею, Николай обернулся навстречу Наталье – та, влетев в зал, на полпути к пьедесталу охнула, будто наткнулась на что-то, зажала ладошкой рот и с перекошенным лицом по дуге, стороной обошла гроб.
– Что, не очень-то, да? – прохрипел он, угадывая в своем голосе звероподобного санитара из морга и вместе с тем благодарный Наталье за нормальную, единственно человечью реакцию.
– Бог мой, – выдохнула Наталья, зажмурилась и отвернулась.
– Все нормально, все нормально, – свистящим полушепотом бормотала Полина, подходя к ним и лихорадочно пресекая панику, – все нормально. С косынкой – это ты молодец. А где венки? Надо нести, скоро двенадцать.
Они сходили за венками, потом Николай показал Наталье комнату с телефоном, где можно было курить, а сам подсел к бабушке.
– А Оленьку она не взяла, – посетовала бабушка на Наталью. – Тяжело, говорит, ребенку.
– Вот еще – ребенка сюда тащить! – морозить только, – с готовностью откликнулась тетка, на что бабушка согласно и обреченно кивнула, послушная и ненадежная, сама как заболевший ребенок. Николай тоже закивал, воспринимая их реплики как информацию о вчерашнем, уже отгремевшем споре.
Потихоньку стал приходить народ. Пришла неразлучная парочка, старинные мамины приятельницы – тетя Нина и тетя Шура, – они так и состарились на пару, пройдя сквозь неудачные замужества и короткий двадцатилетний период выращивания детей; пришли соседи по подъезду, грачанские старухи приехали, еще кто-то, потом – большой командой, человек семь явились его ребятки, послеармейская компания в полном сборе: постояли, потоптались и вышли в холл, где можно было курить. Николай вышел с ними, поздоровался со всеми за руку, прослушал сводку новогодних гулянок и возвратился к бабушке. В зале сидели и стояли человек двадцать. Маловато народу, подумал он с нарастающим ощущением провала… Бабушка о чем-то спросила, он ответил. Маловато, маловато народу. Надо было взять у Натальи пудреницу и припудрить эти багровые пятна на скулах, – впрочем, кому все это нужно, думал он, пожимая чьи-то руки, принимая соболезнования, поглядывая на часы, но и время застыло между двенадцатью и часом, никак не могло доплыть даже до середины. Вдруг как-то сразу, шаркающей тихой толпой запрудило зал – институт пришел,пояснила Полина бабушке, та кивнула и с любопытством стала разглядывать передние, близко надвинувшиеся ряды. Душно, сладостно запахло цветами, потом кто-то слева дыхнул на Николая куревом, он оглянулся – Наталья села рядом с ним на скамью родственников. Вид у нее был отчаянный, словно она на эшафот взошла, но Николай, которого позавчера еще вели к Полине задами, и к новому ее виду отнесся с невнимательным безразличием. В динамиках под потолком негромко, красиво играла органная музыка, оплакивая чью-то нездешнюю, замечательную кончину – музыка перетекала в сферах, а внизу, ближе к мощенному керамическими плитками полу, шаркали подошвы, шептались старухи, бродил надсадный простуженный кашель, и голые стены гулко разносили его по залу. Плотной толпой стояли мамины сослуживцы. Николай ревниво пытался определить – по лицам – насколько чудовищно превращение мамы в труп, но ничего не проглядывало в сослуживцах, кроме скованности и озабоченности надлежащимвыражением лиц. Только у тех, кто впервые входил в зал, мелькало неодолимое тягостное любопытство, но вскорости оно утолялось, черты деревенели, и люди, толпой стоявшие у гроба, один за другим заражались обыденнейшим из чувств – скукой. Кто-то опускался на лавки, кто-то не смел, мужчины уходили курить, женщины – подышать свежим воздухом и выговориться. В общем, маялись все. Никто толком не знал, как должно держаться на этом странном мероприятии, обозначенном в рапортичке ритуального дома как «гражданская панихида» – на этом бессмысленном, явно вредном для нравственного здоровья людей коллективном просмотре трупа. Николай, оказавшийся почти в эпицентре смотрин, физически ощущал пустоту в себе и вокруг – голую, как стены зала, холодную серую пустоту. Хотелось спрятаться, переждать эти тягостные смотрины, и было неловко перед людьми, которые, должно быть, с лучшими чувствами шли сюда, с человечьими чувствами, но под сводами ритуального комбината немели и теперь стояли стесненно, пряча глаза, с неестественно напряженными лицами – нечаянные статисты бездушного, убогого действа. «Скорей бы все кончилось», – подумал Николай откровенно, но и время завязло в этой холодной, нечеловеческой пустоте.
Он ушел в комнату родственников, присел на диван с инвентарным номером на подлокотнике, огляделся. Нежилье надвинулось, по родственному обступило со всех сторон: стены без окон, голый стол, пепельница, два стула. Пустой, мутный графин на холодильнике. Цементный пол. Позапрошлогодний воздух. Холодный застойный запах курева.
А все-таки тут было легче, чем на людях.
Сидя на жестком серо-зеленом, с въевшейся в обивку известковой пылью диване, Николай безучастно проникался холодом нежилья и отдавал ему собственный бездушный холод. Разницы температур не ощущалось. Беззаконное, преступное тождество этого каменного мешка и существа, в прошлом теплокровного, казалось окончательным приговором. Он сжал лицо ладонями, закрыл глаза и в полыхнувшем свете увидел длиннорукого санитара, по-медвежьи топчущегося, колдующего над желтыми, оскаленными, распластанными на оцинкованных столах жмуриками;вдруг санитар воровато оглянулся – взгляды их встретились – и Николай, содрогнувшись, испуганно открыл глаза.
10
А потом время сдвинулось, разменяло «мертвый час» гражданской панихиды и пошло вперед рывками, толчками, словно механизм его застоялся и никак не настраивался на ровный тик-такающий бег. За порогом ритуального дома распахнулся морозный солнечный день, над крышами просиял роскошный клин чистого голубого неба. «Вона как прояснело-то на дорожку!» – пропел звонкий женский голос за спиной Николая; оцепенение спало, и даже в салоне катафалка, над утопающим в цветах гробом, ощущалось общее, не сказать радостное, но оживление. Двое сидевших напротив Николая парней, из тех, кто помогал нести гроб, возбужденно комментировали следование колонны по городу – автобусы и легковушки отстали, «лиазик» с траурной полосой по борту в одиночестве трусил накатанным маршрутом на кладбище. Слева от парней, придерживая на коленях горшочки с геранью, тихонько судачили о чем-то своем тетя Нина и тетя Шура; и сам Николай, захваченный общим азартом, с томлением уходящего навсегда смотрел на запруженные транспортом, заляпанные январским солнцем улицы, по которым в последний раз везли маму.
Сверху, с Семеновской горки, город мелькнул напоследок преображенным, чеканным, похожим на многопалубный многотрубный лайнер, на всех парах уплывающий вместе с белой рекой и белыми полями заречья в льдистые голубые дали – мелькнул видением и исчез. Пошли поля, черные перелески. За перелесками, далеко-далеко, красиво смотрелись серебристые конструкции нефтеперегонного комбината. В Николае, прильнувшем к сизому от солнца стеклу, на мгновенье шевельнулась стыдливая, недоверчивая благодарность к тому, в кого он не верил, но кто, кажется, лучше всех принял маму, кто ведал добром и светом, этой воистину чудесной переменой погоды, о какой даже он, сын своей матери, не смел для нее просить. Яркий слепящий свет заливал землю от края до края, снега пылали белизной, звонким голубым колоколом висело небо. В прозрачном воздухе высверкивали золотинки – то ли иней оседал, то ли мелкие, невидимые глазу снежинки – и горела вдали высокая, коптящая свеча нефтеперегонного факела.
Близи и дали сомкнулись в округлое целое, струящее свет и лазурь. Чувствовалось, что в природе свершается нечто великое, тайное, больше похожее на встречу, нежели на прощание. Люди в своих заляпанных, по-муравьиному ползущих машинах казались маленькими слепыми исполнителями чисто механического ритуала, включенного в совсем другое, недоступное их пониманию действо, о подлинных масштабах которого можно было только гадать, ощущая в себе невольный трепет, подавленность и томительное, тревожное беспокойство, словно что-то об этом слиянии выси и бездны, об этом леденящем космическом величии, об этом осознании собственной малости должно было помнить и знать. Но не давалось, не помнилось ничего.
«Вот видишь, все у тебя хорошо, – сказал он маме, но слова утекли в пустоту – мамы уже не было с ним, не с ним была мама и не здесь. – Ну и ладно, – пробормотал он обиженно. – Я рад за тебя».
Подъехали к спящему, придавленному тяжелым снежным серебром кладбищу, остановились. Народ высыпал из автобусов, разобрал цветы и венки и, протаптывая тропу для шестерых мужчин с гробом, полез по склону наверх, туда, где между березкой и двумя соснами выросла свежая песчаная насыпь. Живые и пластмассовые цветы замелькали в зимнем лесу. Возле насыпи, перед зияющим провалом ямы, гроб поставили на две табуретки, крышку сняли и прислонили к сосне. Стали полукругом, плотной толпой; какое-то время слышались только общее тяжкое дыхание да хруп снега, затем вперед протиснулся главный инженер института, закашлялся, сказал «простите» и сообщил, что сегодня хоронят Надежду Ивановну Калмыкову. Слушатели, привычно цепенея, уставились в пустоту перед собой – «жизнь Надежды Ивановны была неразрывно связана с нашим институтом» – и так, замкнувшись, прослушали до конца шелушащийся набор слов. И озадаченно постояли молча, когда речь кончилась. Больше никто не выступал.
Вдруг Серафима Никифоровна подалась вперед, в толпе загудели, Наталья и Николай едва успели подхватить ее под руки.
– Подведите меня, я хочу попрощаться, – твердым голосом сказала бабушка, не глядя ни на кого; ее подвели, она положила маме на лоб свою желтую костлявую ладонь, провела по волосам, попыталась потрепать покойницу по щеке, но щека оказалась слишком твердой для бабушкиных негнущихся пальцев. Николай в оцепенении стоял подле, вокруг всхлипывали. Он подошел последним, ткнулся губами в холодный мамин лоб и вложил ей в руку дивную черно-красную розу, невесть как при нем оказавшуюся. «Нельзя, нельзя», – зароптали в толпе. «Нельзя цветы в гроб», – отчетливо сказал кто-то; Николай смутился, забрал розу и отступил. «Нельзя так нельзя», – пробормотал он, оглядываясь на Наталью, – та кивнула, взяла его под руку, а когда гроб на полотенцах опустили в могилу, шепнула: «Бросай!» Он посмотрел на нее, она сказала: «Розу». Он бросил и отошел. Кто-то вложил ему в руку горсть песка, он опять подошел и бросил – песок был мерзлый, комковатый, – а потом все стояли и смотрели, как ловко два парня в телогрейках закапывают маму звонкими, остро отточенными лопатами.
11
Домой вернулись на институтских автобусах, уже без «лиазика», налегке. По лестнице, устланной сухими еловыми лапками – чью-то новогоднюю елочку раскурочили, сообразил Николай – поднялись на пятый этаж, въехали возбужденной толпой в квартирку – человек восемьдесят, не меньше, – побросали в коридоре одежки, бочком да рядком втиснулись за столы, а кто не втиснулся – большинство – остались ждать своей очереди на ногах, запрудили коридор и лестничную площадку. Николая внесло в общем потоке, так что обстановку он изучал как бы наново, вместе со всеми. Маленькая комната пошла под склад лишней мебели, в гостиной появился мамин портрет, убранный траурной лентой, зато исчез ковер. Под портретом стояла вчерашняя рюмка водки с хлебом и солью, лежали конфеты, бумажные цветы; все зеркала в квартире занавесили простынями. Лихие Натальины девицы напекли горы блинов, наварили кутьи, киселя, намешали кучи салатов с винегретами и продолжали азартно сновать между кухней, где что-то конвейерным методом пеклось, шкварчало, дымилось, и комнатой, а не по-хорошему возбужденный Сапрыкин был при них вроде распорядителя: кого-то усаживал, а кого и осаживал, блюл возрастную, родственную иерархию, следил за водкой и самолично ею распоряжался, в гордом одиночестве удаляясь за ней в другую комнату, на балкон. Злой, черный огонь сжигал Сапрыкина, он казался не то чтобы трезвым, а вот именно что в своей тарелке – не пьянел, а только обугливался – а еще он был похож на марафонца, правильно распределившего силы на всю дистанцию: по его цепкой внутренней собранности легко просчитывалось, что водки на балконе оставалось очень даже изрядно.
В два или три захода гости выпили, закусили, иные даже по нескольку раз. Через полчаса все уже говорили одновременно. Трезвые головы отсеялись, прочие расположились вольготней, задымили, почувствовали соседа, и много было сказано маме вслед хороших искренних слов. Тот же главный инженер выступил совсем не так, как на кладбище, а сказал настоящую прочувствованную речь о том, как молоды они были когда-то, как сутками не выходили из лаборатории, конструируя свое первое, теперь уже легендарное издельице,такое простенькое и невинное по сравнению с нынешними, и как славно жили в те годы – дружили семьями, ходили в походы, делили на всех радость и горе, а Николая называли «сыном полка». И никто ни словом не обмолвился о последнем мамином выборе – об этом, точно по уговору, не говорили совсем.
Николай как сел между бабушкой и Натальей, так и просидел бог знает сколько, соображая плохо, с трудом, однако соображая все-таки, что его пахоте конец. Водка с морозца пилась как вода, не обжигая и не шибая запахом; он выпил с первым заходом гостей, потом со вторым и третьим, но не пьянел, а только грузнел и невольно вздрагивал всякий раз, когда хлопала туалетная дверь. Об этом он не подумал, когда определял место поминкам – не ожидал, что так болезненно будет аукаться посещение туалета гостями. Самое потаенное, самое уязвимое оказалось доступным каждому, и тут уже было – не переиграть; что-то съеживалось в душе всякий раз, когда гости входили и выходили из туалета, и от беспомощности делалось совсем уж безразлично и не стыдно, как бывает только во сне.
– Коленька, ты бы не пил столько, – удивленно заметила ему бабушка. – Гложет и гложет, как заправский питух, – поделилась она с Натальей, на что Наталья, сама сильно порозовевшая, с каким-то не вполне понятным оживлением возражала:
– Да не бойтесь, Серафима Никифоровна, ничего ему не сделается. Вот мы ему картошечки, картошечки, только закусывать не забывай, слышишь?
– Слышу, – отвечал он, слыша уже с трудом, уже отъезжая прочь от застольного гомона, от гостей, от щелканья замка в туалете. Сквозь ватный туман и гул вдруг донесся до него надтреснутый голосок-колоколец – господи, беда-то какая! —Николай вскинулся, оглядел грачанских старух, кучно сидевших за Натальей, но угадать среди них старушонку, третьего дня нашептавшую ему эти слова прямо в душу, не сумел: все они казались на одно лицо в своих одинаковых черных платочках, все шушукались под хмельком и одинаково покачивали головушками, а две, сразу за Натальей, на пониженных тонах препирались, можно ли молиться за упокой некрещеной души: «Можно, – утверждала первая, – только очень сильную веру надо иметь», а другая сомневалась и что-то нашептывала на ухо явно вредное, а что – не удавалось расслышать, слишком много вокруг народа говорило одновременно о маме, Черненке, афганских непонятных делах, годовых премиальных и сколько положено ждать, пока осядет землица.
– А по мне, так за всех можно молиться, даже нужно, – вклинилась в пересуды соседок Наталья, – потому как Богу всякий человек дорог. Тем более здесь, в России. У нас ведь уже третье поколение некрещеных, а все равно – и доброта не перевелась, и многие живут, по крайней мере, стараются жить, по совести. Значит, не это главное.
– Не это, не это, – радушно закивала соседка, а оппонентка ее напыжилась и изрекла:
– Позаросло все бурьяном да лопухами, а туда же – огород, огород…
– А если негде крестить? – вспылила Наталья. – А если родители неверующие? Разве можно детей казнить за своих родителей?
– Верно говоришь, – раздался над ними голос Сапрыкина, опускавшего сверху на стол бутылку водки. – Сын за отца не отвечает, это еще Иоська сказал.
– А я отвечаю, – буркнул Николай недовольно.
– Спокойно, – тихо скомандовала Наталья, а Полина, в свою очередь, негромко присоветовала ей:
– Нат, ты тоже не заводись, сворачивай это все потихоньку…
И скосила глазки на институтских.
Наталья кивнула.
– А ты сама, Наташ, ты крещеная? – спросила ее соседка.
– Я? Я – крещеная.
– А я – нет, – с вызовом сказал Николай.
– Вот видите! – Наталья ущипнула его повыше локтя и принужденно рассмеялась. – Я и говорю – пол-России некрещеных, неужто дадим пропасть?
– Уаре надо молиться, Уаре-великомученику, завсегда ему молились за некрещеных, – нараспев сказала одна из старушек, третья от Натальи.
– Какому еще Уваре, Анна Марковна? – оживились грачан-ские. – А ну, давай, просвети.
– А такому, – охотно откликнулась польщенная вниманием Анна Марковна, – который там, на небесех, главный ходатай по некрещеным душам. Который самой Клеопатре-царице некрещеных сродников отмолил.
Николай, узнав старушонку по голосу – это был тот самый колокольчатый голосок, – попытался разглядеть ее, хотя взгляд уже с трудом фокусировался на объекте: да, это была она, грачанская шептунья, третьего дня так искренне поделившаяся с ним его же бедой, только сегодня она уже приняла рюмочку и прямо-таки сияла приятной старушечье-девичьей, чуть лукавой улыбкой, и маленькие ее глазки замаслились от выпитого в тепле.
– Надо же, самой Клеопатре! – Полина, похоже, начинала терять терпение. – А знаешь ли ты, Марковна, когда жила твоя Клеопатра? Она еще до рождества Христова жила, при самом Юлии Цезаре, и не только при самом, а прям-таки, извини, с самим. Так что не сходятся у тебя концы с концами никак. Это из тебя, Марковна, древние мифы посыпались пополам с бабушкиными сказками…
– Кино надо смотреть, бабуся, кино! – выкрикнул какой-то бесцеремонный парень с другого конца стола, но тут уж и Серафима Никифоровна не выдержала, фыркнула, разразилась репликой в своем когдатошнем стиле:
– Напридумывают же!.. Конец двадцатого века, а у них то Клеопатры, то наговоры, то заговоры, то, понимаете, домовые по чердакам так и шастают, как кошаки! Хоть бы при гостях меня не позорила, Аннушка! Ты в каком веке живешь?
– Это верно: темные мы, темные, ничего-то про эти дела не знам, – призналась за себя и за всех соседка Натальи. Женщина она была рослая, мощного сложения и еще не старая, сидела прямо, скрестив руки на груди, и возвышалась на грачанском конце стола вроде степного истукана. – Иной раз и захочется помолиться, да не просто так, не своими словами, а как положено, и чтобы все было как положено, а как положено – и не знает никто. Из темноты вышли и в темноте сгинем, вот и весь сказ.
Старушонка Анна Марковна всем в ответ кивала и улыбалась своей лукавой улыбкой, словно соглашаясь со всеми, словно радуясь каждому обращенному к ней слову, а потом вдруг сказала своим колокольчатым голоском:
– Отжили мы свой век, Серафимушка, а за нынешним разве угонишься? Только порастрясешься, как сено с возу – ни людям, ни Богу, а на дорогу… Пора, Серафимушка, собираться совсем. Уже и детки наши в одной земле лежат, а мы все по ухабам да по ухабам…
– Земля им пухом, деткам, – деловито подхватила женщина-истукан. – Земля им пухом, касатикам.
Анна Марковна согласно кивнула, за ней, замешкавшись, и Серафима Никифоровна:
– Земля им пухом…
Все потянулись к стаканам, выпили в тишине, потом опять заговорили-загомонили. Вскоре начался повальный исход гостей. Первым, как водится, откланялось и убыло начальство, за ним и прочие мамины сослуживцы разъехались по домам жить дальше. Из институтских остались только теткины подруги да случайная мужская компания, человек пять одетых, с пыжиками в руках – этих задерживал тот самый горластый молодой человек, рекомендовавший Анне Марковне кино про Клеопатру с Цезарем.
– Пошли-пошли, Виктор Леонидович, пора и честь знать, – упрашивали его в несколько голосов. – Вы уж простите, он парень хороший, просто на это дело немного слаб. Давай, Витюш, отрывай свою эту самую!..
– Не могу! – радостно признавался пухлощекий, добродушного вида Витюша, улыбаясь и дурашливо дергаясь: видите, мол, не оторваться ни от стола, ни от стула. – Прилип, ребятки! Пока на посошок не приму – ну никак!
– Давай, не тяни, – соглашались одни, другие говорили «будет, хватит», третьи сконфуженно разводили руками, извиняясь за сослуживца, один Витюша под шумок замечательно сокрушался и хлобыстал то на посошок, то на правую, то на левую ножку…
– Давай, братан, – веско произнес Сапрыкин, подсаживаясь и кладя руку Витюше на плечо. – Давай по последней, а там, так и быть, помогу тебе оторваться…
– Да что вы, зачем, не надо, – институтские, почувствовав исходивший от Сапрыкина запах серы, засуетились. – Мы сами, вы только не обижайтесь, он мировой парень, щас мы его… Кончай, Костюгов! – Витюшу затормошили, схватили под мышки, нахлобучили на голову шапку, но Сапрыкин, ни на кого не глядя, отрезал:
– Я сказал – по последней! – и так-таки хлопнул с Костюговым по полстакана, только потом отдал товарищам на поруки.
– Изгаляешься? – мрачно поинтересовалась Полина, когда Костюгова вывели, но Сапрыкин, завертевшись, куда-то слинял без ответа.
– Кажется, утром жена этого парня звонила, – припомнил Николай. – Просила пить не давать.
– Теперь-то уж чего, – сказала Полина. – Прямо детский сад пополам с дурдомом…
Чуть погодя засуетились, засобирались, расцеловались и завеселевшей стайкой отправились на вокзал грачанские старики и старухи. По уходе их бабушка прилегла на диване в маленькой комнате; Николай, посидев в кресле подле нее и послушав, как успокаивается ее свистящее, постанывающее дыхание, тихонько вышел, прикрыл за собой дверь и задумался. Идти не хотелось ни в комнату, ни в кухню, куда потихоньку откочевала вся молодежь; вдруг раздался входной звонок – он пошел в прихожую открывать. За дверью обнаружился опять-таки Костюгов, тот самый, только немного другой: всклокоченный, без шапки, с замерзшей ухмылкой и остекленевшим орлиным взором.
– А вот и я! Извини, если что… Можно? – спросил он, не двигаясь с места, хотя Николай отступил, пропуская гостя. – Сделаем одну, а? Только одну, за Надежду Ивановну… Идет?
– Проходи, – сказал Николай, глядя своими пустыми глазами в остекленевшие глаза Костюгова, но снизу уже топали, пыхтели, уже кричали, взбегая по лестнице:
– Назад, Костюгов!
– Кончай, ты что обещал?!
И даже:
– Стой, сукин сын, ни с места!
– Одну только рюмочку, мужики, одну! – взмолился Костюгов, почему-то не решаясь нырнуть в квартиру, и тут настигли его, схватили за руки, поволокли вниз раздосадованные сослуживцы – арестованный Костюгов изворачивался и вопил своим приставам:
– Мужики! Братцы! Юрий Николаевич, Саня, только одну! Последнюю, Саня, за здоровье Надежды Ивановны и точка, завязываем, мужики! Саня!
– Молчи, идиот! – ответствовал, должно быть, Саня, а на пороге вместо Костюгова возник взъерошенный парень с двумя шапками в руках, прижал обе к груди и стал извиняться за сотоварища.
– Все нормально. Все нормально, – повторял Николай каким-то не своим, смурным голосом.
– А что такое, что случилось? – заволновались у него за спиной; Николай захлопнул дверь, обернулся к Сапрыкину и Толику Шварцу, бывшему своему однокласснику, и тем же новым, не совсем своим голосом произнес:
– Ничего, все нормально, ребята шапку забыли.
Сапрыкин булькнул горлом, развернулся и пошел по коридору обратно в большую комнату, а Толик Шварц повел Николая на кухню, куда набилась, чуть ли не в два этажа, молодежь: вся Николаева команда, в основном парни, плюс Натальины девицы-волшебницы. Образовалась гремучая смесь, компоненты которой в сплошном дыму активно реагировали друг с другом. Николая уважили, посадили на табуретку, с которой вспорхнули Егор и Зойка, выпили с ним за маму, потом – потом оставили, слава богу, в покое, возобновили прерванный треп; Николай, оказавшись среди своих, благополучно выпал в осадок. Голову стягивало горячим тяжелым обручем, в теле стоял сплошной стон, лом, звон; вдобавок ко всему, сообразил Николай, он просто-напросто жестоко устал. А гремучая смесь вокруг опять пошла реагировать: кому-то некуда было положить руку, разве что на плечо соседке, кому-то облили водкой единственное приличное платье и подол платья затрепетал, приоткрывая очень даже приличные ножки, а водку здесь доставали не посредством Сапрыкина, а из холодильника, по-свойски. И вся эта разгорающаяся возня, вся эта, никакими смертями необоримая, молодая охота к жизни перла и перла, взбухала на водке, набирала обороты, чем-то напоминая Николаю отъезжающий куда-то в ночь и в сторону поезд – маму проехали, оставили одну в мерзлой земле и ехали себе с песнями дальше. Даже его, бродягу, пригрели в своем купе.
Он встал и пошел.
– Ты куда, Калмык?
– Пойду прилягу, умаялся. А вы бы шли в большую комнату, там только свои остались. И закуски навалом, – говорил он, пробираясь по ногам вон из кухни.
Бабушка во сне постанывала и посвистывала. Он опустился в кресло подле дивана, закрыл глаза и в полыхнувшем свете увидел длиннорукого санитара, по-медвежьи… «Ни фига, – сказал он, открывая глаза. – Этот номер не пройдет, паря». Комната, заставленная лишней мебелью, опрокидывалась плавно, вроде кузова самосвала, а то начинала воздушно оборачиваться вокруг оси, будто подвешенная. «Но это водка, – подумал он. – Это нормально».
За дверью, в коридоре, послышались шепотки, топот, скрип половиц – ребята из кухни перебирались в большую комнату. Потом дверь открылась, вошла Наталья.
– Спишь? – спросила она шепотом.
– Нет.
Она присела на подлокотник кресла, прислушалась к сиплому, тяжкому дыханию бабушки.
– Умаялась, бедная… Ты в порядке? Ты просто хочешь побыть один, да?
Он кивнул.
– Ладно, – согласилась она, наклонилась и поцеловала его долгим влажным Натальиным поцелуем, когда-то моментально вышибавшим все пробки в юноше Калмыкове. Поцелуй был, как полет камня, брошенного в глубокий колодец, с очень дальним, нездешним всплеском из прошлой жизни. Николай, прижатый к спинке кресла, сидел в продолжение полета недвижно и безучастно, и руки его лежали как лежали, бессильно и неподвижно.
– Я совсем пьяная, – призналась Наталья, убирая прядь за ухо, потом легко встала и вышла.
А он остался сидеть. Поцелуй звучал еще долго – и на губах, и отголосками, шепотками в крови. «Хорошо бы заснуть, – подумал он. – Чепуха какая-то».
Хорошо бы заснуть и не думать о длинноруком медведе в белом халате. Он осторожно прикрыл глаза: тотчас белым пятном проступило мертвое, чужое лицо в гробу, оттаявшие мамины волосы. «Бедная, что с тобой сделали», – сказал он, хотя что-то мешало называть мамой то, что захоронили на кладбище. Просто наперед выскакивали всякие такие обкатанные слова, умеющие заговаривать, завораживать боль и страх, вот он и говорил, но потом понял, что называет боль и страх условными, ненастоящими именами, испугался и не выдержал, открыл глаза. Не получалось спать. Не получалось сна. А только провальная, бездонная жуть.
Потом вошла тетка.
– Спит?
– Спит.
Тетка вздохнула, прикрыла за собой дверь.
– Что будем делать, малыш? Может, оставим ее здесь?
– Я не сплю, – хриплым механическим голосом объявила бабушка. – Уже встаю, Полечка. Сейчас.
– Вот и хорошо. Вставай, мама. Я пошлю кого-нибудь из ребят за такси. Как ты себя чувствуешь?
– Я хорошо отдохнула, – так же механически произнесла бабушка.
– Вот и хорошо. А ты поспи, малыш. – Полина наклонилась к нему, потрепала по волосам и шепнула: – Сапрыкину водки не давать, понял?
Он сказал «угу».
– Остальное, мол, на девять дней, – подсказала тетка, с тем и ушла.
– Чего? – не поняла бабушка.
– Та-а…
– Застегни мне сапоги, – попросила Серафима Никифоровна, спустив ноги на пол.
Николай застегнул, сел рядышком, пока она переводила дух и смотрела в пол, додумывая со сна свою тягучую угрюмую мысль, потом помог бабушке встать, а сам завалился на ее место.
– Пора, – сказала бабушка, додумав мысль до конца. – Пора собираться. Посмотри там черный платок, пожалуйста. Спасибо. А ты что, опять остаешься?
– Угу, – сказал он, укрываясь пледом.
Она озадаченно посмотрела, потопталась на своих слабых ножках, но ничего не сказала, заковыляла к двери.
– А это правда, бабуль, что церковь грачанскую дед Иван взрывал? – спросил он, закрывая глаза.
– Церковь? – удивилась Серафима Никифоровна, подумала, потом спросила: – А что это ты?
– Мне мама рассказывала, давно еще.
– Чепуха. Церковь военные взрывали, саперы, а Иван только присутствовал, по должности. А ты что, вроде Полины – тоже в верующие подался?
– Да нет, – заверил он мрачно. – Только какого черта вы эту мафию трогали, не понимаю.
– А тогда все трогали, сынок, – сказала бабушка, и эта странная обмолвка – «сынок» – царапнула слух. – Ты же знаешь, какие были перегибы, ладно бы только церковь… – Она оперлась на ручку двери, перевела дух. – Ты завтра появишься?
– Обязательно.
– Приезжай пораньше, – сказала бабушка. – Все трогали – такое время было. Разобрали по кирпичику церковь, сложили школу, а из школы – всех на войну…
Бабушка потопталась, словно еще хотела что-то сказать, потопталась и вышла. А он остался лежать.
Он лежал в темной комнате под пледом, истерзанный, совсем один. В огромной заледенелой стране без предела, в огромном запущенном фабричном городе, в маленькой темной комнате, загроможденной мебелью, больной звереныш. Человек без мамы. Засыпая под деловитую, слаженную суету приборки – за дверью подметали, выносили на кухню и мыли посуду, складывали столы – он думал о том, что если лишение себя жизни считается великим грехом, то и нелюбовь к себе тоже, по логике, неугодна Богу. По логике. «Это можно сформулировать математически», – думал он, и не слышал, почти не слышал, не пожелал услышать, как тихо, на цыпочках, вошел Сапрыкин, шепотом спросил:
– Колян, я возьму бутылочку на похмел, хоре? – и, не дождавшись ответа, прошел к балкону, потом бесшумно вышел.








